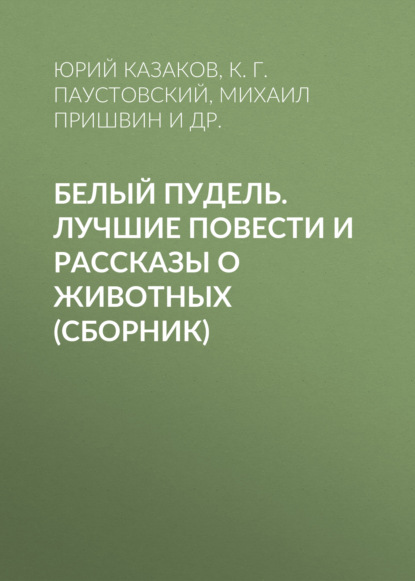- -
- 100%
- +
– Спаси, спаси, спаси!
Над рекой серебрится туман, откуда‐то раздаются смех и бормотание, но прислушивайся не прислушивайся, слов не разобрать: голоса смяты ветром, теряются в приглушенных скрипах деревьев, шелесте облетающих листьев, звоне схваченной инеем травы. Небо темнеет, затягивается, клубится тучами, набухает дождем, вот-вот – и начнется гроза.
Надо уходить до разгара бури, пока еще видно дорогу назад. Пытаюсь встать – и не могу. Голова кружится, меня ведет – ощущение, что я на карусели, и она крутится все быстрее и быстрее, и сейчас меня стошнит, точно стошнит. Все вокруг растекается кляксами – и река, и небо, и высокий человек на другом берегу. Лица не разглядеть, глаз тем более, но кажется, будто его взгляд забирается морозом под кожу.
«Слышала про хозяина леса? Слышала, малая?» – посмеивается кто‐то голосом Лисы.
«Если он тебя приметил – поминай как звали», – шепчет на ухо.
«За исполнение любого желания нужно платить», – бормочет.
Боже, что я наделала! Зачем сюда пришла?!
– Пойдем, – поворачиваюсь к Юре и вскрикиваю. Его глаза – мутные и застывшие, как у мертвеца, лицо – серо-зеленое, из носа по синеватым губам и подбородку течет кровь. – Надо идти! Давай, идем, ну же! – трясу Юру за плечо, но он молчит, раскачивается из стороны в сторону, он и в сознании, и нет, кажется, еще чуть-чуть – и рухнет замертво.
«Поминай как звали, поминай как звали, как звали, как звали…»
Заставляю Юру подняться, закидываю его руку себе за плечо, и дыхание перехватывает от тяжести полуживого тела. Раз, два, три, четыре – давай, Жень, считай шаги, просто считай и ни о чем не думай – пять, шесть, семь – черт! – меня заносит. Врезаемся в дерево, раздается треск разбившегося стекла – видимо, это циферблат часов, – и мы падаем.
Кажется, я больше не смогу встать. Если я нужна лесу, если он хочет выпить меня до конца – может, пусть так и будет? Может, лучше не сопротивляться, может, лучше лечь и уснуть навсегда, напитать собой деревья, прорасти по весне иван-чаем, растечься цветочным шепотом над рекой?
Но я вижу, как Юрино лицо становится все бледнее и тусклее – и внутри разгорается злость. Юра здесь из-за меня, только из-за меня, – и я не прощу себя, ни живую, ни мертвую, если с ним что‐то случится. Ярость растекается веселым электричеством по мускулам, дает силы подняться. Заставляю Юру снова обнять меня за плечо и иду, иду, плачу – и все равно иду, пока не оказываюсь в Околесье.

Кто нас нашел, кто развел по домам – не помню, как я легла в кровать – тоже. Утром следующего дня просыпаюсь и чувствую себя так, будто выздоравливаю после долгой болезни. Взрослые смотрят беспокойно. Говорят, что мы с Юрой оба с самого утра «никакие», «чудные», «пришибленные», словом, мы не мы.
– Может, обследование сделать, железо проверить? Не могла же наша дочь вчера сама себя довести до такого состояния! – беспокоится папа.
– Гулять уходили нормальные, живые дети, вернулись полутрупы! Еще и часы угробили. Жень, ну что за свинство, а? Федор Павлович ругается, говорит, вещь дорогая, ценная, Юре на день рождения подарили! Никакого уважения к деньгам! – хмурится мама.
– Чем вы там накачались, прости господи? Что за дети пошли! – ворчит бабка.
– Юрочка еле до кровати доковылял, так головка болела. Бегаю всю ночь проверяю – грешным делом думаю, вдруг не дышит кояшым 4. Только под утро оклемался, – жалуется Юрина мама моей по телефону.
Папа весь день заваривает мне сладкий чай, читает стихи и рассказывает истории, но мне впервые сложно сосредоточиться на папиных рассказах. Я думаю только о Кате. Неужели все зря? Неужели лес не поможет? Неужели она не вернется? К вечеру, когда я почти теряю надежду, раздается телефонный звонок.
Кате стало лучше. Она возвращается домой.
Возвращается ко мне.

«Вернулась», – неоново горят красно-оранжевые розы в руках.
«Вернулась», – утреннее солнце такое яркое, что наворачиваются слезы.
«Правда вернулась?» – спрашивают Юрины глаза. «Вернулась, вернулась, вернулась», – одним взглядом отвечаю ему я и звоню в дверь. Тетя Света забирает розы, морщится – «у Катеньки от цветочного запаха может разыграться мигрень», – говорит разуваться, раздеваться и «хорошенько вымыть руки – вот так, с мылом, Юра, еще раз давай, Катеньке сейчас инфекции не нужны», не шуметь – «Катенька жаловалась с утра на головную боль», долго не задерживаться – «Катеньке нужен покой».
Катя лежит в пропахших больницей и ладаном сумерках, сереет осунувшимися щеками, но стоит нам встретиться взглядом, как ее глаза загораются родным изумрудным огнем. Сажусь рядом, переплетаю Катины холодные пальцы со своими, забываю про все запреты тети Светы, говорю, говорю, говорю и не могу остановиться. Рассказываю про Лису и лес, про Юру, про все, что с нами случилось у реки, а Катя вдруг перебивает и замечает как будто невпопад:
– Мама говорит, мне сейчас лучше не принимать много гостей – могу переутомиться. Осложнения после травмы и все такое.
Смущаюсь:
– Мы зайдем в другой раз. – И уже поднимаюсь, но Катя сжимает мою руку и переводит взгляд на Юру, мнущегося в дверях. Взгляд у нее стылый, ледяной, такой, что мне становится не по себе. Юра темнеет лицом и молча уходит. Слышу, как хлопает входная дверь.
Хочу сказать Кате, что она неправа. Юра мог бы не ходить в лес и не рисковать ради нее, он чуть не погиб – а значит, кровью искупил вину, как было написано в одной книжке про пиратов. Прогонять его после всего, что случилось, – подло, низко и неправильно.
Но Катя кладет голову мне на плечо, шепчет, как сильно скучала, как мечтала встретиться, как держалась в больнице только потому (и тем), что представляла себе день, когда мы снова увидимся, – и я молчу. Ненавижу себя – и все равно молчу.
Юра поймет, что я не могла огорчить Катю сейчас, не могла испортить момент. Должен понять.
Правда же?
За пять лет до смерти Кати и гребаного апокалипсиса
Никто не знает, как выглядит Бог. Но когда я думаю о нем – вижу лицо отца.
– Ты же знаешь, что заслужил, правда, Юрий?
– Да, папа.
– Приложи, отек будет меньше. – Обычно отец старается не бить по лицу. – Нам же не нужны идиотские расспросы, согласен?
– Да, папа. – Кубики льда, завернутые в полотенце, неприятно холодят пальцы и щеку.
«Ты же знаешь, что заслужил, правда?»
Знаю, конечно знаю. После леса отец дал прийти в себя, даже сходить к Кате, но с самого начала было ясно: за разбитые часы придется отвечать. И не только за часы.
Виски отбрасывает оранжевые тени на обои и мебель. Отцовский стакан стоит на свету, а сам отец – против света. Кажется, это не человек, а аппликация из черной бумаги, такой плотной, что ни одному солнечному лучу сквозь нее не пробиться.
– Часы уже не починить. Лихо вы их с Евгенией разбили. Вот я в детстве не позволял себе так обращаться с подарками родителей – хранил их как зеницу ока, – отцовский голос рикошетит от стен, потолка и пола прямо в меня.
– Прости, папа.
Отец вздыхает. Что‐то внутри немеет и замирает. Вздохи бывают разные, вздохи – вроде азбуки Морзе, надо просто научиться правильно их понимать. Все отцовские знаю наизусть, и этот – самый страшный, означает «я разочарован, снова разочарован». Этот всегда к беде, к ужасу в Жениных глазах, к непониманию и насмешке – в Катиных, к настороженным расспросам в школе – «почему хромаешь?», «где это ты так?», «да тебе в больницу надо!», «опять упал с лестницы?».
Что‐то внутри дрожит, мелко и трусливо, выбирается наружу, захватывает мое тело. Что‐то хнычет моим голосом, шмыгает моим носом, захлебывается всхлипами. Что‐то не сползает – стекает на пол, повторяет: «Я все понял, правда понял, пожалуйста, не надо», змеится у отцовских ног. Что‐то готово на все, хоть бы не тронули, на этот раз – не тронули, хоть бы позволили забиться в комнату и сидеть там тихонько.
А мне хочется исчезнуть, умереть прямо здесь и сейчас – и заодно уничтожить что‐то раз и навсегда и никогда, никогда, никогда больше не позволять ему быть мной.
– Хнычешь как девчонка, смотреть противно. Давай, Юрий, соберись, будь мужчиной, – отец заставляет подняться, сесть обратно на стул и хлопает по спине: не любит, когда горблюсь. – Бывало, мой отец, твой дед, отделывал меня офицерским ремнем так, что я потом нормально сидеть не мог неделями. Но я сжимал зубы и терпел. Ни звука не издавал. А знаешь почему?
Качаю головой. Лучше сразу сдаться, чем не угадать с правильным ответом.
– Потому что знал: я заслужил. А раз заслужил – должен быть наказан. Ты тоже будешь наказан, Юрий. Ты больше не будешь дружить с Женей. Девчонка плохо на тебя влияет. Ты и так у нас баба бабой, ни рыба ни мясо. А с тех пор как вы начали общаться, вообще сам не свой. Опаздываешь, пропадаешь где‐то, теперь еще и вещи стал портить. Так что этой девчонке не место в нашей жизни. Понял, Юрий? Я тебя спрашиваю: понял или нет?
Становится пусто, так пусто, что хочется выть. А еще – встать, гордо поднять голову, как в фильмах про мушкетеров и рыцарей – наших любимых с әни, – и громко сказать, что буду дружить с кем хочу, что нельзя отнять у меня Женю, просто нельзя, ведь если не будет ее – то что тогда останется?
Но что‐то против, что‐то заставляет мои губы прошептать:
– Да, папа. Конечно, ты прав. Прости, что снова подвел тебя.
Отец улыбается – впервые за вечер:
– Вот и славно. Подержи лед еще минут десять. И не доводи больше. Руки – богатство хирурга.
Выходит в коридор. Хлопает входная дверь. Что‐то с облегчением выдыхает: можно расслабиться до утра.
«Да, папа. Прости, папа. Конечно, папа».
Бью себя по губам – нет, конечно, не себя, я же обещал әни больше так не делать, – нет-нет, бью что‐то, всего лишь что‐то, бью еще, еще и еще, пока рот не заполняется горьким вкусом крови.

Никогда не понимал, почему люди боятся темноты. Я в темноте чувствую себя на своем месте. Вернее, не чувствую себя – и в этом суть. Смотрю на руки, на ноги, на живот – и ничего не вижу. Ни-че-го. Я не боюсь темноты, потому что я – ее часть. А значит, пугаю я, а не меня.
Но сегодня фокус не удается. Даже выключив свет и задернув шторы по всей квартире, я все равно я, всего лишь я. Все дело в Жене. Стоит закрыть глаза – и я вижу ее. Когда она рядом, я уже не могу быть ничем, не могу забыть, кто я на самом деле, и притвориться кем‐то – или чем‐то – другим. Почему – сам не знаю. Әни бы смогла объяснить, наверняка бы смогла. Әни бы улыбнулась и все разложила по полочкам. Если был бы хороший день.
В плохие дни әни не улыбается и со мной не разговаривает. Ходит туда-сюда по квартире, мечется из угла в угол, плачет, общается с кем‐то, с кем – неясно. Самое страшное в плохих днях то, что они имеют обыкновение превращаться в очень плохие. После того как мы с Женей вернулись из леса – сам не знаю как, ничего не помню, – әни с отцом поссорились. Конечно, из-за меня. Как всегда, из-за меня.
Скорой әни сказала, что упала и ударилась головой. Отец усмехнулся:
– Было бы чем ударяться, дорогая.
Медики засмеялись. Наверное, они хотели ему понравиться.
Отец, как говорит әни, «без пяти минут большая шишка» и «звезда кардиохирургии», у него «все везде схвачено». Если бы не он, мы бы в Москве пропали, твердит әни, «жили бы в однушке, а не в трешке, ни машины, ни репетиторов для тебя, Юрочка, ничего бы не было».
Может, пропасть, исчезнуть, испариться – как раз то, что стоит сделать?
Лежу на полу, под головой – домашний свитер әни. Пахнет праздником, а точнее – осенью, туманным ветром с Волги и яблочными пирогами с корицей. Пахнет прошлым, которое не вернуть. Больше всего хочется написать Жене, позвонить, а еще лучше – встретиться, прямо сейчас, просто так, – но нельзя, нельзя, нельзя. Вдруг отец узнает, вдруг…
– Слабак, – говорю темноте вокруг. – Вот ты кто. Просто слабак, и больше ничего.
«Какая разница? Зачем рисковать? Ради чего? – шепчет что‐то. – Катя вернулась, а значит, Женя бы все равно нас бросила. Для чего мы ей теперь? А если не бросит сейчас, то бросит потом. Все равно рано или поздно она поймет: дружба с такими, как мы, – ошибка».
Ошибка – мое второе имя. Я не должен был родиться.
Другие донашивают за старшими братьями одежду, а я – имя. Юрием хотели назвать другого мальчика, Мальчика-Которого-Хотели, Мальчика-Которого-Ждали, Мальчика-Который-Не-Выжил. Тот, другой Юрий, умер у әни в животе. А следом за ним – еще трое. При мне әни никогда о них не вспоминала, но я всегда чувствовал, что за ней по пятам следуют призраки. Просто не сразу понял чьи.
Как‐то раз мы с әни поехали навестить ее семью в деревню под Казанью. Раньше мы каждое лето туда ездили. Поздно вечером я пытался заснуть, но после Москвы в деревне было слишком тихо, и тишина пугала.
Әни шепталась с тетей Айнурой на кухне – так я и узнал обо всем. Әни плакала, все повторяла, что небеса ее наказали – за что, я не расслышал, – а тетя вдруг разозлилась и сказала:
– Это не тебя наказали, а мужа твоего.
На следующий день әни засобиралась в Москву – на месяц раньше, чем планировалось. Я проснулся с температурой и жаром и потому остался в деревне лечиться.
Каждый вечер тетя готовила самый вкусный на свете чай – с молоком, сливочным маслом и солью. Разливала по пиалам, зажигала свечи и рассказывала истории про нашего далекого прапра – белого волка Ак Бүре, царя окрестных лесов. Стоило ему захотеть – и враги рассыпа́лись в пыль. Стоило дунуть – и начиналась снежная буря.
Тетя говорила, что Ак Бүре всегда готов прийти на помощь. Надо только позвать.
– Где же мне найти Ак Бүре? – спросил я как‐то раз.
Тетя прижала руку к моей груди, улыбнулась и сказала:
– Вот тут, бүре баласы 5. Сколько бы мы ни мешались с людьми, волчью кровь из наших вен не вымоешь. Твоя әни забыла об этом, но ты не забывай. Никогда не забывай. Найди свою стаю – и держись ее, что бы ни случилось.
В тот момент я вдруг подумал: вот бы отец забыл про меня. Вот бы не забирал обратно в Москву. Вот бы әни приехала к нам, и мы поселились в деревне у тети Айнуры навсегда.
Конечно, отец не забыл. Вскоре он приехал за мной, заставил сесть в машину, а сам долго кричал на тетю Айнуру. А потом она подбежала ко мне, обняла – крепко, так, что я чуть не задохнулся, – и прошептала:
– Помни, бүре баласы: мой дом – твой дом. Здесь тебя всегда ждут. Всегда!
Отец оттащил ее, сел за руль и вдавил педаль газа так, что взвизгнули колеса. Больше я никогда не видел тетю Айнуру. Отец запретил упоминать ее имя, а әни отказывалась давать мне телефон или адрес. Говорила, что забыла, и отводила глаза.
В Москве я много раз пытался разговаривать с волком в моей груди, но в ответ всегда была тишина. Может, тетя все выдумала. А может, Ак Бүре не хочет разговаривать со слабаком вроде меня.
Я бы на его месте не хотел.

Бросить нож в землю – вытащить – бросить – вытащить, и так по кругу. Других развлечений все равно нет.
«Только не смотри в сторону Пьяного двора, не надо, – шепчет что‐то. – Помнишь? Лучше держаться от Жени подальше».
Смех накрывает волной веселого эха. Пьяный двор полон голосов, но этот не перепутать с другими. Осторожно выглядываю из-за угла.
Женя хохочет, запрокинув голову. Женя часто смеется. Женя – наверняка ведьма. Стоит ей засмеяться, как внутри что‐то оттаивает, теплеет, начинает казаться, что все будет хорошо – рано или поздно, но обязательно будет.
Женя – девочка с двумя лицами. Одно, обычное, нормальное, даже слишком нормальное, она показывает всем, а другое – прячет. Кажется, даже от самой себя.
Другое лицо я видел дважды. Первый раз – когда Женя решительно обняла меня туманным утром, и я вдруг понял, что́ тетя имела в виду, когда говорила найти свою стаю и ее держаться. Второй – когда мы пошли в лес просить спасти Катю. Мне было страшно. Мне было так страшно, что внутри все дрожало – мелко и трусливо. А Женя взяла меня за руку, улыбнулась и с разбегу влетела в лес. Казалось, та, другая Женя не умеет бояться. Не знает, что это такое. Казалось, другая Женя готова на все ради того, кого назвала другом.
Снова смех. Катя. Конечно, Женю рассмешила именно она, кто же еще. Катя тоже часто смеется, но ее смех другой: стоит его услышать – мурашки по коже. Катя, из-за серебристых волос и зеленых глаз, – точь-в‐точь Су анасы 6, русалка из сказок әни.
«Не ходи к речке, Юрочка, а то утащат тебя на дно, вовек не выберешься».
Вдруг Катя поворачивает голову и смотрит на меня, прямо на меня. Прячусь за угол дома. Хоть бы Катя молчала, хоть бы не сказала Жене, что видела меня! Хоть бы никогда не возвращалась, хоть бы исчезла – щелк, и все, – хоть бы исчезла, исчезла, исчезла!
Но ты ведь и сам понимаешь, почему никуда исчезать она не собирается, правда? Катя не слабачка вроде тебя, Катя бы повела себя как взрослая, Катя бы расхохоталась и плюнула твоему отцу в лицо, Катя бы выдержала всё что угодно, вообще всё, но от Жени бы не отказалась.
Красное вспыхивает на солнце, растекается по ладони, красное отвлекает, успокаивает и утешает, красное дарит боль, дает выдохнуть. Вытираю лезвие о джинсы и смотрю, как кровь стекает по пальцам, блестит влажной чернотой на асфальте.
Снова выглядываю из укрытия.
Женя и Катя рисуют что‐то палками на земле, перешептываются, переглядываются, Женя и Катя берутся за руки и уходят куда‐то, Женя и Катя как будто не Женя и Катя, а ЖенеКатя, и ты в курсе, что это значит. «Третий всегда лишний», – часто повторяет эни, ты бы все равно ее потерял – в каком‐то смысле отец даже помог, сделал за тебя самый страшный шаг, мог бы сказать ему спасибо, ты все равно только это и умеешь делать.
«Да, отец, конечно, отец, разумеется, отец, как скажешь, отец, как скажешь, как скажешь, как скажешь».
Становится жарко, душно, зло, так зло, что, кажется, еще чуть-чуть – и кожа, моя человеческая, жалкая, беззащитная кожа лопнет, и под ней вспыхнет металлом звериная шерсть, и зубы заострятся, закостенеют и окрасятся ржавчиной, захотят кусать и рвать, не важно кого, не важно за что, главное – рвать, рвать, рвать беззащитное, кричащее, слабое, рвать любое, рвать любого.
Кто не спрятался – я не виноват!

Руслан увлечен разговором с друзьями. Хвастается мускулами на руках – «батя записал на бокс», новыми кроссовками – «батя купил», новой толстовкой – «тоже батя», новым телефоном с блютусом и полифонией – нетрудно догадаться, чей подарок.
Руслан – сын лучшего друга отца, воплощенная отцовская мечта о сыне и в прошлом мой единственный друг. Моя самая большая ошибка. Если бы я мог, я бы стер воспоминания о нашей дружбе. Все до единого.
Руслан косится на меня. Кривится, говорит что‐то друзьям – и смеется. Руслан не успевает увернуться, когда я с разбега в него врезаюсь. Со всей силы и нарочно, конечно, нарочно.
Руслан – на земле, рядом валяется телефон, по экрану ползет трещина.
– Жить надоело, Псих?! – шипит Существо.
– На этот раз ты труп, – обдает горьким запахом пота.
– Точно труп, – багровеет всеми лицами от злости.
Существо знает, что сильнее, знает, что победит, ну и пусть. Это не главное, главное – другое: еще чуть-чуть – и будет не до Жени с Катей, еще чуть-чуть – и не будет ничего и никого, даже меня, только чистая и честная злость, еще чуть-чуть – и…
Вдруг за спиной раздается голос, взрослый голос:
– Совсем мозгов лишились? Среди бела дня теперь морды друг другу бьете? А ну-ка брысь от этого парня, а то ментам позвоню. Вы же знаете, я не шучу.
– Да мы просто играем, – уговаривает Существо.
– Мы же еще дети, – усмехается.
– Зачем сразу менты? – распадается на шестерых парней.
– Мы уже уходим, остынь. – Руслан с друзьями уходят, даже не оглядываются на мое жалкое «Испугались Психа?».
Черт, черт, черт. Кому вообще взбрело в голову вмешаться?
Передо мной высокая рыжая девушка. Что‐то в ее лице и взгляде неуловимо напоминает Женю, и на мгновение кажется, что это Женя и есть, просто из параллельной вселенной.
Рыжая молча смотрит – как будто ждет, что ей скажут спасибо. Еще чего!
– Я не бедный потерявшийся щеночек, не надо мне помогать, сам справлюсь.
– Сорри, но я умею отличать щенят от волчат с бешенством, – смеется рыжая. – Давай-ка спрячь клыки: ты мне должен за спасение, нравится тебе это или нет. Зуб за зуб, услуга за услугу.
– А что надо сделать?
Подмигивает:
– Все равно не угадаешь.

Раз, два, три – стекла разбиваются, осколки вспыхивают бледным огнем на асфальте перед Скворечником. Проходящая мимо старуха с собакой смотрит с подозрением, переводит взгляд на молоток в моих руках, и подозрение сменяется страхом.
Рыжая кричит ей с порога магазина:
– Не волнуйтесь, никакого криминала! Будем стеклопакеты ставить вечером, решили не ждать рабочих – сами старые окна выломать!
Старуха уходит. Рыжая поворачивается ко мне:
– Ну как, полегчало, волчонок? Да? Ну и гуд. Я Лиса, кстати. Мы так и не познакомились по-человечески.
– Тебя правда так зовут? – приподнимаю бровь.
– Ходил бы ко мне в магаз – знал бы, что нет, – смеется. – Впрочем, и тебя не долго будут звать Юрой, зуб даю. Такие, как мы, сами себе выбирают имена. – Лиса выносит из кладовки дымящийся чайник, заливает чайные пакетики кипятком. – Давай выкладывай: что случилось? Зачем нарывался на драку с дворовыми?
Молчу.
– Да ладно тебе, я же не кусаюсь. Рабочих ждать еще часа два – целая вечность, если вдуматься. Так что я не против послушать, – подмигивает.
Лучше на всякий случай не верить рыжей. Лучше прямо сейчас взять и уйти. Но Лиса смотрит ласково, так, как будто правда хочет знать, что со мной, и я вдруг начинаю говорить и не могу остановиться, пока не рассказываю всё: и про спасение Кати, и про запрет дружить с Женей, вообще про всё.
Лиса так внимательно слушает, что почти не моргает. Лиса спокойна, очень спокойна, как будто ее ничем не удивить, даже лесом. Когда я заканчиваю, чай совсем холодный и слишком крепкий: пакетик так и остался в чашке.
Лиса закуривает:
– Знаешь, почему круто быть волчонком? Потому что все волчата однажды вырастают в больших злых волков. Злость – дар, надо просто научиться направлять ее в нужную сторону. Ты сам знаешь в какую, правда? – Желтые глаза странно мерцают.
«Сколько бы мы ни мешались с людьми, волчью кровь из наших вен не вымоешь», – звучит далеким эхом голос тети Айнуры.
Вдруг становится ясно, что делать. Мне страшно и весело – так чувствуешь себя, когда решаешь впервые прыгнуть с тарзанки в быструю реку, когда ложишься между рельсами 7 и замираешь под грохочущим поездом, и часть тебя уверена, что это конец, точно коне0ц, а другая еще никогда не ощущала себя такой живой.
«Злость – дар, надо просто научиться направлять ее в нужную сторону».

Первое, что вижу, – не отца, а его тень на полу кухни.
– Когда матери дома нет, ужин на тебе, Юрий. Мы это уже обсуждали. И вот я прихожу с работы, а тут никого, на плите – пусто. Тебе что, нравится, когда наказывают? Нравится доводить меня, да? – спрашивает так, как будто заранее знает ответ. Просто хочет удостовериться, что и я знаю.
Отец вздыхает. Стук сердца эхом отдается сначала в ушах, потом – во всем теле, словно теперь и в позвоночнике, и в пальцах, везде – по крошечному сердцу, словно я – человек-колокол, человек-звук, человек-страх.
Отец говорит что‐то про очередное разочарование, про мою бесполезность, про мать, которая больна по моей «милости». Перед тем как наказать, он любит поболтать.
Сколько еще будет таких вечеров, дней, ночей? Если бы только знать сколько. Тогда было бы легче, тогда можно было бы выдержать все. А так – зачем? Зачем отказываться от Жени? Зачем бояться, если это ничего не изменит?
Что‐то рвется наружу, что‐то хочет встать на колени, умолять нас не трогать, чему‐то давно пора заткнуться, заткнуться, заткнуться!
– Значит, так, Юрий: если я узнаю, что ты опоздал, потому что снова гулял с этой твоей Женей…
«Знаешь, почему круто быть волчонком? Потому что все волчата однажды вырастают в больших злых волков».
Исчезает все, кроме звериного и яростного, хочется не плакать – а рычать, не умолять – а выть, царапать и кусать. Что‐то заперто внутри, мои губы – наконец только мои, и они врут так естественно, словно им это не впервой.