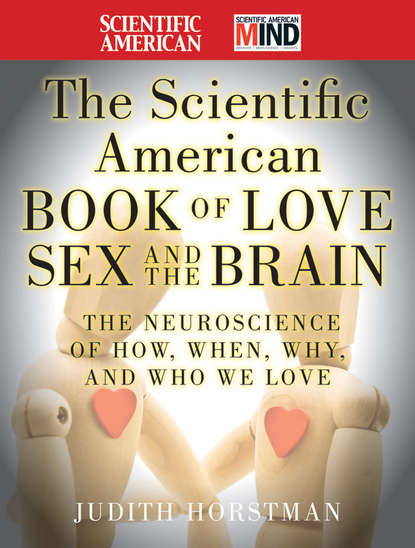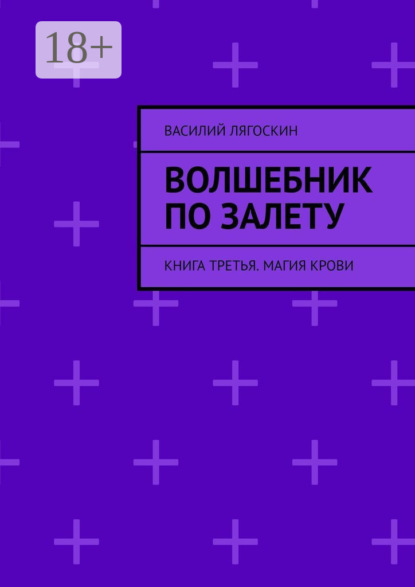- -
- 100%
- +
– Ты прав, папа, я гулял с Женей, – говорю все громче и громче, – и дальше буду.
И вдруг становится так легко, так зло и весело, что хочется засмеяться в голос и…
Удар.

– Боги, ты как?! – Женя заставляет сесть на лавочку. – Знаешь что, твой отец, он…
Закусывает губу, будто задается вопросом – говорить или не стоит? Маленькая девочка на детской площадке в Пьяном дворе показывает на меня пальцем и спрашивает у матери:
– А почему этот мальчик такой синий? Он что, инопланетянин?
Мать что‐то шепчет ей на ухо, и они быстро уходят.
Катя фыркает:
– Так и будем играть в больничку? Или обсудим, как он три дня притворялся мертвым, а сам следил за нами, а?
Женя бросает на нее быстрый взгляд и вдруг говорит каким‐то взрослым, не Жениным голосом:
– Или ты замолчишь. Как тебе такая идея?
Катя усмехается:
– Дело твое. – И уходит к качелям.
Думать – тяжело, говорить – еще тяжелее, кажется, будто легкие наполнены битым стеклом, но Женя не ушла, Женя осталась, Женя рядом, а значит – как я могу жаловаться?
Откашливаюсь, хриплю:
– Посидишь рядом? – и заставляю себя подвинуться.
Женя садится, касается моей руки, сжимает пальцы – и тут же извиняется:
– Черт, прости, тебе, наверное, больно?
Конечно больно, но это не страшно. Совсем не страшно. Эта боль – другая, хорошая, эта боль стоит всего – и вчерашнего вечера, и всех последующих вечеров.
И если бы я мог сейчас говорить, то сказал бы Жене вот что: если мне вдруг придется выбирать между добром и тобой, между злом и тобой, между миром и тобой – я всегда буду выбирать тебя.
Даже если заранее буду знать, что выбор – неправильный.
За четыре года и два месяца до смерти Кати
Августовские сумерки вливаются бархатной прохладой на кухню, августовские сумерки синие, тоскливо пахнут яблоками – это уже что‐то предсентябрьское, надрывное, когда лета осталось совсем чуть-чуть, и чем меньше его остается, тем быстрее оно проходит.
– Опять зятек где‐то шляется… И куда только его на ночь глядя носит? Не мужик, а наказание, прости господи, – ворчит бабка.
На часах почти десять вечера, а папы нет. Как всегда – нет. Папа говорит, что «просто гуляет», «ходит туда-сюда по району», «забывает про время». Он может обмануть всех, кроме меня. На самом деле папа ходит в лес, каждый раз – в лес, и пропадает там часами. Лиса видела. Зачем ей лгать?
Стоит заговорить об этом, как папа смеется – «я же не маленький, Птичка, в магию не верю, тем более лесную», – а сам исчезает все чаще и чаще. Родители ссорятся каждый день – вернее, каждый раз, когда застают друг друга дома, – и уже три месяца живут в разных комнатах. У матери всегда холодно – она оставляет настежь открытым окно даже зимой – и так чисто, будто в ее спальне никто не живет. Папина комната другая. Вернее, не комната, а «птичий кабинет» – так мы ее называем.
Папа несет в дом всех подбитых, беспризорных, полуоблезлых и полуживых птенцов, выкармливает и выпаивает, а потом отдает «в добрые руки». Некоторых так никто и не забирает, и тогда они остаются у нас навсегда. С тех пор как начались папины прогулки, птицы всё чаще сидят некормленые, не поют – кричат. «Будто хотят накликать беду», – ругается мать и грозится всех их «выкинуть на фиг».
У нее на птиц аллергия.
– Жень, а чего ты расселась‐то? Лентяйка, а! Вон какой зад отъела – поди, не от большой любви к работе. Кому ты такая нужна‐то будешь, господи помилуй… – бабка протирает стол тряпкой.
Встаю мыть посуду, пытаюсь незаметно одернуть майку, чтобы прикрыть живот. Знаю, она мне мала: кажется, я снова поправилась. Но майку купил папа. И выкинуть ее или отдать я не могу. Просто не могу.
Радио включено, ведущие желают спокойной ночи «всем маленьким радиослушателям», объявляют «сказку вечера» – про княжну и Пучай-реку. Из сказок я давным-давно выросла, но какая разница, что слушать, – лишь бы не бабку. За тридевять земель, в тридесятом государстве у княжны умерла любимая сестра: утонула в Пучай-реке. Княжна горевала три ночи и три дня, а потом…
– А потом еще удивляется, что́ это твоя мамка не в духе! Небось любви‐то не заслужил ни грамма, лодырь лодырем! Копейки получает за свои переводы, а за стишки и того меньше, – голос бабки цепкий, липкий, так просто не отделаешься. – Вон, даже телевизор не может на кухню купить, перед соседями стыдно – что люди‐то скажут? Дребедень всякую по приемнику слушать приходится.
– Папа говорит, телевизор хуже лоботомии, – не выдерживаю я. Ловлю взгляд бабки и жалею, что вообще открыла рот.
Надо сосредоточиться на радио, надо – как папа говорил? – абстрагироваться, точно, надо абстрагироваться, абстрагироваться, абстра…
– Много он понимает, твой папа, – бабка скребет потемневшим ногтем пятно на клеенке. – Мужик должен быть рукастый да при деньгах, иначе зачем он нужен? А стишки писать большого ума не надо – вон, на каждом заборе по поэме. Будет свой муж – поймешь.
– Может, не будет мужа.
– Как это не будет? Не выдумывай мне тут, все так живут, и ты будешь, – еще чуть-чуть, и, кажется, бабка задохнется от возмущения.
Пучай-река огнем дышит, полымем пышет, с брода по коню берет, с мосточка – по красной девице да удалому молодцу. Княжна подходит к крутому бережку, смотрит на пылающие воды да молвит – да, молвит, вон мать твоя словечко за отца замолвила, в больницу к Федору Павловичу администратором устроить пыталась. Отказался – вот и сидит в дураках теперь и вас в дурах держит. Что, думаешь, бабка не права? Защищать его опять будешь, дурында?
Разве это мужик? Разве это отец? «Разве это важно, чем платить? – спросила княжна у Пучай-реки. – Я на все согласна. Хочешь – забирай мою жизнь в обмен на сестрину». «Что ж, будь по-твоему, – ответила Пучай-река, – но помни: долг платежом красен, и я свое возьму, когда захочу». Не будет тебе покоя, княжна, добавила речка. Захочешь на солнце погреться, да свет его будет холоднее лунного – ведь ты моя. С подругами любезными яства заморские решишь отведать, да почувствуешь вкус пепла на губах – ведь ты моя. С добрым молодцем заговоришь – да что тут говорить, найти бы мамке твоей мужика нормального, вон как у Айгульки.
Федор Павлович и красавец, и интеллигент, и руки у него золотые – такого хирурга еще поискать; жаль, не повезло ему с сыном. Юрка – нюня вроде твоего папаши, ничего не хочет, ничего не хочет княжна, все слышится ей голос Пучай-реки, все чудятся воды огненные. «Ты моя, моя, моя», – тени по углам дома нашептывают. «Свое возьму, возьму, возьму», – птицы на рассвете напевают.
Сестра жива, день ото дня все краше да румянее, а княжна бледнеет да хиреет. И сестру не хочет снова потерять, и долг платить Пучай-реке страшится, все думает: «Лишь бы смерти лютой избежать!» Лишь бы лес нас с Юрой не забрал, лишь бы позволил жить дальше! Прошло больше полугода, как Катя вернулась, а платы с нас так никто и не взял. Может, лес исполнил желание – и отпустил навсегда?
Может, папа не врет, и нет никакой лесной магии? Может, Катя вернулась домой сама по себе? А может, лес просто затаился на время, ждет подходящего момента? Может, ты уже домоешь эту тарелку, Женя?
Что стоишь как соляной истукан, прости господи? Давай мой живей, а то время позднее, спать пора. «Давай расплатимся, час пробил», – сказала наконец Пучай-река. Трижды княжна отказывалась, умоляла простить ее, глупую, не лишать света белого да подруг любезных. Поняла наконец Пучай-река, что долг ей не вернут, и забрала в наказание отца-князя. Три дня и три ночи проплакала княжна, а потом пошла на высокий берег и сама бросилась в воды мутные. И получила Пучай-река две жизни вместо одной.
Звон, грохот, грохотозвон – пол переливается осколками разбитой посуды. Бабка ругается, а я смотрю на часы и думаю только об одном: папа все еще не вернулся.

Обычно папина комната поет, щебечет и воркует, но скоро ночь – и комната уснула. Все в доме спят – и бабка, и мать. Не сплю только я.
Смотрю на подрагивающее пламя свечи – единственный источник света в комнате. Огонек такой крохотный и слабый, что мне его жаль. Дунешь, и все – умрет. Этот огонь прирученный, добрый, беззубый. Не имеет ничего общего с тем, что порой просыпается внутри.
Иногда мне снится, что я – пожар, что я никого и ничего не боюсь, даже бабки с матерью, даже Существа, даже леса. Особенно леса. Выжигаю жаром Смородинку, заставляю выкипеть всю до последней капли. Съедаю дерево за деревом, проглатываю лесную черноту, становлюсь с ней единой бестелесной яростью и сметаю гневной волной район. Ни Пьяного двора, ни девятиэтажек, ни Страны чудес, ни Существа – ничего не остается, только один безропотный пепел и кости, и сквозь них пробивается новый лес, сильнее и страшнее прежнего.
Говорят, деревья лучше растут, если удобрять землю кровью.
Этот сон – самый жуткий и стыдный секрет. О нем никто не знает – ни Катя, ни Юра, ни папа. Он заставляет меня чувствовать себя плохой, очень плохой. Хорошие девочки не могут желать зла – даже серому району и Существу. Хорошие девочки представляют себя прекрасными принцессами: сидят и ждут, пока их спасут. Хорошие девочки не пытаются сами за себя отомстить, а смиренно подставляют другую щеку. Никому не делают больно, даже во сне.
Скрип входной двери, щелчок замка, осторожные шаги.
– Еще не ложилась, Птичка?
Папа встает в дверях, улыбается, пахнет вишневым табаком – и еще кое-чем. Хвоей и смолой. Лесом.
– Ты ходил туда, да? – тихо спрашиваю. Папа делает вид, что не понял:
– Куда – туда, Птичка?
Я должна обидеться, закричать что‐то вроде «хватит врать», как обычно делает мама. Но я не умею злиться на папу – никогда не умела. В свете настольной лампы папино лицо бледное и заострившееся, и кажется, кожа день за днем истончается, исчезает миллиметр за миллиметром, и однажды папа весь – исчезнет.
– Тогда что с тобой? У тебя рак? – В фильмах и книжках все неприятности начинаются из-за рака.
Папа невесело улыбается:
– Нет-нет, что ты, никакого рака. Как же тебе объяснить…
– Мне же тринадцать, а не пять, я уже не маленькая.
– Действительно, не маленькая – иногда забываю, как быстро ты растешь, – папа грустно улыбается. – Скажем так, Птичка: просто что‐то поселилось у меня вот тут, под сердцем, и жрет день за днем. Когда ухожу гулять – становится легче, а как возвращаюсь – оно снова просыпается.
– А что будет, когда оно закончит? Что тогда от тебя останется? – шепчу я, но в ответ – тишина.
Становится так страшно, что хочется плакать.
– Пожалуйста, не умирай, – вслух это звучит глупо и по-детски, но папа отвечает серьезно:
– Не бойся смерти, Птичка, не надо. Смерть для всех разная, для кого‐то конец, для кого‐то начало.
– Мне все равно, как у всех; важно другое. Ты же не уйдешь? Не оставишь меня с матерью?
– Не оставлю, Птичка. Никогда не оставлю.
Засыпаю – и мне снится лес, и мы с папой – в лесу, и там совсем не страшно. Все вокруг искрится и светится, как будто много маленьких солнц, и мы смеемся, поем и говорим обо всем на свете. И не надо возвращаться в район, притворяться, что наша квартира – настоящий дом. Рядом – Юра с Катей, и все так хорошо, так неправдоподобно хорошо, что еще до пробуждения я понимаю, что это – всего лишь сон.

Просыпаюсь – папы уже нет. Жду его весь день. Он так и не возвращается. Живот крутит спазмами, снова и снова, голова – в огне: соображать трудно, от тревоги кажется, что поднялась температура. Я знаю, что́ надо делать, но до последнего оттягиваю. Будет неприятно. Будет грязно – не буквально, нет, но иначе не скажешь. Будет нечто такое, о чем потом не захочется вспоминать.
Кровать подо мной будто раскалилась, еще чуть-чуть – и от жаркой сухости простыней повалит дым. Выхода нет.
Встаю, иду на кухню – и замираю на пороге. Женщина напротив тщательно взвешивает вареную курицу на кухонных весах – чтобы не съесть лишнего завтра утром. Женщина напротив напоминает идеальных домохозяек американских 50‐х: белозубая улыбка, блонд а-ля Барби, бесцветный взгляд. Женщина напротив – моя мать.
Когда я думаю о детстве, то почти не вижу ее рядом с собой маленькой. Из дошкольных времен у меня всего два воспоминания о ней. Первое – мне пять, и у меня бессонница: я боюсь темноты. Ночью комната будто превращается в резервуар с черной водой, а я – тону, раз за разом. Когда кажется, что еще чуть-чуть – и задохнусь, иду спать на полу в родительской спальне. Почему‐то будить мать и папу стыднее, чем по-собачьи скрючиваться на полу и пытаться уснуть.
Обычно я успеваю уйти до утра, но однажды засыпаю так крепко, что мать просыпается первой. Встает – и спотыкается об меня. Злится:
– Я в детстве мечтала о своей комнате, а тебе, видите ли, там плохо! Тоже мне, принцесса. Что за дети пошли! Вечно ноете! Не люди, а снежинки, плюнешь – и растаете.
Папа грустно улыбается и, когда мать не слышит, говорит:
– Верю в тебя, Птичка. Ты справишься.
И я правда справляюсь. Придумываю, что настоящую Женю украли птицы, а я – ведьма, которую тайно подселили в семью. И я ничего не боюсь, даже темноты, темнота – мой лучший друг, прирученный зверь у моих ног. Моя колдовская сила – в ногтях. Стричь их нельзя, иначе стану обычной девочкой.
Ведьмой мне удается побыть две недели. Потом мать насильно отстригает ногти.
Второе воспоминание о матери пахнет дачей. Мы сидим за столом на веранде, друг напротив друга, а снаружи кричит петухами и жарко жужжит лето. Мать курит, разглядывает меня – снова и снова, а я молчу – не знаю, о чем с ней поговорить. На мне мое лучшее платье, с подсолнухом. Оно неприятно обтягивает, топорщится складками, совсем как мой живот: за лето я поправилась.
Под взглядом матери мерещится, что мое нелепо раздувшееся тело какое‐то преступно большое. Кажется, чем дольше она смотрит, тем больше я становлюсь. Хочется попросить прощения, сказать «Прости, я занимаю так много места, я больше не буду, правда», – но не получается выдавить из себя ни слова.
Когда электричка увозит меня из яблочно-солнечной дачи обратно в бетонно-осенний московский пригород, прямо навстречу первому сентября первого класса, решаю, что больше не буду толстой. Никогда. Потому что не вынесу, если мать будет снова смотреть на меня так и молчать. И потому что толстая девочка не сможет быть невидимкой – а я так мечтала быть призраком.
Других детей я всегда побаивалась.
Вдруг мать – не из воспоминаний, а из сегодняшнего дня, из сейчас, – поворачивается и смотрит на меня, застывшую на пороге. Впервые за много лет – на меня, а не сквозь. Усмехается:
– Не спишь? Ждешь его, да?
Ее голос звучит спокойно, будто папа не имеет к ней никакого отношения.
– Жду, – с вызовом говорю я.
– Знаешь, что забавно? Я всегда думала, что ты просто мягкотелая дурочка, вся в отца. Но, кажется, есть в тебе кое-что и от меня.
– Что? – спрашиваю и сразу жалею: чувствую, что ответ не понравится.
Мать медленно закуривает, выпускает дым из тонких ноздрей, а потом замечает:
– На женщинах в нашей семье проклятие. Мы – что‐то вроде огня, который губит мотыльков. Рано или поздно разрушаем всё, к чему прикасаемся, уничтожаем всех, кого любим, – не буквально, конечно. Чем сильнее привязываемся к человеку, тем больше ему вредим. Так что глупые люди сами летят на наш свет и погибают – а те, что поумнее, сбегают. Мой отец меня кинул, когда я была еще младше тебя. А теперь и твой слинял за тридевять земель. Круг замкнулся.
– Папа вернется, – говорю упрямо.
Мать посмеивается:
– Вот увидишь: если хоть какие‐то мозги есть, не вернется. И правильно: от таких, как мы с тобой, лучше держаться подальше.
Всхлипываю – еще и еще – и не могу остановиться. Мать хмыкает и уходит. Ненавидит, когда я плачу, и от этого, как назло, плакать хочется еще сильнее.
«Всегда думала, что ты просто мягкотелая дурочка».
Сжимаю зубы, впиваюсь ногтями в ладони изо всех сил, заставляю себя замолчать. Открываю холодильник. Съедаю и курицу, и пюре, и колбасу, и три йогурта – все, что влезает, – иду в туалет, привычно вставляю два пальца в рот, и, кажется, вместе с едой организм избавляется и от тоски, и от слез.
Сижу на полу, мне спокойно – и как‐то пьяно, как после бокала шампанского, который папа разрешил выпить на прошлый Новый год. На потолке в ванной рвано мигает лампочка. Папа обещает поменять уже месяц и постоянно забывает.
Вдруг приходит глупая, какая‐то совсем отчаянная мысль: он привязан к этой квартире крепко-накрепко не только мной и своими птицами, но и всем списком незаконченных дел, даже этой дурацкой лампочкой. Папа обязательно вернется, что бы ни говорила мать.
Вернется хотя бы потому, что она не может быть права. Кто угодно, только не мать.
За четыре года и месяц до смерти Кати
Папа так и не вернулся – исчез, будто его никогда и не было. Никаких новостей уже месяц. Целый месяц.
Говорят, он мертв. Погиб по глупости, выпил лишнего, съел лишнего, сболтнул лишнего – мало ли способов по-дурацки умереть в нашем районе.
Говорят, занял денег у «серьезных людей», знал, что не сможет отдать, и утопился в реке.
Говорят, папа жив. Просто устал, не выдержал, сбежал.
Говорят, исчезнуть, разлюбить, вычеркнуть из памяти – нормально для отцов.
Много чего говорят.
Мать раздала птиц, всех до единой, и теперь в нашей квартире стерильная чистота. Она не хочет искать папу, даже заявление о пропаже не стала подавать – «Помнишь, что я говорила про огонь?». Смеется, когда я говорю, что сама его отыщу, – «Дурочка, он же тебя бросил, зачем бегать за ним? Что, нравится унижаться?».
Но я должна попробовать найти его.
Хотя бы попробовать.

В лес мы с Юрой и Катей идем ранним утром. Я не спала всю ночь – все представляла, каково это – вернуться? Что я почувствую? Что почувствует лес? Но стоит туда войти – и кажется, что это самое спокойное место на земле. Лес выглядит совершенно обычным. Или прикидывается.
Воздух вязкий, густо пахнет увядающей травой. То тут, то там темнеют ржавчиной листья дикой малины, земля – потрескавшаяся и обескровленная. Смородинка блестит жидким алюминием, вокруг – тишина: ни пения птиц, ни стрекотания кузнечиков, ничего.
Подбираю камень, кидаю в реку, и хмурое лицо моего двойника уродливо расползается во все стороны рябью, серыми помехами на экране сломанного телевизора. Насколько лес большой? Как тут найти человека, который, возможно, не хочет быть найденным?
Юра и Катя молчат. Сидят на берегу по разные стороны от меня, и каждый из них делает вид, что другого не существует. За все время в лесу они не сказали друг другу ни слова, если не считать ледяного «привет – привет». Невесело усмехаюсь: для Юры и Кати находиться рядом – худшее наказание.
Они, кажется, оба не верят, что мы кого‐то найдем, но не уходят. «Юра с Катей тут только ради меня», – твержу я себе, и почему‐то от этого становится легче. Как будто сразу есть на что опереться – вернее, на кого, – и у меня все еще есть семья, настоящая семья.
Юра толкает меня в бок:
– Смотри!
На другой стороне реки что‐то светится, сияет все ярче и ярче, словно кто‐то зажег светильник. Все как в моем сне. А вдруг человек на другом берегу – это?!..
Срываюсь с места, бегу – по выцветшей от жары тропинке, по ступеням, по грохочущему железному мосту над рекой, – спустившись, спотыкаюсь о костлявые пальцы корней, встаю, снова бегу, бегу, бегу – так быстро, что дыхание сбивается. И вот наконец впереди, среди черного морока деревьев, вижу кого‐то, кого – в лесных сумерках не разглядеть, но этот кто‐то высокий, как папа, широк в плечах, как папа, и, кажется, пахнет вишневым табаком – как папа, совсем как папа.
– Это ты! – обнимаю со спины и шепчу сквозь слезы. – Я знала, что найду тебя!
– Вот это чудеса! – хрипло смеется спина чужим голосом. – Вообще, я деток не люблю, я их кушаю – вместо цыплят. А тут они сами прибегают!
Глаза у старика непроглядно-мутные, нечитаемые, гляди не гляди – не поймешь, что у него на уме. Лицо выцветшее, серое, – не лицо, а маска. Старик тянет воздух носом по-звериному, принюхивается, разглядывает меня с ног до головы. Как я вообще могла принять его за папу?
– Простите, мы обознались, мы уже уходим, – быстро замечает Юра, берет меня за руку и тянет к себе.
– Куда же вы, зачем торопиться? – старик посмеивается. – Лес может ответить на все вопросы. Уйдете – так ничего и не узнаете.
Юра шепчет еле слышно «Пойдем, пожалуйста», но я не двигаюсь с места. Какая‐то глупая, детская, почти стыдная надежда не дает мне уйти.
– Так это вы хозяин леса? – спрашиваю старика. Тот качает головой:
– Девочка, лес появился задолго до нас и будет всегда, до самых последних времен. У него нет хозяина, он сам себе хозяин, царь и бог.
– Да ну? А вы тогда кто? – с вызовом спрашивает Катя.
– Никто, – просто отвечает старик, как будто быть никем – самая естественная на свете вещь. – А вот вы трое тут не просто так, я‐то знаю – чувствую. Пойдете со мной – найдете что ищете.
Чем больше старик говорит, тем более дурацкой мне кажется затея попробовать что‐нибудь у него разузнать. Что может рассказать сумасшедший?
Конечно, лучше убраться отсюда прочь, послушать Юру. Верить старику – глупо, идти за ним – еще глупее. Пытаюсь развернуться, уйти, сделать хотя бы шаг, крошечный шаг – и не могу: ноги не слушаются, пошевелиться невозможно. Надо испугаться. Закричать. Бороться – за себя, за Катю, за Юру, – но я не могу, не могу, не могу!
Что же со мной такое?!
Старик скалит в улыбке потемневшие зубы:
– Бедные вы мои ребятки, так просто вам не уйти. Пришло время платить. – И приказывает идти за ним, и я иду, вернее, мое тело послушно идет, а следом за нами – Юра и Катя.
Видим впереди калитку, заходим во двор со старой голубятней, окруженной яблонями, смотрим друг на друга – но ни слова, ни звука выдавить не можем. Отчаяние – в серых глазах, ярость – в зеленых, а вокруг – непроглядная лесная чернота, словно солнце погасло, щелк – и наступила ночь.
Старик варит что‐то на огне, долго-долго, приказывает пить – сначала Кате, потом Юре и, наконец, мне. Все внутри кричит «Не надо!», но мои губы послушно пьют, и горло обжигает полынной горечью.
Старик говорит зайти внутрь голубятни, лечь в корнях дуба, растущего прямо из пола, и наши тела делают, что им говорят, наши тела даже не думают сопротивляться. Глаза закрываются сами собой, и кто‐то шепчет на ухо моим голосом:
– Не выбраться, не выбраться, вам отсюда никогда не выбраться.

свет свет свет
так много света
так много
пей не пей
весь не выпьешь
может я умерла
может это сон
говорят лучшие
всегда снятся перед
уходом
не важно
теперь не важно
жива или мертва
важно другое
Юра рядом
Катя рядом
тепло ли тебе
девица
тепло ли
тепло тепло тепло
танцуем
смеемся
смех искрится
рассыпается золотом
растекается теплом
по телу
легко ли тебе
девица
легко ли
легко легко легко
кажется, мы можем всё
вообще всё
прикажем
планете взорваться
на тысячи атомов
и она взорвется
захотим
рассыпаться в пыль
стать единым существом
единой плотью
единым светом
и станем
свободно ли тебе
девица
свободно ли
свободно свободно свободно
если смерть такая
то глупо бояться смерти
то смерти нет
хочется ли тебе назад
девица
не хочется не хочется не хочется
оставьте меня тут
оставьте нас тут
навсегда
пожалуйста
пожалуйста
пожалуйста

Пожалуйста, дыши, просто дыши, дай себе отдышаться, вот так! Пожалуйста, вставай, давай поднимайся, ну же! Черт, нет, не выходит, совсем ничего не выходит, будто меня обесточили, выпили до последней капли, даже дышать тяжело.
– Ну-ну, не так быстро, вставай потихоньку, девочка. – Кто это говорит? – Возвращаться на эту сторону всегда тяжело, уж я‐то знаю. – Точно, это старик, тот старик из леса. Прочь, прочь, прочь от меня! – Тише-тише, девочка, не бойся, мы с тобой теперь семья в некотором роде. Односмертнички 8.