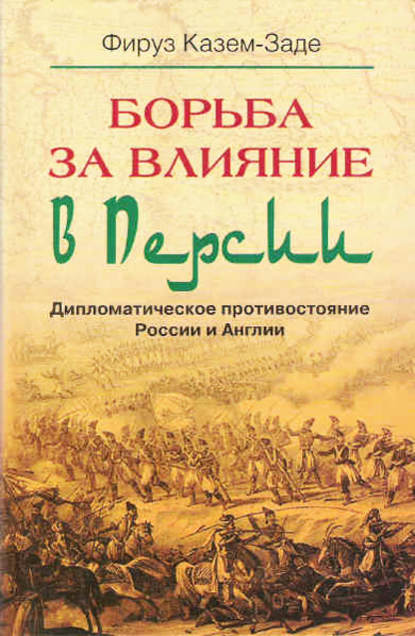Половина головы клоуна

- -
- 100%
- +
– Насчет этой вашей, как ее… Это ж клиника, дурдом! Пойдемте вместе в администрацию, завтра же пойдем, я поддержу вас. В девятом корпусе куча свободных мест, там, правда, трещина в стене, но, по мне, уж лучше трещина, чем такое соседство…
– Да, я посмотрю… – начала было я, но Таня перебила.
– А чего смотреть? И смотреть нечего! Видали, как она на меня сегодня набросилась? Она и на вас набросится, вы рискуете! Я когда увидела ее в первый раз – с брошкой! в столовой! – так сразу и подумала, что дамочка с приветом. К ней даже за стол никто не подсаживается! Сидит одна, как сыч, хотя люди порой впятером теснятся за столами! Размалевана, раздушена – всем на смех! Неужто вам не жаль своего отпуска?!
Она взяла меня под руку, прижималась ко мне. Напирала и телом, и словами, такой натиск был не по мне. С одной стороны, порадоваться бы, что появилась такая союзница, что и объяснять ничего не надо – она сама сделала выводы. Однако, перехватывая инициативу у меня, она перебарщивала. Ведь, если разобраться, на нее-то никто особо и не нападал. Разве не доводилось ей сталкиваться с настоящим хамством, где-нибудь в трамвае? По сравнению с чем, произошедшее на крыше (да и что, собственно, произошло?) – всего лишь цветочки, банками-то в нее не швырялись…
И почему так настырно она приписывает ее мне? Сказала с “этой вашей“, не с “вашей соседкой“, а просто с «этой вашей»… с какой стати она моя?
– А этикетка?! Видали, у нее болталась эткетка? Это просто амнезия какая-то, вот вы разве выходите с этикетками на улицу? Я женщинам сегодня рассказала, так они не поверили, а вы терпите. Ну, нельзя же быть такой…
Такой «размазней“, хотела сказать она. Мне начинали действовать на нервы ее вразумления и, вдобавок, я уже дважды ступила в лужу, почерпнув воды поверх туфель, ведь приходилось тесниться на узкой дорожке. Но я терпела, потому что знала, как заставить ее замолчать. Один простенький вопросик и она затихнет.
– Таня, простите, я вас перебью, а кто сегодня разгружал яблоки? Гарик? Вы ведь, кажется, наблюдали с крыши…
То-то же, она мигом осеклась, чуть отстранившись от меня.
– Да, – (очень, очень сухое “да“). – А что?
– Думаю съездить как-нибудь на станцию, хочу договориться с ним.
Что ж, у каждого из нас своя мозоль, на которую лучше не наступать. У меня соседка, а вот у Тани – Гарик.
Он водитель небольшого грузового фургона, доставляющего продукты в нашу столовую. А по совместительству грузчик и, по слухам, еще и любовник заведующей. Оттого и позволяет себе являться на работу подвыпившим. Может, конечно, это и не так, ведь, как ни крути, он за рулем, однако лично я, да и многие другие, подозревают его в этом – уж до того гоношистый, занозистый, да и лицо вечно красное. Несмотря на крайнюю свою неказистость: мелкий, жилистый, с жухлыми усами и с непроходящими ячменями на глазах, Гарик этот чем-то все же глянулся заведующей, солидной женщине, на добрый десяток лет старше его. Не мною замечено, что женщины почему-то тянутся к негодяям.
Запала на него и Таня. Еще в первые дни заезда, оценив обстановку, разузнав, что мужчин в нашей смене раз-два и обчелся, она остановила свое внимание на шофере. Стала ездить с ним на станцию, якобы за каким-то особым лимонадом для Оксанки. Надо сказать, что отдыхающие, бывает, просят его подвезти, ведь автобусы ходят редко. И хотя Гарик берет людей неохотно, чванясь, сунутая десятка, а то и полтинник, все же решают дело. Как-то раз и я съездила с ним. Не проронив за весь путь ни слова, он гнал грузовик, как ракету, не разбирая дороги, с такой бешеной скоростью, что я зареклась больше ездить с ним. То ли злился, что взял пассажира, то ли все-таки был нетрезв… хотя не исключаю того и другого вместе. А у меня и по сю пору нет-нет, да и заноет зашибленный копчик.
– Ну, мне пора, – и в самом деле, остановилась Таня. – Оксанка забоится одна, в темноте. Я ее наказала вечером. Не взяла к телевизору, оставила в корпусе. Кто же знал, что свет отключат.
И наспех распрощавшись, повернула направо. А все из-за этого шофера, из-за того, что я заговорила о нем. Тут темная была история. Однажды она вернулась из поездки с ним сама не своя. Два дня не появлялась на крыше, а когда, наконец, пришла, то в таком была подавленном настроении, что я даже не осмелилась ее о чем-либо расспросить. Уже после она сказала сама, что попала с Гариком в небольшую аварию, но в какую именно, не пояснила, и это было невероятным – чтобы Таня во всех красках не расписала аварию! Грузовичок (выходя из столовой, я осмотрела его) был целехонек, нигде не поцарапан, не помят, да ведь и сами не пострадали. Мне пришлось остановиться на версии, что Гарик, распаленный алкоголем и Таниным назойливым кокетством, в силу недалекости своей и примитивной мужской спеси, превратно все эти ее ужимки истолковал и просто-напросто изнасиловал где-нибудь в лесу. Возможно, грубее и примитивней, чем могла ожидать сама Таня, так и нарывавшаяся на подобную развязку романа. Иначе, почему с тех пор она не только не ездила с ним, но даже никогда не поминала? И Оксанка больше не нуждалась ни в каком лимонаде…
Дальше мне пришлось идти одной, наш дом стоял на самом краю территории. Помнится, я сама выбрала такое расположение, стремясь к уединению. Разве могла я подумать, что впоследствии пожалею об этом? Темное, словно уже осеннее, небо сливалось с кронами сосен, окна домов тоже были черны, ведь никто не захватил сюда с собой свечек, и только поверхности многочисленных луж чуть посверкивали, как осколки разбитых зеркал… Может, зря отшила Таню? И чем ближе подходила к своему корпусу, тем сильнее становилось желание повернуть назад. А может, все обойдется? И она так и не придет?
В темноте еще долго возилась с ключом, никак не попадая в скважину, а когда зашла-таки в комнату, споткнулась обо что-то у самой двери.
– Осторожней, – запоздало предупредила она. – Там мой чемодан.
Я наощупь пробралась к своей кровати.
– Отчего вы не были сегодня в столовой? – спросила я, хоть и давала себе слово ни о чем ее не спрашивать. Однако молчание в темноте и бывает особенно тягостным.
– Я уезжаю, – сказала она, не ответив на вопрос.
Слава богу! – мысленно воскликнула я, уже расстилая постель. Спать мне, конечно, не хотелось, но единственное занятие, которому я могла бы предаться, – чтение, было сегодня недоступно. Неужели, и правда, она уедет, и я доживу последние денечки в покое?
– К черту, – проговорила она погодя.
У нее иногда вырывались такие словечки, обращенные будто в никуда, я к этому уже привыкла, несмотря на то, что ругательства плохо вязались с ее библиотекарским видом. Но надо отдать ей должное – ко мне она всегда обращалась вежливо, даже подчеркнуто вежливо. Это Тане сегодня не повезло.
– К черту! – повторила она громче. – Наврали… наврали, что сюда приезжают отдыхать моряки, да еще и подводники, а здесь одни старухи!
Помедлила и, как ни странно, продолжила.
– Лишь бы сбагрить путевку, а я поверила. И в поселке на танцах одни сопляки, я ходила туда сегодня. Я уеду завтра же, первой электричкой.
Столько информации в один присест – такого еще не бывало! Я заслушалась, взбивая тощую казенную подушонку. Надо же, что у нее на уме – подводники! Значит, таскалась в поселок, а я-то беспокоилась, думала, к реке, хотя и поселка со счетов не сбрасывала. Она опять умолкла, и чтобы подтолкнуть ее к продолжению беседы, я спросила с излишней любезностью:
– Вы и впрямь решились уехать? Хотя, знаете, я и сама, бывает, подумываю об этом, – (даже приврала, уж я-то уеду отсюда в положенный срок, ни часом ранее). – У себя в профкоме так и скажу, что бытовые удобства в “Речном плесе“ никудышные… Ведь могли бы хоть изредка протапливать, чтобы мы не становились заложниками непогоды.
Со стороны ее койки донесся неясный краткий звук – вроде, поддакнула.
Забравшись под одеяло, я вытянула ноги на влажной холодной простыне. Тепло так медленно подбиралось к кончикам пальцев, что некоторое время казалось, будто я стою на снегу. Где-то далеко, скорее всего, за баней, заорали кошки. Не иначе, подрались. Там обосновалась целая стая поселковых кошек, их прикармливали, раскладывая на газетах остатки столовской еды. Вот донесся шум мотора, взвизгнули тормоза. Это, наверное, Гарик. Привез продукты на завтрашний день, других машин в такое время здесь не бывало. Он всегда приезжает так поздно, подгадывает, чтобы остаться на ночь у заведующей. И где-то наверняка у него семья и даже, может, не одна, такие «гарики», повторюсь, нарасхват… А может, ему, алкашу, просто безопаснее ездить ночами, чтобы не нарваться на какого-нибудь гаишника…
– Вы спите? – вдруг спросила она, когда все затихло: успокоились кошки, заглохли моторы, да и я уже почти погрузилась в сон. – Вы знаете, почему отключилось электричество?
– Наверное, где-то повреждение на линии, может, авария…
Я даже усмехнулась во тьме – надо же, стоило ей только разговориться, как приходится уезжать, какая жалость!
– Вот я и спрашиваю, вы не знаете, отчего авария? И именно сегодня? – спросила опять.
– Разумеется, деталей я не знаю, – сказала я, уже даже не удивляясь ее глупым вопросам. – Я же не электрик.
– Зато я знаю… это из-за меня! Из-за меня, потому что я хотела уехать уже сегодня вечером, не дожидаясь утра!
Что за чушь, при чем здесь электричество? – подумала я, ощутив, наконец, долгожданное тепло в ногах. Теперь бы самое время заснуть.
– Мне пришлось бы опять идти дорогой вдоль леса. В абсолютной темноте, без единого фонаря. Вот вам… разве не было бы страшно? Вы же помните, что в тот день, когда я приехала сюда, ураганом повалило дерево? Поперек дороги и прямо на провода. Так что, видите, все сходится, это из-за меня! – странная торжествующая нотка прозвучала в ее голосе.
– Ну-у… – протянула я, – мало ли чего случается, и если…
– Никаких “если“, – оборвала она меня. – Говорю же, причина во мне, это меня хотят наказать, сломить! Чтобы я всю жизнь ползала на коленях, вымаливая прощение!
Все это произнесено было высоким, чуть свистящим шепотом. Театр, да и только. Рановато я обрадовалась, она раскипятилась не на шутку и еще успеет вытворить что-нибудь напоследок. А я улеглась! Такая теперь беззащитная перед ее не пойми откуда взявшейся яростью.
– Да помилуйте, – обратила я к ней такое устаревшее словечко, понимая, что сейчас надо как можно более тщательно подбирать слова. – За что же вас наказывать?! Я уверена, что где-то просто перегорела какая-нибудь пробка, замыкание или что там еще…
Она не отвечала, да так долго, что я уже было решила, что она, как обычно, сочла наш разговор оконченным. Ведь, повторю, ответами на вопросы она себя не утруждала.
– За что? – вдруг промолвила тихо. – Всегда есть за что наказывать. И меня, и вас, и каждого. Ну, например… за убийство. Вам случалось когда-нибудь убивать?
Спросила бесстрастно, обыденно. Я приподнялась на локте – в темноте едва заметна была ее голова на фоне чуть белеющей наволочки. Уловив мое движение, она усмехнулась:
– Да не пугайтесь! Я так, к слову… только признайтесь, что иногда так и хочется кого-нибудь убить! Я даже читала, что это не такое уж отклонение, что это даже в порядке вещей, мы только сдерживаем себя, как люди воспитанные и образованные. Позволяем же мы себе давить насекомых! Даже будет банальностью сказать, что это тоже убийство. Но ведь, правда, в такие моменты чувствуется какая-то власть над жизнью? Секунду назад оно летало, ползало, и вот – одно движение нашего пальца, еле слышимый хруст, и нет его… и это уже непоправимо. Непоправимо! Помню, в детстве, играя во дворе, я распорола гвоздем резиновый мяч. У меня был замечательный мяч – розовый с пупырышками, из плотной полупрозрачной резины, словно огромный рубин он светился на солнце… Я неосторожно пнула его, и он ударился о забор, как раз о большущий ржавый гвоздь. Воздух вышел из него с таким ужасным звуком… как последнее дыханье из живого существа! И сколько я потом его ни заклеивала, ставя заплаты, ни заматывала изолентой, ничего не помогало, он был, он оставался будто… мертвым. И почему-то поменял цвет, потемнел до багрового оттенка, и уже не прыгал и не звенел, а еле переваливался по двору, враз отяжелевший, как… как отрубленная голова. Вот тогда я впервые осознала, что это такое – не-по-пра-ви-мо… Но я не убивала! Не подумайте, нет! Она сама. За давностью лет никто ничего и не спросит – какие могут быть улики, где свидетели? Все произошло так быстро… И даже если вы и захотите сообщить обо всем в милицию, над вами только посмеются, да-да, укажут вам на дверь. Вот вы сейчас лежите и думаете – зачем она мне все это говорит?
Она угадала, я думала именно об этом и еще о том, что Таня была права – это клиника! Та, из которой слова надо было клещами вытягивать, вдруг разразилась воспоминаньями – и о чем? О мяче! Точно метким броском она запустила его в темноту, до того явственно пронесся он перед закрытыми глазами – светящийся, алый, до боли знакомый, ведь у каждого в детстве был мяч… И что-то еще об убийстве… убила мяч?! Я сплю? Или тоже схожу с ума?
– Не лучше ли ей, то есть мне, обратиться к психиатру? Ведь так думаете вы? Однако нет, как раз ему-то я ничего не смогла бы сказать, потому что в кабинете будет гореть свет, а в кабинетах он, как правило, бывает особенно яркий и какой-то… недоброжелательный. Раздражающе наглый свет. Да и кто он такой, психиатр? Такой же человек, как и вы… Если позволите, я расскажу обо всем вам, расскажу сейчас, когда так темно, что я даже не могу видеть вашего лица, как и вы моего. А утром, едва забрезжит, я уйду и, стало быть, вас и вовсе больше не увижу. Я бы не стала, поверьте, не стала бы беспокоить вас да еще в такой поздний час, я столько лет молчала, но она… она достает меня повсюду! Сегодня дошло до того, что она залезла следом за мной на крышу! Я уже свыклась с тем, что каждую ночь вижу ее во сне, вы только подумайте – каждую! – но это бы ладно, это не особо напрягает меня, потому как понимаю, что это всего-навсего сон, и, если ей вздумается опять довести меня до слез, я смогу в любой момент проснуться…
О чем она? О ком? Кто залез вместе с ней на крышу? Надо бы прервать, переспросить хотя бы, но странно, отчего-то я ни звука не могла произнести, ни даже пошевелиться…
– Иногда в сумерках она ходит со мною к реке, – продолжала меж тем она, – но там она ведет себя спокойно, тут я не могу ее упрекнуть. Садится на песок и опускает в воду, представьте, в ледяную почти воду, свои распухшие белые ноги. Видимо, ей это нравится, в такие моменты она даже перестает мучить меня своими бесконечными жалобами, и я могу принять ее за простую отдыхающую старуху, которых здесь полно. Но вот, чтобы появиться днем, при ярком солнце, там, где, казалось бы, я так надежно спряталась – на крыше! Такого еще не бывало. Она забралась туда, отдуваясь, запыхавшаяся и бледная, будто только что из своего погреба, и проговорила с обычным укором: «Зачем залезла так высоко?»
– Да ведь вы спали на крыше?! – не выдержав, воскликнула я.
– Ничуть! – с жаром возразила она. – Я даже не задремала и слышала все, о чем вы говорили с этой белобрысой тупицей! Говорю же, она меня преследует! И только, когда я догадалась подойти к Виктору, она немного испугалась. Наверное, – (тут она хихикнула, от чего меня пробрал озноб, то был нервический смешок умалишенной), – наверно, она решила, что это мой кавалер и что, вздумай она ловить меня, он непременно заступится, защитит. Он все-таки крупный мужчина, ей с ним не сладить…
От смеха она закашлядлась. Стала нашаривать на тумбочке ингалятор. Я лежала, точно пригвожденная, опасаясь даже повернуться на бок: не дай бог, моя возня спровоцирует новый приступ, неизвестно чего, но приступ. Ноги мои занемели и вновь замерзли, но это были уже пустяки… Прокашлявшись и отдышавшись, она проговорила с какой-то серьезной грустью:
– Знаете, о чем я все время думаю…
В короткую эту паузу у меня мелькнула надежда, что, может, от ингалятора ей полегчало и даже немного прочистились мозги? И какой-никакой рассудок вновь вернулся к ней? Хотела даже сказать ей что-нибудь утешительное, поласковей, но не успела…
– Я думаю, а не может ли она защекотать меня? В старину такое случалось, есть много свидетельств… Ведь она все ближе подбирается и, следовательно, становится все опаснее. То, что она желает моей смерти, это очевидно. Не далее, как сегодня утром, она подговаривала меня выпрыгнуть в форточку, это чтобы я головой упала на ту острую щебенку, что насыпана под окном. Она стояла вот тут, возле шкафа, вы не заметили, поскольку были заняты дверью, а она подстрекала: “Давай, давай, лезь, я тебя поддержу! Докажи этой своей Иродиаде, что не одна она здесь хозяйка, ты тоже можешь принимать решения! Представь, что тебе всего девять, и прыгай…».
– Как вы сказали… Ира… Иродиаде? – царапнуло меня именно это.
– Ну, да, это она про вас! О, она умеет метко назвать! Вы, может, подумаете, что это у нее, то есть, у меня, видения такие, галлюцинации… лежите сейчас и, может, улыбаетесь в темноте. Что ж, я не вижу вашей улыбки, и, стало быть, ее как бы и нет для меня. Все дело в том, что ее-то я как раз вижу, пусть иной раз расплывчато, иногда словно прозрачную… порою это и вовсе будто тень, но я вижу! И, стало быть, она более реальна для меня, чем даже вы, чем кто бы то ни было! Но предупреждаю, если вы вздумаете надо мной посмеяться, если вы… то… впрочем, это ваше право, мне все равно. Мне аб-со-лют-но будет все равно.
Эти предупреждения, конечно же, были напрасны – мне было совсем не до смеха. Если б я была уверена, что замок опять не заклинит (а по известному закону он обязательно заклинит!), то выскочила бы в коридор прямо в ночной рубашке, добежала бы до соседей, которые мирно спали сейчас в противоположном конце корпуса, кто-нибудь вызвал бы медсестру или даже скорую из поселка, общими усилиями покараулили бы ее до приезда врачей, а те, сделав какой-нибудь укол, увезли бы ее немедля в ближайшую психушку…
Так лихорадочно прикидывала я в то время, как она завозилась на своей кровати, устраиваясь поудобней, полусидя, подоткнув под спину подушку. Что-то переставила на своей тумбочке, отхлебнула какой-то жидкости из стакана и после этих недолгих приготовлений начала свой рассказ – голосом ровным и размеренным, ни дать ни взять, профессиональная чтица.
Мне же не оставалось ровным счетом ничего, как только лежать, вытянувшись в струну, и слушать, лежать и внимать… постепенно, как в глубокий колодец, погружаясь в чужое прошлое. Слова, дробясь на звуки, набрякшими каплями падали на дно, неожиданно гулкие в кромешной тишине и стремительные, точно ртутные шарики, вырвавшиеся на волю из разбитого градусника…
– Весь тот год мы с матерью прожили в пригороде…
Часть II
Весь тот год мы с матерью прожили в пригороде, таком же захолустном, как здешний поселок. Мы снимали небольшую, смежную с холодной верандой комнату в частном доме. Сегодня я могу сказать, что это был обычный деревянный дом в два этажа, какой найдете в любой дачной местности, но тогда… Тогда он виделся мне, девятилетнему еще ребенку, чудовищной громадой с раздутыми боками-пристройками и кривым балконом. Да, он не производил веселенького впечатления, этот дом, несмотря даже на то, что был свежевыкрашен по фасаду светлой, еще лоснящейся охрой. Резной балкончик, задуманный, очевидно, как украшение, в действительности как-то косо, без малейшей симметрии лепился к угловой мансарде, что придавало облику дома – в целом хоть и хмурому, но крепкому, – едва уловимый оттенок ненадежности…
А может, виною всему были сосны, что высились прямо за клубничными грядами – они шумели даже в безветрие и, казалось, скрадывали в своих красных исполинских стволах почти половину неба…
Я хорошо помню наш приезд. Мы с матерью шли от калитки к дому, нашему новому пристанищу, по неширокой дорожке, посыпанной розоватым песком и обсаженной по обе стороны высокими пышными флоксами. Был конец лета, как и сейчас. Хозяин подметал дорожки и, не прерывая своего занятия, медленно двигался навстречу нам. Это был невысокий пожилой человек в синей рабочей куртке и суконных ботах, он взмахивал метлой широко, но аккуратно – не вздымая пыли. Взмахивал до тех пор, пока его огромная колючая метла не уперлась в мамины туфли. Лакированые, заметьте, выходные туфли.
И у меня тогда такое нехорошее чувство мелькнуло, что будто он хотел… смести нас, да-да, в буквальном смысле, смести со своей розовой ухоженной дорожки, как что-то ненужное, как помеху. Вдобавок, и лицо его вблизи оказалось на редкость неприветливым, если не сказать, злым, – с перебитым носом и кустистыми седыми бровями. Впоследствии-то мы узнали, что выражение его лица всегда было таким и, во многом, как раз из-за носа, поврежденного на войне и оттого чуть будто сдвинутого на сторону, такой же почти дефект, как и у балкончика его кривоватого… Однако долгое время ничто не могло развеять того моего странного убеждения, что в самый первый день хозяин был недоволен моим появлением. Именно моим, поскольку с матерью он уже виделся прежде, когда договаривался насчет жилья, а вот я – я с первого взгляда не понравилась ему. Мало того, я даже решила, что он сразу возненавидел меня.
По прошествии стольких лет появилась у меня и такая мысль – а не было ли это предчувствием? Быть может, его и без того нездоровое сердце вдруг заныло в тот самый момент, когда на утренней дорожке показались мы и над нами, едва ощутимая в одуряюще-сладком аромате флоксов, уже кружила беда? Как, бывает, улавливаешь в цветке самую первую, будто даже чуть пряную нотку скорого неизбежного увядания… Я, вообще-то, и не верила бы в дурные предчувствия, но ведь жизнь и события заставляют нас верить в них.
К тому же мы застали Петра Михалыча (так его звали, нашего хозяина) в тот невеселый период жизни, когда мужчина постепенно и незаметно превращается в старика. Он начинал уже шаркать, хотя был еще достаточно бодр, переспрашивал по нескольку раз, хотя, по моим более поздним наблюдениям, обладал довольно острым слухом, и с наибольшим увлечением занимался уже сугубо стариковскими делами, к каким, несомненно, относилось многочасовое подметание двора. В моей памяти он, кстати, давно покойный, всегда всплывает именно с метлой, в обрамлении из фантастически-пышных фиолетовых флоксов…
Хозяин повел нас, будто нехотя, к дому, даже не предложив матери помочь с вещами. Я плелась следом за ними, оглядывая и дом, и двор, но от волненья ничего не видя. Вот мы переступили высокий порог, обитый войлоком, и очутились в кухне, довольно просторной, но темной. Занавески на окне почему-то были задернуты.
– Алевтина! – позвал Петр Михалыч, но никто не отозвался.
Я успела сосчитать немытые чашки на столе и заметить остатки картошки в неприкрытой сковороде, когда дверь, ведущая в комнаты, наконец приоткрылась. Оттуда выглянула пожилая женщина с бледным широким лицом и желтыми волосами.
– Квартиранты прибыли, – горестно объявил хозяин и зачем-то пояснил. – Женщина и с нею девочка.
После паузы добавил все с тем же недовольным видом:
– Жена моя, Алевтина Ивановна.
Хозяйка к нам не подошла, а так и оставалась стоять в дверях, пристально нас разглядывая. Она лишь кивнула и негромко сказала:
– Хорошо.
– Отведу их в тамбур, – сообщил Петр Михалыч будто бы ей, а на самом деле, конечно же, нам. – Как договаривались. Оплата первого числа каждого месяца, без проволочек. Как договаривались.
И с этими словами вывел нас обратно в маленькую прихожую, где стояли фляги с водой и где под лестницей, ведущий на второй этаж, и располагалась наша комнатка. Хозяева называли ее тамбуром и справедливо: она была не больше вот этой, где мы сейчас с вами находимся, и довольно холодной. Но мы были рады и этому, после рабочего общежития, где мы жили прежде, это было настоящей роскошью – иметь свою комнату. Мне даже нравилось, что нас теперь называли квартирантами, это слово казалось таким же звучным и красивым, как и “тамбур“.
В первые дни я ни на шаг не отставала от матери, потому что боялась хозяина. Особенно любила ходить с ней на кухню и греться у плиты, пока она готовила. Матери приходилось торопиться – топили плиту всего два раза в день, и при этом хозяин не любил, чтобы мы мельтешили на кухне в его присутствии. Готовил он всегда сам. Чаще всего жарил картошку, раскладывал ее по двум большим тарелкам: одну съедал тут же, у плиты, а другую уносил в комнаты. Я даже знала, что он всегда пережаривал свою картошку, до черноты, – все подробности я успевала подметить, когда, замирая от страха и любопытства, выбегала на кухню за чайником. И все время ожидала окрика…
Хотя, если покопаться в воспоминаниях, то окажется, что этот неизменно сердитый Петр Михалыч никогда не повышал на меня голоса. Скорее, он просто не замечал меня, да и то сказать, меня вообще мало замечали. Я была молчаливым неназойливым ребенком… не то, что сегодняшняя девчонка на крыше, вечная всем помеха. Как сейчас я вижу себя в голубом фланелевом халатике, в колготках с отвисшими коленками, с косичкой, уложенной тугим калачиком высоко на затылке. Мать каждое утро завязывала мне огромный капроновый бант, но даже и с этим бантом я оставалась никем не замеченной. Вот, бывало, еще в городе мать повстречает кого-нибудь на улице, разговорится, а я, как всегда, стою рядом, внимательно слушаю и жду, когда же незнакомая тетенька вдруг опустит глаза и скажет, чуть сюсюкая и заигрывая, как это принято бывает с другими детьми: “А это что за девочка?! Это чья такая девочка?!“, ну, какие-нибудь пустяки в этом роде. Но не припомню, чтобы кто-то хоть раз заговорил со мной подобным образом. Взгляды взрослых всегда точно соскальзывали с меня, и никакие банты и красные праздничные колготки, никакие мои вежливые тихие улыбки не могли ни привлечь эти взгляды, ни удержать их… Впрочем, я отвлекаюсь, ведь речь сейчас не о том.