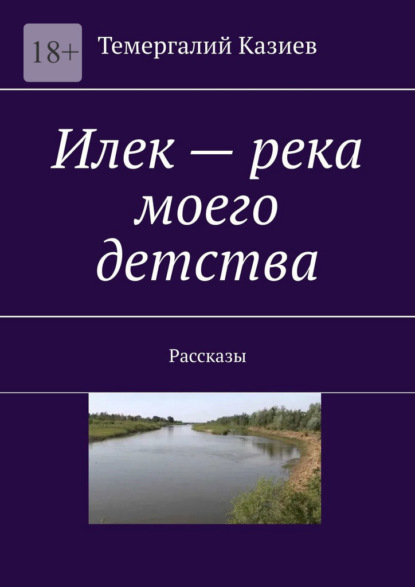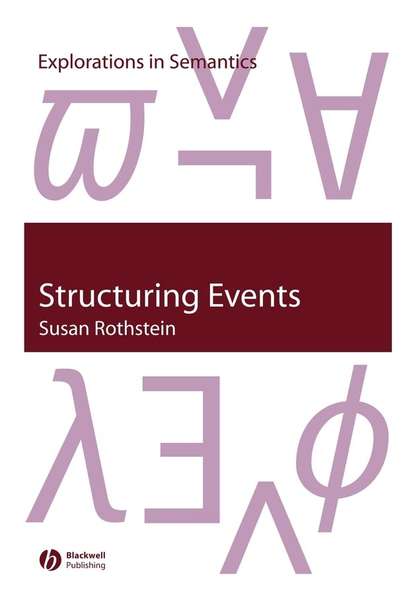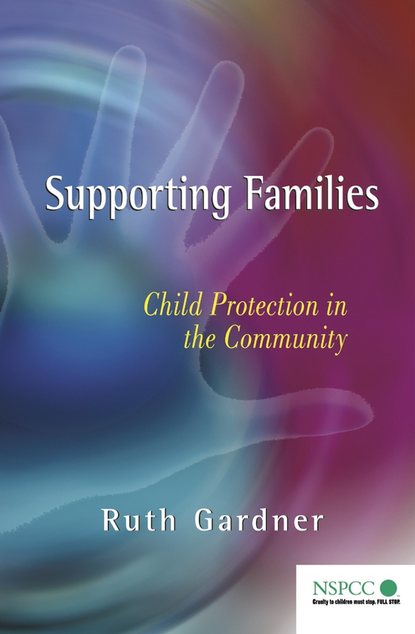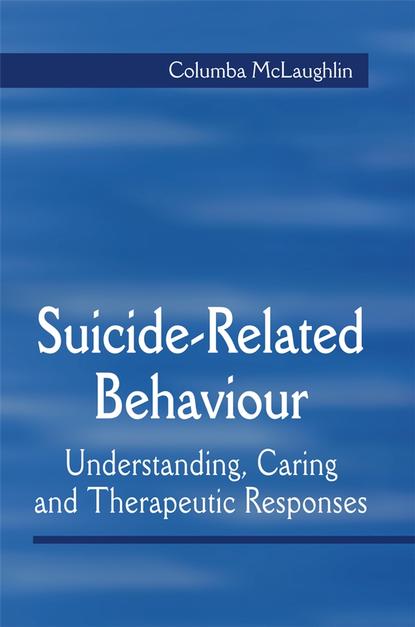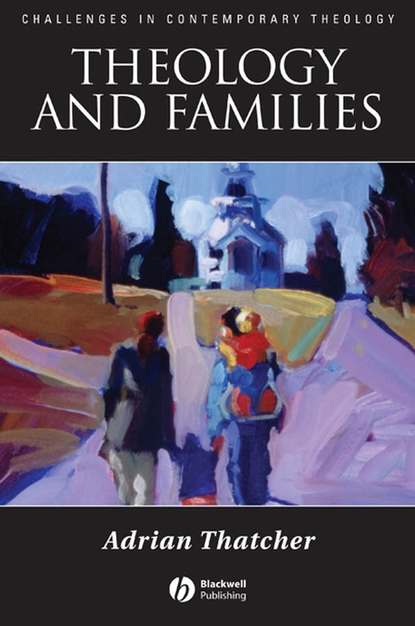- -
- 100%
- +

© Темергалий Казиев, 2025
ISBN 978-5-0068-4319-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Илек – река моего детства
Илек… Рядом с берегами этой могучей степной реки прошло моё детство. Крайняя улица Сагарчина – Садовая, где я жил, находилась всего в пятистах, а местами и в ста метрах от реки. В общем, довольно близко, и это обстоятельство было особенно благоприятно для местной детворы, летом до самого заката плескавшейся в тёплых речных водах. Однако ситуация резко изменилась в конце семидесятых годов: тогда из-за угрозы затопления правление совхоза приняло решение об отводе реки от села. В итоге километрах в пяти от Сагарчина был прорыт канал – и двигавшиеся прежде в сторону села речные воды свернули на новый путь. После состоявшегося отведения протекавший у села Илек не исчез, но резко обмелел, уменьшился в размерах. Берега начали постепенно зарастать зеленью, русло в жаркие дни лета стало делиться на более или менее крупные питаемые подземными источниками озёрца. Неумолимо заработал процесс медленного угасания реки.
А ведь раньше, во времена моего детства, Илек тут был другим: полноводным, мощным, буйным. Особенно ярко характер реки проявлялся в период весеннего половодья. По бурлящей воде, гонимые быстрым течением, нескончаемым потоком неслись льдины: всякие – совсем небольшие и просто громадные – они плыли, на ходу обгоняя друг друга, с силой ударяясь о земляные берега. Это был настоящий разгул природы, незабываемое, потрясающее зрелище!.. Отметины тех былых половодий до сих пор присутствуют у села в виде высоких обрывистых круч вдоль речного русла. А сколько в Илеке было рыбы! Несравнимо больше, чем сейчас. Подусты, голавли, щуки, лещи, сомы, окуни, ерши, налимы… Какой только рыбой не изобиловала в ту пору река… И глубже она была, и пляжи песочные расстилались перед её водами…
Вода – и радость, и опасность
Плавать я научился рано. Но прежде, чем научиться, по крайней мере раза два попадал в ситуации, когда мог и утонуть. Опасные ситуации, которые почему-то особенно чётко отложились в памяти.
В первый раз такое случилось, когда мне было лет семь. В жаркий солнечный день мы, стайка ребятишек, купались в тёплой илекской воде. Я, тогда ещё не умевший плавать, плескался на мели, не смея отойти далеко от берега. Забывшись, свернул в сторону и сразу резко провалился вниз. Надо мной вдруг разом сомкнулась вода. В ужасе я понял, что тону, что попал в «ямку» – так называют у нас эти коварно скрывающиеся под водой впадины. То, что я делал потом, совершает каждый тонущий в воде человек: это инстинктивные беспорядочные взмахи руками и ногами, всплытия, когда успеваешь увидеть лишь кусочек неба и делаешь ртом жадные вдохи воздуха: «А-ап! А-ап!» Вдохи вместо крика о помощи, потому что кричать в подобном положении почти невозможно… На моё счастье, неподалёку купался Калила – парнишка с нашей улицы. Он заметил происходящее и вытянул меня на берег.
После этого случая уже в другом уголке реки ситуация повторилась: точно так же купаясь на мели, я неосторожно угодил в глубокое место. Потом беспомощно барахтался в воде до тех пор, пока кто-то снова не вытянул меня обратно. Как и в первый раз, всё обошлось благополучно. А скоро я сам научился плавать и с того времени перестал бояться исходившей от воды опасности. Но на деле вышло так, что впереди меня ожидало ещё одно, едва не ставшее последним водное испытание.
Случилось это у Мазарок – высокого, омываемого Илеком песчаного холма, прозванного так из-за стоявших здесь некогда могильных мазаров. Привлекательным для купания данное место делали имевшиеся тут большие и глубокие затоны и относительно удобные подходы к ним. В послеобеденное жаркое время суток здесь всегда собиралось немало народа. И в тот летний день купающихся было много: одни копошились на берегу, другие плескались в воде, третьи загорали на песке на противоположной стороне реки.
Я стоял на прибрежном островке, готовясь окунуться в воду, а в это время купавшийся рядом на мели сосед по улице Серёжка стал уговаривать меня вплавь переправить его на другой берег. В то время я учился в восьмом или девятом классе и считал себя достаточно умелым пловцом. К тому же длина реки в этом месте составляла метров пятнадцать-двадцать – ну-у, что тут стоит переплыть?! И сам мальчишка был небольшой, лет на шесть младше меня. Дело казалось пустяковым, и я, долго не раздумывая, согласился. Согласился, никак не предполагая, к чему всё это может привести…
Вошли в воду до пояса. Сергей ухватился руками за шею, и мы поплыли. Вернее, поплыл я. И поплыл не как обычно – вразмашку, а по-собачьи, работая руками под водой. Это было моей ошибкой, и почти сразу я стал тонуть. Всё моё умение плавать вдруг разом пропало – я лишь бесполезно махал руками и ногами и неуклонно шёл ко дну. Перепуганный, крепко сдавив шею, за спиной ревел Сергей. Глубина под нами была, как теперь понимаю, метра два-три, это в конечном счёте и спасло. Я касался ногами дна, делал отчаянные рывки в сторону берега и на мгновения всплывал. Но вдыхать воздух не успевал и снова камнем уходил вниз. В какой-то момент я, видимо, потерял сознание. В голове будто что-то замкнуло, и ужас тонущего в воде человека внезапно сменился на другое – щемящую тишину и спокойствие. Я вдруг увидел откуда-то сверху купающихся в реке людей и нас двоих, тонущих в воде. Мелькнула мысль: почему все вокруг спокойно купаются? Разве они не видят, что мы тонем?.. Не знаю, сколько продолжалось это странное состояние, но нам всё же как-то удалось добраться до спасительного берега. На берегу я долго не мог прийти в себя. Голова гудела, тошнило, я ходил из стороны в сторону по песку, ожидая, пока закончится это болезненное состояние…
Из того случая я извлёк для себя урок на всю жизнь – урок в виде выстраданного горьким опытом правила: при спасении утопающего подплывать нужно только сзади, а не спереди. И при этом ни в коем случае нельзя находиться спиной к тонущему. Этому правилу я учил детей, когда работал в школе, повторяю его и теперь другим людям. А ещё к сказанному добавляю одно полезное знание – оно звучит так: тонущий в воде человек в силу названных выше причин не может кричать, звать на помощь. Он тонет неслышно. Это можно только увидеть. Поэтому при купании в опасных местах необходимо по возможности быть внимательным к тому, что происходит вокруг.
На том бы и закончить это короткое воспоминание о давнем водном происшествии, если бы много лет спустя мне не попалась на глаза одна интересная газетная статья о работе оренбургских водных спасателей. Так вот, внимание моё привлекла одна из рекомендаций спасателей, а именно – как вести себя в ситуации, когда тонущий человек, крепко вцепившись, тянет тебя за собой ко дну. И оказалось вдруг, что и при этом, казалось бы, безвыходном положении имеется возможность выжить: необходимо просто вместе с утопающим идти ко дну – в какой-то момент тот, подчиняясь инстинкту самосохранения, отпустит вас и устремится обратно на поверхность. Конечно, для исполнения подобного действия требуется недюжинное самообладание, но это единственное, что можно сделать в такой ситуации… Как говорится – век живи, век учись.
То, о чём я рассказал, происходило летом. Зимой же у меня тоже не обходилось без приключений – довелось два раза проваливаться под илекский лёд. В первый раз оказался по пояс в воде, в другой раз провалился чуть поглубже. В обоих случаях успешно выкарабкивался на поверхность, а потом, перекатываясь, перебирался на безопасное место. А после уже что было силы бежал к жилью, к теплу. Бежал в промокшей одежде и полкилометра, и километр, но не простудился.
Приходит на память ещё одно воспоминание: как однажды в апреле, через две-три недели после ледохода переходил вброд через Илек. Лезть в такую пору в холодную и мутную речную воду было, конечно, по меньшей мере неразумно. Но я решился и полез. Просто потому, что это был самый короткий путь к нужному мне селу – всего минут сорок ходу вместо почти двадцатикилометрового утомительного обхода.
Спустившись с высокого обрыва вниз, по песчаной, прорезанной зарослями тал долине я прошёл к реке. Совсем недавно проводивший в путь караваны льдин, Илек был по-прежнему буйным, стремительно нёсся мимо, обдавая волнами песчаный берег. Объятая извечным движением, река таила в себе немало опасностей, и главная из них для меня заключалась в воде – ещё по-зимнему холодная, она могла вызвать судороги в теле. Муть же, скрывавшая от глаз глубину, была на втором плане – в крайнем случае мог и выплыть.
Напротив меня на другом берегу виднелся небольшой холм. Где-то под ним раньше находился выходивший к реке водяной насос. Теперь это место являло из себя отличный ориентир для перехода на противоположную сторону. Раздевшись, с мотком одежды в руках я осторожно вошёл в воду. Вошёл, сделал несколько шагов – и выскочил обратно на берег. Вода под ногами была оглушительно холодной, будто студёными иглами она насквозь пронзила тело, сбила дыхание. Даже проваливаясь под лёд, я не испытывал такого – скорее всего, из-за того, что одежда промокала в воде не сразу…
Чуть постояв на месте, я снова вошёл в реку. И решительно двинулся вперёд – уже не останавливаясь, не обращая внимания ни на пронизывавшую ледяным холодом воду, ни на сопротивление толкавших, сбивавших с пути волн. Как и предполагал, глубина Илека тут оказалась небольшой, лишь где-то в середине она дошла до пояса, а потом опять быстро пошла на убыль. С плеском переставляя по воде ноги, я преодолел последние метры и вышел на другой берег. Совсем недавно казавшийся далёким, слева от меня возвышался холм-ориентир, из-под низа его выглядывала на свет толстая железная труба. Пройдя вперёд, я опустил на сухую землю узел с одеждой и обернулся назад. С неба мне били в глаза лучи тёплого весеннего солнца. Внизу под ним чернела длинная полоса обрыва, за которым пряталось село. А прямо передо мной, разошедшийся во всю ширь, стремительно проносился Илек. Илек – река моего детства.
Судьба Жупар
Эту историю об удивительной судьбе своей бабушки мне рассказал Емберген Тасыров, сорокапятилетний житель села Покровка. Услышанная ещё в детстве, жизненная исповедь близкого человека настолько глубоко врезалась в память впечатлительного мальчика, что пересказать её во многих подробностях он мог и уже в зрелом возрасте.
Звали его бабушку Жупар. Родилась она в самом начале двадцатого столетия в одном из дальних уголков Казахстана, являвшегося в ту пору окраиной Российской империи. Отец её, потомственный бай, владел большим количеством скота: овцами, лошадьми, коровами, верблюдами. Кроме Жупар, в семье имелось ещё несколько детей.
Спокойное существование байской семьи было нарушено революцией октября 1917 года и последовавшей вслед за ней Гражданской войной. Однако бурные события в стране, сменившиеся затем нэпом, не смогли существенно повлиять на жизнь бая, он по-прежнему оставался крупным владельцем скота. Казалось, ничто не в силах было повлиять на это веками сложившееся положение вещей. Но проходило время, а обстановка в стране постепенно изменялась. Изменялась не в лучшую для бая сторону…
1928 год. Программа масштабной индустриализации страны ставит перед сталинским руководством задачу перекачки средств и рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность. 3 февраля на заседании Омского окружкома Сталин санкционирует чрезвычайные меры в ходе хлебозаготовок, открывавшие путь насильственному изъятию зерна у крестьянства. 26 августа того же года ЦИК и СНК Казахстана, сообразуясь с избранным руководством страны курсом, выпускают собственный декрет «О конфискации и выселении крупнейших байских хозяйств и полуфеодалов»…
Пасмурным осенним днём к их аулу подъехали на лошадях всадники. Они грубо ворвались в юрту и, наскоро зачитав бумагу, увели с собой отца. А вскоре та же участь постигла всё семейство. На повозке в сопровождении незнакомых людей их отвезли в город и там разместили в тесном помещении, где уже находились другие объединённые схожим несчастьем люди. Здесь им суждено было в последний раз быть вместе: отсюда её с одним из младших братьев перевели в местный детский дом. Но пребывание в детском доме оказалось для девочки недолгим, вскоре её ждал путь к новому месту назначения. Именно тогда, по пути следования к месту, с Жупар случилась история, явившаяся причиной одного из резких поворотов в её судьбе…
Побег
Началось всё с того, что она услышала от кого-то из вагонных соседей тревожные, сразу остро запавшие в сознание слова:
– Нас, наверное, везут на гибель, поэтому, если кому-то получится бежать, бегите. Может, хоть кто-то сможет спастись…
Во время одной из остановок эшелона сопровождавший группу охранник указал пальцем на нескольких человек, в том числе на Жупар, и велел им сходить с ним за водой на станцию. Внезапно поднятая с места, девочка почувствовала, как учащённо забилось в груди сердце, и, разбуженная, взбудораженно заметалась в голове мысль: «Надо бежать! Надо бежать! Это время настало…» Сойдя по подножной лестнице с вагона, она вслед за другими дошла до станционной колонки и стала дожидаться своей очереди. Стараясь действовать неспешно, последней набрала воды в чайник и, улучив момент, когда охранник отвернулся, мгновенно юркнула за угол. Лишь со скрипом начавшего движение эшелона поджидавший её у вагона охранник закричал, заметался по станции. Но было уже поздно…
После отхода составов Жупар вышла из укрытия. Теперь перед ней был лишь опустевший железнодорожный путь, а вокруг стояла такая непривычная слуху тишина… Отныне она была свободна, она добилась того, о чём так мечтала совсем недавно!.. Но радость от успешно завоёванной свободы неожиданно быстро улетучилась, уступив место другому, всё более нараставшему и нестерпимо щемившему чувству – чувству одиночества… Она вдруг отчётливо и ясно осознала, что осталась совершенно одна – одна среди пугающей тиши незнакомого места, без совета и помощи близких людей. Одна перед сурово раскрывшей перед ней своё истинное лицо окружающей реальностью… Но отступать назад было уже поздно, и, на ходу вытирая выступившие на глазах слёзы, Жупар побрела к окраине станции. Добравшись вскоре до края, она свернула на узкую просёлочную дорогу и пошла по ней, сама не зная куда…
Рано наступившие осенние сумерки застали её вблизи какого-то большого, привлекавшего ярким светом огней селения. Под заливистый лай выбежавшей навстречу низкорослой белой собаки она ступила в село и пошла прямо по улице. Непривычные глазу, перед ней чередой проходили разделённые между собой длинными оградами большие и малые бревенчатые дома. У домов сидели тут и там на лавках люди. Насторожённо поглядывая по сторонам, прошлась Жупар взад-вперёд по покрывшейся вечерней теменью улице, но ни к кому из увиденных по пути людей подойти, чтобы попроситься на ночлег, так и не решилась.
Очутившись снова на краю села, девочка почувствовала, что сильно замёрзла, что не в силах больше переносить этот ледяной, насквозь пронизывающий тело ветер… И тогда в воспалённом отчаянием мозгу девочки вынырнула спасительная мысль: ведь где-то неподалёку по пути сюда она видела стога сена, за которыми можно было бы укрыться от ветра! Подстёгиваемая внезапно явившимся решением, Жупар побежала по дороге и уже скоро разглядела впереди знакомые тёмные очертания. Когда добежала, зашла на подветренную сторону стога и после медленно опустилась в его шершаво-колючую глубь.
Избавившись от пронзающего веянья стужи, девочка понемногу стала приходить в себя. Потерев друг о друга озябшие холодные ладони, она снова спрятала руки в карманы. Там, привычно прощупываемые пальцами, находились всякие нужные и ненужные мелкие вещички. И среди них небольшой спичечный коробок, которому до этого времени она не придавала никакого значения. Но сейчас её вдруг осенило – ведь с помощью спичек можно развести костёр, можно согреться!.. Окрылённая неожиданной догадкой, Жупар вскочила с места и принялась лихорадочно отрывать от стога клоки сена и собирать их в отдельную кучу. Когда куча показалась достаточной, она достала из кармана спички и стала разжигать её. Не сразу, лишь после нескольких попыток девочке удалось поджечь сено. Вспыхнувшее пламя, поначалу небольшое, за мгновения разросшись, ярко осветило окрестность, опалило лицо горячим жаром и дымом. Протянув к огню окоченелые ладони, Жупар ощутила, как блаженное живительное тепло сладко растекается по телу, постепенно возвращая его к жизни…
Сухое сено прогорало быстро, поэтому пришлось раз за разом доставлять всё новые охапки к угасающему костру. Присев в очередной раз перед костром и на минуту задумавшись, она не заметила, как от сильного порыва ветра змейки пламени перекинулись на стог и тот заполыхал огромным ярким заревом. Напуганная происшедшим, Жупар растерянно застыла на месте, а потом отбежала в сторону. А со стороны села послышался шум, разнеслись громкие приближающиеся голоса – это бежали к пламени люди. Вскоре кто-то из прибежавших разглядел в темноте девочку и вывел на освещённое огнём место.
Явление на свет поджигателя в виде щупленькой, насмерть перепуганной девчушки вызвало удивление среди собравшихся, и негодование, преобладавшее в толпе до этого, быстро сменилось любопытством: кто она такая? Почему это сделала? Попытки расспросить девочку ни к чему не привели – та лишь испуганно озиралась и молчала. Беспорядочный гомон толпы притих, когда в центре её появился сухощавый, сурового вида мужчина в фуражке – председатель местного сельского Совета. Окинув Жупар пристальным взглядом и выслушав объяснения человека, задержавшего её, он спросил:
– Ты кто такая?
Ответом на его вопрос были всё те же молчание и страх в глазах девочки.
– Да она по-русски, наверное, не понимает! – раздался голос откуда-то сзади. – Её по-башкирски надо бы спросить!
Стоявший неподалёку от председателя чернявый паренёк повторил тот же вопрос по-башкирски, но поджигательница в ответ снова не проронила ни слова. Возникшее замешательство неожиданно разрешила вышедшая в центр круга преклонных лет женщина, известная в селе под именем Олен. Со словами:
– Погодите, а может быть, эта девочка – казашка? – она обратилась к Жупар на казахском языке: – Кто ты, девочка? Как тебя зовут?
– Моё имя – Жупар. Я сошла с поезда и заблудилась.
– А есть ли у тебя родители?
– Нет, я одна.
– А зачем ты подожгла сено?
– Я замёрзла и разожгла костёр, чтобы согреться, но не заметила, как вспыхнуло всё сено. Я не хотела…
– Что же ты думаешь делать дальше, девочка?
– Не знаю…
Когда женщина перевела сказанное окружающим, вокруг воцарилось молчание, прерываемое лишь перешёптываниями стоявших сзади людей. Затем, нарушив тишину, Олен обратилась к председателю:
– Послушай, председатель, оставь ты мне эту девочку, пусть живёт у меня. Ведь я уже немолодая, одной хозяйствовать трудно, а тут – вдвоём. И мне, и ей лучше будет…
В ответ, немного подумав, председатель ответил:
– Ну-у, ладно, бабка… Разрешаю оставить, забирай эту девочку к себе, да смотри, чтобы никуда не убежала…
– Да нет, не убежит. Да и куда ей бежать?..
Повороты судьбы
Село, в которое попала Жупар, называлось Астрахановка, и находилось оно в Башкирии. Женщину, приютившую её, звали Олен. Она происходила из семьи казахов, что издавна проживали в здешних местах. В молодости, выйдя замуж, Олен переехала жить в село к мужу. Однако их семейная жизнь оказалась недолгой – её нарушила начавшаяся Первая мировая война: мужа забрали на фронт, откуда ему не суждено было вернуться. Овдовев, Олен жила в доме одна. Нежданное обретение новоиспечённой приёмной дочери внесло свежее дыхание в жизнь пожилой женщины, ведь отныне в доме появилась помощница, взявшая часть хлопот по хозяйству в свои руки, сглаживавшая своим присутствием тяготы неумолимо подступавшей старости…
Год за годом прожили они так вдвоём лет семь. Жупар было уже за двадцать, когда однажды за утренним чаем приёмная мать завела важный разговор.
– Давно тебе это хотела сказать, девочка, да всё никак не решалась, но сейчас скажу: Жупар, ты уже выросла, стала вполне взрослой, другие в твоём возрасте кучу детей имеют. И потому я решила: пришла пора и тебе собственную жизнь устраивать, замуж выходить… Подыскала я тебе хорошего жениха из соседней деревни – Юсупом его зовут. Сам характером спокойный, работящий. Думаю, что с ним ты будешь счастлива… А за меня, девочка, не беспокойся, я уж как-нибудь сама обойдусь… А как появятся у тебя детишки – присылай их ко мне, будут мне внучатами. Ты ведь пришлёшь их ко мне, правда?
– Конечно, бабушка… – растерянно ответила Жупар.
Так, совсем не ожидая того, Жупар вышла замуж за Юсупа Кыйсыкбаева – жителя соседней деревни.
Брак их, как и предсказывала Олен, оказался удачным: пятерых детей заимели они к тому времени, когда началась война с Германией. Юсупа через полгода призвали на фронт, и на плечи Жупар легла нелёгкая доля одной поднимать детей на ноги. Эти военные годы, когда женщинам суждено было заменить в тылу ушедших на фронт мужчин, когда голод и холод превратились в постоянных преследователей, оказались самыми тяжёлыми в жизни Жупар… И, наверное, не выжить бы ей в тех суровых условиях, если бы не помощь со стороны других людей… С особенной благодарностью вспоминала она брата Юсупа – Сейиткалия, спасшего однажды семью от голода…
На личности Сейиткалия Кыйсыкбаева, этого в некотором роде незаурядного человека, стоит, пожалуй, остановиться подробнее. Сейиткалий был дезертиром, скрывавшимся от отправки на фронт в густых чащах местных лесов. Оттуда время от времени он выбирался и промышлял скотокрадством. О недюжинной силе и удальстве Сейиткалия по округе ходили легенды. Вот, к примеру, одна из них – впрочем, больше походящая на правду.
Однажды во время очередной облавы по поимке дезертиров Сейиткалий Кыйсыкбаев был схвачен и отправлен на конной повозке в сопровождении двух конвоиров в районный центр. Дорога, по которой его везли, долго петляла по открытой местности, пока не свернула в лес. Оказавшись среди лесных зарослей, Сейиткалий неожиданно сжался, заохал и стал просить конвоиров развязать руки, чтобы он смог справить нужду, а иначе грозился проделать это прямо в телеге. Поддавшись уговорам, охранники развязали ему руки, а тот внезапно набросился на них и за считаные мгновения обезоружил. Затем, привязав конвойных к телеге, Сейиткалий вскочил на лошадь и с захваченным оружием скрылся в лесу.
В конце войны Сейиткалий Кыйсыкбаев был вновь задержан и по решению суда приговорён к двадцати пяти годам лишения свободы. Отбыв положенный срок, в начале семидесятых годов он вышел на свободу. По словам Ембергена, до самого конца жизни старик оставался бодр и подвижен…
В ту вьюжную зимнюю ночь Жупар проснулась от негромкого стука в дверь. Полусонная, с трудом нащупав в темноте спички, она быстро разожгла керосиновую лампу и, подойдя к двери, спросила:
– Кто там?
– Жупар, это я, Сейиткалий, открой, – донёсся с обратной стороны знакомый голос.
– Сейчас, – ответила Жупар и потянулась рукой к запору.
Клубы холодного воздуха ворвались в помещение вслед за вошедшим. Быстро прикрыв за собой дверь и поприветствовав хозяйку, Сейиткалий стал стряхивать с себя снег.
– Повесь одежду у плиты, – мотнув головой в сторону печи, посоветовала Жупар. – Что так поздно, да ещё в такой буран?
– Сама знаешь, днём мне здесь появляться нельзя, – ответил Сейиткалий. – Вот решил проведать вас, узнать, как живёте, что пишет Юсуп, какие новости в деревне. Ведь давно уже здесь не был.
– Да всё по-старому, – позёвывая, проговорила Жупар, направившись к стоявшему на печной плите чайнику.
Долив в чайник воды, она подбросила в ещё не успевшую погаснуть печь дрова. Затем, покопавшись среди разложенной в углу утвари, извлекла оттуда небольшой мешочек и стала высыпать из него мелкие зёрнышки пшена в закопчённый казанчик. Отсыпав с половину мешочка, Жупар положила его на место. Это было единственное, чем она могла попотчевать гостя.
Время, пока готовилась пища, прошло незаметно – в разговорах. Когда коже в казане поспело, Жупар переложила его в чашу и поставила перед гостем.
– Ешь. Проголодался, наверное, в дороге.
– Спасибо, – кивнул головой Сейиткалий и, взяв в руки ложку, приступил к еде.
Какой-то неясный звук, донёсшийся сзади, заставил его резко обернуться. Сейиткалий увидел высовывающиеся из-под одеял лица проснувшихся детей. Они с жадностью вглядывались в стоящую перед ним чашу.
– А что, дети не ели? – невольно вырвалось у гостя.
– Да ели, ели… – на мгновение потупив взгляд, ответила Жупар, а затем, будто очнувшись, закричала, замахала руками: – А ну-ка, быстро ложитесь спать! Что уставились? Никогда дядю своего не видели? А ты, Сейиткалий, ешь, не обращай на них внимания.