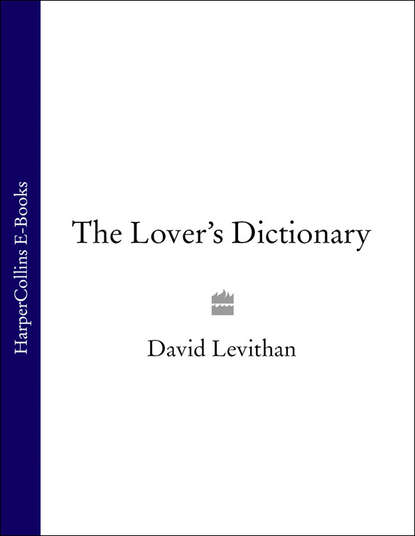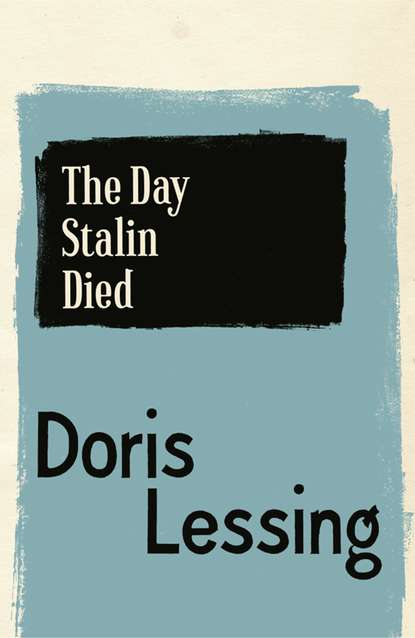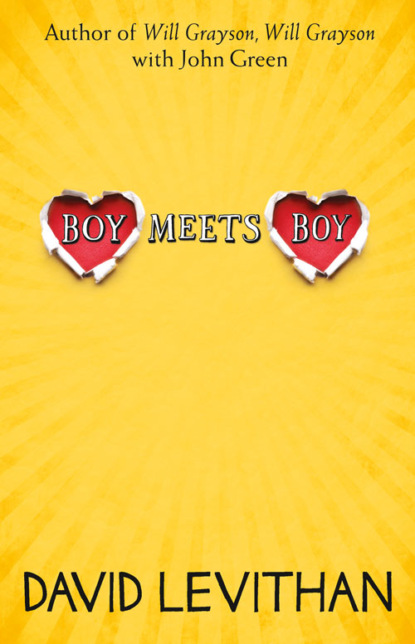Лилии полевые. Серебряный крестик. Первые христиане
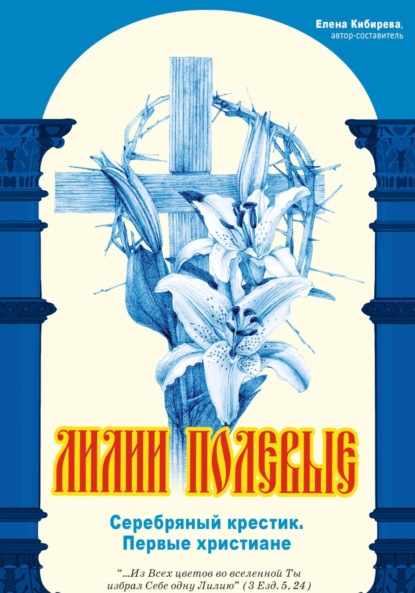
- -
- 100%
- +
– Ibis ad crucem!9 – злобно, с отвращением произнес Пилат на другой день около девяти часов утра со своего лифостротона10.
Этими немногими словами он осудил на крестную смерть стоящую перед ним покорную, невиннейшую Жертву. Первосвященники, книжники и старейшины, два часа упорно обвинявшие Иисуса Христа, теперь облегченно вздохнули. Они добились таки своего: Иисус был приговорен на распятие. Их настойчивость восторжествовала, злоба и зависть взяли верх над правосудием. Яростные крики: «Распни Его! Распни» – теперь смолкли, потому что крест, орудие казни, уже ждал свою Жертву. А Жертва – Сам Мессия, Которого евреи ждали целые тысячелетия, покорно стоял на виду у всех, поруганный, избитый – с кровавыми следами на лбу от тернового венца.
Позади всей толпы находился Рувим, поддерживая свою сестру. Оба они во время суда Пилата находились в каком-то возбужденно-лихорадочном состоянии. Они ждали, что вот-вот Пилат окончательно оправдает своего Подсудимого и заставит воинов прогнать от своей претории всю эту бушующую, разъяренную толпу. И сам Пилат, казалось, делал несколько попыток к оправданию. Но всякий раз подобное желание прокурора разбивалось о фанатизм первосвященников и всей находящейся под их влиянием толпы народа, которая требовала смертной казни.
И Пилат, как накануне говорил сестре Рувим, уступил. Уступил из малодушия, из постыдной трусости, боясь возмущения народа, но не опасаясь укора совести за неправедно пролитую кровь.
С сердцем, полным ужаса, выслушала Лия смертный приговор.
– Рувим, Рувим! – шептала она с глазами, полными слез. – За что же это, за что же это? За что? Где справедливость?
Рувим, хотя и у него сердце разрывалось от горечи, призвал все свое самообладание, чтобы успокоить сестру.
– Лия, не хочешь ли идти домой? Ты измучена и нуждаешься в отдыхе. Кроме того, существует ужасный обычай заставлять осужденного нести свой крест. Я боюсь, что тебя это еще более расстроит!
– О нет, нет, Рувим, – ответила она, – я хочу еще раз увидеть Его. Пусть Его образ сильнее запечатлеется в моей душе!
Ждать пришлось недолго…
***
Толпа с громкими криками расступилась, давая кому-то дорогу. Скоро показалась печальная процессия. Впереди шел, по обычаю, глашатай, который громко провозглашал о том, за какое преступление осужденный подвергается смертной казни. За ним следовал воин с надписанной дощечкой, которая была предназначена для прибития ко кресту. И наконец, за этим уже воином, сгибаясь под тяжестью креста, шел Сам Божественный Страдалец. На Его кротком Лице было написано крайнее изнеможение, которое явилось следствием всех душевных и физических мук предыдущей страшной ночи.
Лишь только Лия взглянула на это лицо, на котором, несмотря на все унижения и страдания, лежала печать внутреннего высокого достоинства и величия, как сердце ее исполнилось такой необыкновенной жалостью, что она не выдержала и громко зарыдала. От охватившего ее волнения она едва удержалась на ногах и вынуждена была крепко ухватиться за руку брата.
Рувим вполне разделял чувства сестры. Его глаза тоже были полны слез, и он, как в тумане, видел божественного Страдальца, идущего на позорную казнь, причем римские воины бесцеремонно и грубо толкали Его вперед.
И брат, и сестра до тех пор смотрели на эту печальную процессию, пока она не скрылась из вида.
– Рувим, пойдем скорее домой, – проговорила чуть слышно Лия, глотая слезы.
– Ах, если бы ты знал, как мне тяжело!
Рувим, поддерживая сестру, направился было домой, но на перекрестке одной улицы они встретили свою близкую родственницу, которая, видя расстроенную девушку, поспешила увести их с Рувимом к себе.
Рувим был даже отчасти и доволен этим обстоятельством, так как у родственницы Лия могла бы успокоиться скорее, чем дома. Да и отца они оба сторонились и даже боялись.
Глава VI
Аминадав важно, с сознанием собственного достоинства, следовал вместе с толпой, шедшей к Голгофе. Огонек торжествующей злобы сверкал в глазах старого фарисея, потому что скоро задуманное дело будет исполнено, а Назаретский Учитель Своею кровью заплатит за все те обличения, кои были направлены Им по адресу фарисеев и книжников, а также и за то учение, которое шло вразрез с их учением, с их понятиями, укоренившимися в продолжение веков.
Скоро вся процессия миновала городские ворота и подошла к небольшому возвышению, где обыкновенно происходили казни преступников.
Насколько теперь всякий верующий, подходя к Голгофе и поднимаясь на нее, весь проникается чувством крайнего благоговения и почтения к столь великому и святому месту, настолько же в описываемую эпоху всякий приближался к ней с чувством крайнего отвращения. Теперь верующий, находясь на Голгофе, с умиленным сердцем и с горячей молитвой падает ниц и преклоняется перед этим великим местом, где совершилось непостижимое таинство искупления, откуда родилось христианство и светом своего божественного учения озарило весь языческий мир. В древности же всякий бежал от этого холмика, как от места зачумленного, места проклятого, над которым со зловещим криком часто, вероятно, кружились черные вороны.
И Аминадав, гордый сознанием своей законной чистоты, не без отвращения вступил на эту гору. Подогреваемый чувством мести, он хотел взглянуть на Распятого и своими собственными глазами удостовериться в казни Человека, всегда стоявшего на их дороге и ронявшего авторитет фарисеев и книжников перед народом.
Торжествовал не один Аминадав.
Дикая радость светилась в глазах других начальников и старейшин при виде своей беззащитной Жертвы. Их холодные, наглые лица живо наблюдали над действиями римских воинов, исполнителей казни.
И вот Тот, пред Которым трепещут и благоговеют все Небесные Силы, Тот, одно имя Которого вызывает в христианине чувство беспредельной любви, радости и величайшего смирения, дерзко, грубо схвачен ныне руками жестоких римских воинов.
Аминадав пробрался почти к самому Кресту и с чувством злорадства и отчасти бессердечного любопытства хотел еще раз взглянуть на лицо Божественного Страдальца. Но едва он кинул на Него свой взгляд, как был несказанно удивлен. Вместо отчаяния, злобы и ненависти к Своим врагам на Его лице была написана та же покорность, те же смирение и кротость, как и раньше.

Рисунок Маргариты Мальцевой
И в первый раз в жестоком, мрачном сердце Аминадава, где-то далеко-далеко, шевельнулось чувство, похожее на сострадание. В то время как другие два разбойника, предназначенные тоже для распятия, не переставали осыпать своих мучителей страшными ругательствами и проклятиями, Божественный Страдалец не произносил ни одного слова. И вдруг взор Его, устремленный до сих пор к небу, обратился на Аминадава. Этот кроткий, но вместе с тем испытующий взор, казалось, проник в самые тайники души старого фарисея и обнаружил все ее ходы и извилины. И вслед за этим с уст Его послышались тихие, но внятные слова: «Отче, прости им, они не знают, что делают».
Аминадав, крайне пораженный этими словами и взглядом Иисуса, тотчас же услышал глухой удар молота, который и теперь, через девятнадцать веков11, так больно отзывается в сердце каждого истинно верующего человека.
Этот божественный, кроткий взор и эти великие, исполненные любви слова так подействовали на душу и сердце старого фарисея, такое произвели глубочайшее впечатление, что прежнее злобно-торжествующее настроение Аминадава мгновенно куда-то улетучилось, исчезло, а на место его воцарилась особенная, непонятная пустота и сожаление о чем-то печальном, прошедшем.
На поздравления своих единомышленников, по случаю окончания всего этого дела, он отвечал торопливо, скорее, машинально. Он вздрогнул только тогда, когда услышал резкий звук от раздираемых одежд. То воины делили между собой верхний плащ Христа. Аминадав глянул в их сторону и увидел, что они бросали между собой жребий из-за хитона, не желая раздирать этой сотканной одежды. Он уловил даже довольный взгляд одного воина-счастливца, которому достался хитон.
Но Аминадав мало обратил внимания на этот постоянно практиковавшийся обычай. Его жег божественный взор Страдальца, взор, который заглянул в самую его душу. В ушах Аминадава звучали удивительные, непостижимые слова: «Отче, прости им…» И он, старый фарисей, пришедший сюда торжествовать свою победу, потешить злобу, стоял теперь, разочарованный в себе, в каком-то странном для него самого недоумении.
Видя, что это чувство неудовлетворенности с каждой минутой возрастает все сильнее и сильнее и что, с другой стороны, дальнейшее пребывание в Голгофе становится излишним в виду окончания давно лелеянного дела, Аминадав кинул последний взор на средний Крест и быстро сошел с горы. Навстречу ему попадались кучки народа, шедшие на Голгофу. Но Аминадав, ни на кого не обращая внимания, прямо направился к себе. Дома он хотел забыться, отогнать от себя всякие тревожные мысли, вытеснить из своей головы это Голгофское событие.
Но Божественный Страдалец со Своим кротким и в то же время проницательным взглядом, как живой стоял перед его умственным взором, а в ушах фарисея все еще слышались слова, заключавшие в себе молитву о прощении Своих врагов. А так как Аминадав был в числе их, то молитва касалась, следовательно, и его.
***
Старый фарисей, заложив руки за спину, тяжелыми шагами ходил по своей комнате.
– О, Мессия, Мессия! Скоро ли Ты придешь и избавишь нас от ига Рима? – шептал он. – Скоро ли дашь нам власть над всеми народами и имя наше сделаешь великим? А Этот Человек, позволивший распять Себя на Кресте, называл Себя Сыном Божиим… И хотел еще быть нашим Мессией…
Аминадав подошел к стене и откинул небольшую занавесь, за которой в особой нише на полочках лежали пергаментные свертки, заключавшие в себе закон пророков и множество записанных изречений знаменитых раввинов тех времен. Он порылся немного и достал один свиток с псалмами Давида.
Старый фарисей часто любил читать эти прекрасные, исполненные духовной поэзии псалмы.
Он развернул пергамент, но, увидев, что это не тот сверток, который ему нужно было, хотел уже снова положить его на полку, но тут взор Аминадава упал на одно место, и он начал читать, не отводя глаз. Уже первые строки заставили его встрепенуться, и он более внимательно уставился в письмена.
Он читал двадцать первый псалом Давида, где очень наглядно изображаются страдания Спасителя:
– «Все, взирающие на меня, поглумились надо мною; говорили устами, кивая головою: “Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему!”» (Пс. 21, 7-8). «Ибо окружило меня множество псов, сборище злодеев обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои. А они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий» (Ср. Пс. 21; 17-18).
При последних словах руки Аминадава задрожали и пергамент чуть не выпал на пол.
– Что это, что такое? Может ли это быть? – с величайшим изумлением прошептал он.
Смысл этих слов только теперь стал обрисовываться в уме фарисея во всем их настоящем значении. И прежде он не один раз читал эти же фразы, но они не производили на его сердце никакого действия. Но теперь, когда он был свидетелем того, что было написано в этом пророчестве, и написано так ярко и живо, точно Давид сам присутствовал на Голгофе, теперь все это до крайности ошеломило Аминадава. Он стоял, точно прикованный к месту. Да, все, что он сейчас прочитал, все это он видел собственными глазами. Старейшины вместе с книжниками и фарисеями точно так издевались над Распятым, руки и ноги Которого были пронзены гвоздями; воины делили одежду Его и бросали между собой жребий.
Фарисей, положив пергамент на место, с глубоким вздохом опустился на свое ложе, склонив гордую, надменную голову. Но через минуту он быстро встал, провел дрожащей рукой по голове и снова подошел к нише с пергаментами. Долго он не мог найти нужный ему сверток. В его возбужденном мозгу, как бурав, сверлила одна мысль, завладевшая всецело умом старого фарисея.
– Нет, нет, не может быть! Надо убедиться, что это вздор! Где этот пергамент? – крайне возбужденный, шептал он, перебирая свитки.
– А, вот он!
И Аминадав, вытащив один пергамент, начал вполголоса читать. То была 53-я глава пророка Исаии.
Смущение и ужас фарисея все более и более усиливались, когда он читал:
– «…Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53; 2-5). «…Как овца, веден был Он на заклание, и как агнец перед стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53; 7).
Когда же Аминадав закончил читать это пророчество Исаии словами: «…предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53; 12), – он воскликнул:
– О, великий наш Иегова! Научи меня и вразуми!
С этими словами он, закрыв лицо руками, с глухим стоном опустился на свое ложе. Мысли спутались, и в голове воцарился полнейший хаос.
Неужели этот Распятый, смерти Которого они, книжники и фарисеи, так усердно добивались и добились, мог оказаться Самим Мессией!
Что могло бы быть ужаснее этого!
Какое отчаяние наполнило бы и души, и сердца всех старейшин, если бы это оказалось правдой! Они, вожди и учители народа, хвалящиеся знанием закона, – и вдруг могли бы допустить такую непростительную, грубую ошибку! Такую ошибку, которая могла иметь громадное значение и последствия для них, и для всего народа!
Распять Самого Мессию, Которого они с такой напряженностью ждали за последнее время?!
Подобные мысли беспорядочно вихрем неслись в возбужденной голове фарисея и приводили его в великий трепет и смущение.
Аминадав, хорошо зная закон, вспомнил, что о таком именно страждущем Спасителе говорится во многих местах Священного Писания, а вот последние слова пророка Исаии, сейчас им прочтенные, выражают это весьма ясно и наглядно.
А ведь они, книжники и фарисеи, говорили народу только о Мессии-завоевателе, Который покорит им всех народов земли и даст им славу и богатство.
Какой громадный контраст и какими они могли бы оказаться жалкими невеждами в законе!
Но традиционный ум старого фарисея, десятками лет придерживающегося известного ему мировоззрения, не мог сразу мыслить совершенно иначе, не мог сразу усвоить новые понятия и истины, не мог одной минутой порвать со всем прошлым.
Нахлынувшие новые идеи, в связи с этими пророчествами, вступили в душе Аминадава в сильную борьбу со всем старым фарисейским учением. Свесив на грудь свою седую голову и опустив бессильно руки, Аминадав погрузился в глубокую, тревожную думу.
Острые морщины нисходили с его высокого лба, глаза сосредоточенно и задумчиво смотрели перед собой. Порой на мгновение он обводил как-то машинально своим взором комнату, точно желал на чем-нибудь остановиться и найти точку опоры, и затем снова голова его бессильно падала на грудь. Старая служанка заглянула было через один угол занавеси в комнату Аминадава, желая известить о готовой закуске, но, видя своего господина в таком необычайном положении, сочла за лучшее его не тревожить и так же бесшумно удалилась.
Таким образом прошел по еврейскому счислению пятый час и подходил конец шестому. Вдруг… Что это случилось? Старый фарисей, весь не свой, поднялся со своего места и, изумленный, застыл в одной позе.
Дневной свет быстро угасал и тьма начала спускаться на землю. Предметы в комнате потеряли свои очертания; все стушевалось, как под покровом ночи.
Глава VII
Вне себя от страха, Аминадав, бледный, дрожащий, быстро, насколько позволяли ему силы и ноги, вбежал на плоскую крышу своего дома. Кругом тьма. С далекого неба показались одна за другой звезды. К северо-востоку темной массой возвышалась гора Елеон. В воздухе потянуло прохладой. Вся природа точно замерла в ожидании чего-то великого, страшного.
Аминадав почувствовал, как у него легкой дрожью пробежал по коже мороз. Ухватившись за перила и тяжело дыша, он смотрел то на окружающий его Иерусалим, то на темное, хмурое небо.
Тишина и тьма.
Старый фарисей, объятый ужасом, кинулся было в комнату сына. Ни сына, ни дочери дома не оказалось.
«Нужно бежать, бежать, – промелькнуло у него в голове. – Но куда?» Он накинул на себя верхний плащ и вышел из дома. Навстречу ему попадались люди, как и он, испуганные этой загадочной тьмой. Спотыкаясь на каждом шагу и ни на кого ни обращая внимания, он быстро шел к городским воротам, шел к Голгофе, чтобы еще раз взглянуть на страшную картину казни.
Вот, наконец, и ворота.
Еще немного ходьбы и перед глазами Аминадава предстала Голгофа во всем ее мрачном величии. Старый фарисей остановился. От чрезмерного волнения и ходьбы у него сильно колотилось сердце и дрожали ноги.
На темном фоне неба вырезались силуэты трех крестов. Аминадав чувствовал, что у него не хватает ни сил, ни решимости подойти ближе. И он впился своими острыми глазами в средний Крест, около которого теперь находилось всего несколько человек, а остальной народ, сбившись в кучки, стоял в некотором отдалении. Вероятно, и эти люди, пораженные таинственной тьмой, в безмолвии ждали чего-то необычайного, ужасного.
Бросив еще взгляд на средний Крест, Аминадав, объятый каким-то тайным страхом, повернул обратно и пошел по направлению храма. Он хотел забыться, сосредоточиться в этом святилище – в месте поклонения их Богу Иегове.
Он миновал притвор Соломонов и очутился перед самыми храмовыми зданиями. Вот и то средостение (преграда – ред.), которое отделяет двор язычников от двора Израиля. С поникшей головой он медленно поднялся по ступеням, миновал ворота и пошел во двор Израиля. Перед ним уже находился двор священников, куда Аминадав не имел права входить, как человек, не принадлежавший к священному сословию.
Прислонившись к колонне, он думал было в молитве найти себе успокоение и отрешиться от всех тревожных мыслей. Губы его тихо шептали слова молитвы, но сердце оставалось по-прежнему холодным и мрачным; до него не доходило произносимое словами.
Долго стоял и молился Аминадав. То он поднимал глаза к небу, как бы ожидая оттуда ответа на свои вопросы, то опускал их книзу, точно отчаявшись в получении просимого. А кругом царила все та же тьма, в которую был погружен великолепный храм, и которая черным покровом спустилась над великим городом. И вдруг среди такого безмолвия раздался подземный громовой удар, заставивший задрожать и храм, и самую землю. Вслед за первым ударом раздался второй, третий. Казалось, что колебалась от ужаса вся земля до ее основания, а вместе с ней трясся и весь Иерусалим.

Рис. Маргариты Мальцевой
Старый фарисей окаменел. Дыхание застряло где-то в груди и ледяной холод охватил все его существо.
В это самое время он увидел нескольких священников, которые в своих белых одеждах, развевающихся по воздуху, стремительно бежали из своего двора. Они, обезумевшие, забыв все на свете, неслись оттуда, точно их гнала какая-то невидимая, сверхъестественная сила.
– О! Чудо, чудо! – кричали они, пробегая мимо старого фарисея. – Священная завеса разодралась сама собой надвое! О, горе нам, горе!
И они вихрем промчались мимо него.
Аминадав упал, как подкошенный, на колени и закрыл лицо руками. Он не мог более ничего соображать. Мозг отказался работать, и его состояние было близко к обмороку. В его уме только с быстротой молнии промелькнула мысль:
– Да, да! Мы распяли Самого Мессию! Самого Христа! О, горе, горе!..
Аминадав очнулся только тогда, когда яркий солнечный свет по-прежнему заливал своими теплыми лучами площадку и ослепительно играл на золоченых храмовых крышах.
Кое-как Аминадав поднялся на ноги и, шатаясь, направился к выходу. С большим трудом добрался он до дома и в изнеможении, совершенно обессиленный всем произошедшим, повалился на свое ложе.

Рис. Ольги Бухтояровой
Глава VIII
На другой день утром Рувим, отворив осторожно дверь в комнату отца, был несказанно изумлен представившейся ему картиной. Аминадав, сидя на своем ложе, внимательно читал какой-то пергамент. Около него в беспорядочной куче лежало множество разных свитков, и некоторые из них валялись даже на полу. Вид у отца был крайне задумчивый, сосредоточенный; казалось, он настолько был углублен в чтение пергамента, что для него не существовал окружающий его мир.
Взор старого фарисея не блистал высокомерием и сознанием своего превосходства, а на лице, дотоле гордом, теперь лежала печать странной подавленности, или смирения. Словом, никогда еще Рувим не видел своего отца таковым. Было очевидно, что в его жизни произошел какой-то переворот, оставивший после себя глубокий след в душе фарисея.
Рувим, заметив все это, хотел было так же тихо удалиться, чтобы не мешать отцу в его занятиях, но Аминадав, услышав шорох, поднял голову и увидел сына.
– Рувим, сын мой, войди ко мне! – проговорил он медленно и с особой интонацией в голосе.
Рувим вошел.
– Где вы были вчера с сестрой? – спросил Аминадав, устремив на сына вопросительный взор.
Рувим на секунду смутился, но затем быстро и уверенно ответил:
Мы были сначала у претории Пилата, а потом зашли к тетушке и там пробыли до самого вечера.
– Зачем же вы зашли к тетушке, а не домой?
– Это вышло просто, – ответил Рувим, не привыкший лгать. – Сестра была расстроена всем виденным в претории. На пути нам попалась тетушка и увела нас к себе.
Прошло несколько секунд в глубоком молчании. Старый фарисей, видимо, что-то обдумывал.
– Скажи мне, сын мой, – произнес наконец он, видимо на что-то решившись, – тебе часто приходилось видеть и слышать Иисуса, сына Иосифа из Назарета?
Рувим вторично смутился. Он не знал, что этим вопросом хочет сказать отец, один из виновников смерти Великого Равви. Но юноша, после вчерашних событий окончательно уверовавший, что распятый Иисус не кто иной, как Сам Христос – Сын Божий, теперь не счел нужным скрывать своих истинных убеждений.
– Отец мой, – ответил спокойно Рувим, глядя на его осунувшееся, побледневшее лицо, – откровенно тебе скажу, что Его речи и дела производили на меня всегда глубокое впечатление. Видеть и слушать Его составляло для меня величайшее счастье. Я и раньше был убежден, что Он Великий Пророк, ну а теперь, после того, что произошло вчера…
Рувим запнулся и внимательно взглянул на отца, желая проследить то впечатление, какое имело место быть от этого неожиданного признания.
Аминадав сидел с опущенной головой.
– Я знаю, сын мой, что ты хотел сказать, – проговорил Аминадав, видя, что Рувим не решается окончить своей фразы. – Ты мог бы теперь смело сказать все то, что лежит у тебя на сердце. О, как я ненавидел прежде Этого Человека, как презирал Его за то, что Он постоянно стоял на нашей дороге! Но теперь я и сам…
– О, великий Господь!.. – шепотом окончил он и опустил свою голову, все еще не решаясь высказать вслух ту мысль, которая стоила ему больших нравственных пыток и терзаний за всю прошедшую ночь.
Рувим был несказанно поражен этими словами отца. Так вот разгадка всего непонятного в его поведении!

– Отец мой, отец! – вскричал он. – Неужели и ты уверовал в Него! Может ли это быть?
Аминадав вместо ответа порылся в свитках, отобрал несколько штук и подал Рувиму.
– Вот, сын мой, возьми эти свитки и внимательно их прочитай! Здесь ты, может быть, найдешь многое для себя новое. Скажи мне, ты был на Голгофе?
– Нет, мы с Лией не решились идти туда, это было бы слишком тяжело. Ты, может быть, не слышал еще, отец, что Его уже похоронили.
– Похоронили? – изумился Аминадав. – Кто же и когда?
– Вчера, поздно вечером, Иосиф из Аримафеи.
– А где?
– В своем собственном саду. В тот самом гробе, который Иосиф приготовил для себя.
Аминадав был удивлен поступком Иосифа Аримафейского, который, несмотря на то, что был членом синедриона и лицом, пользовавшимся большим уважением, не раздумывая, совершил погребение над Человеком, казненным по настоянию своего народа и по приказу римского прокуратора. В глубине своей души Аминадав проникся чувством уважения и почтения к этому благообразному старцу, который, не заботясь об общественном мнении и ставя этим свою репутацию на шаткую почву, сделал все то, что подсказывали ему ум и сердце.