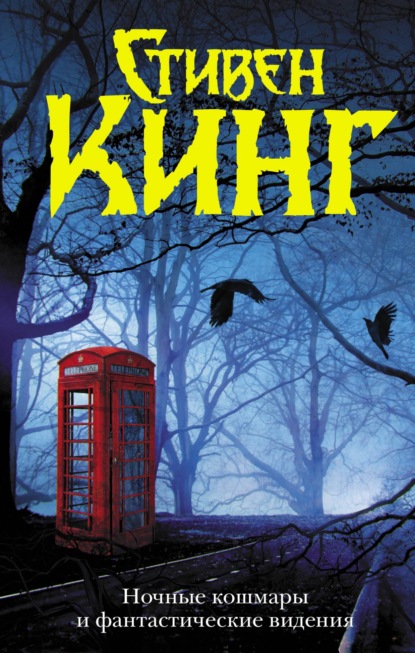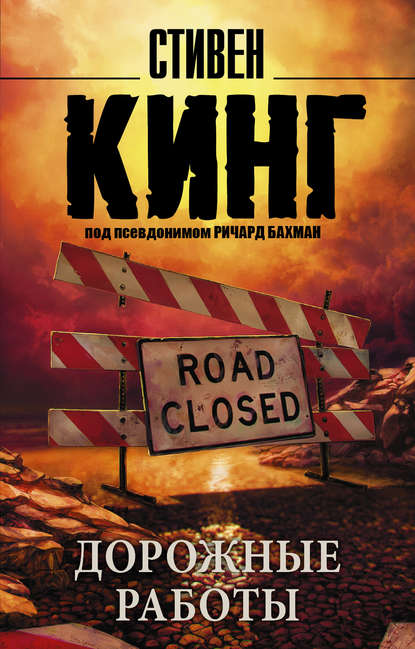Оно. Том 2. Воссоединение

- -
- 100%
- +
– Это Сильвер, точно, – наконец нарушил паузу Майк. – Я думал, ты мог ошибиться. Но это он. Что собираешься с ним делать?
– Чтоб мне сдохнуть, если знаю. Велосипедный насос у тебя есть?
– Да. Думаю, есть все необходимое и для заклейки шин. Они бескамерные?
– Всегда были. – Билл наклонился, чтобы обследовать спустившую шину. – Да. Бескамерные.
– Собираешься снова на нем поездить?
– Ра-азумеется, нет, – резко ответил Билл. – Просто не нравится мне видеть его со с-с-спущенным колесом.
– Как скажешь, Большой Билл. Ты – босс.
Билл повернулся к нему, но Майк уже ушел к дальней стене гаража за насосом. Из одного из шкафчиков он достал жестянку со всем необходимым для заклейки шины и протянул Биллу, который с любопытством на нее посмотрел. Воспоминания о таких жестянках остались у него с детства: такого же размера и формы, как и жестянки, в которых держали табак мужчины, предпочитающие самолично скатывать сигареты, только крышка была блестящей и шершавой – она использовалась, чтобы обработать место прокола перед тем, как ставить заплатку. Жестянка выглядела новехонькой, приклеенный ценник «Вулко» говорил о том, что стоила она семь долларов и двадцать три цента. Билл вроде бы помнил, что в детстве такой набор он мог купить за доллар с четвертаком.
– Она у тебя здесь не лежала. – Вопросительных ноток в голосе Билла не слышалось.
– Нет, – согласился Майк. – Купил на прошлой неделе. В том самом торговом центре, если на то пошло.
– У тебя есть велосипед?
– Нет. – Майк встретился с ним взглядом.
– Просто взял и купил?
– Просто возникло такое желание. – Майк по-прежнему смотрел Биллу в глаза. – Проснулся и подумал, что эта штуковина может пригодиться. Мысль эта не отпускала весь день. Поэтому… я пошел и купил. И она тебе понадобилась.
– И она мне понадобилась, – кивнул Билл. – Но, как говорят в мыльных операх, что все это значит, дорогая?
– Спросим у остальных, – ответил Майк. – Вечером.
– Думаешь, они все придут?
– Не знаю, Большой Билл. – Майк помолчал и добавил: – Думаю, есть вероятность, что не все. Один или двое могут решить, что лучше ускользнуть из города. Или… – Он пожал плечами.
– И что будем делать, если такое случится?
– Не знаю. – Майк указал на жестянку: – Я заплатил за нее семь долларов. Будем что-нибудь с ней делать или только смотреть?
Билл взял пиджак из сетчатой корзинки и аккуратно повесил на пустующий гвоздь. Потом перевернул Сильвера, поставив на руль и седло, и начал осторожно вращать заднее колесо. Ему не нравился ржавый скрип втулки колеса, и он помнил, как практически бесшумно вращались колесики скейтборда мальчишки. «Капелька машинного масла «Три-в-одном» об этом позаботится, – подумал он. – Не помешало бы смазать и цепь. Чертовски ржавую… и игральные карты. Следовало бы поставить на колеса игральные карты. У Майка, готов спорить, они есть. Хорошие. С пленочным покрытием, такие жесткие и скользкие, что при первой попытке их потасовать они практически всегда рассыпаются по полу. Игральные карты, конечно, и прищепки, чтобы закрепить их…»
Поток мыслей оборвался, Билл внезапно похолодел.
«О чем, во имя Иисуса, ты думаешь?»
– Что-то не так, Билл? – мягко спросил Майк.
– Все хорошо. – Его пальцы нащупали что-то маленькое, круглое и твердое. Он подсунул под находку ногти и потянул. Из шины вылезла кнопка. – На-ашел ви-и-иновника, – объявил он, и тут же в голове вновь возникла эта фраза, странная, непрошеная, пробивная: «через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет». Но теперь за его голосом последовал голос матери: «Попробуй еще, Билли. На этот раз у тебя почти получилось». И Энди Дивайн 50 в роли Джингса, закадычного друга Гая Мэдисона, закричал: «Эй, Дикий Билл, подожди меня».
Его затрясло.
(столб белеет)
Он покачал головой.
«Мне не произнести ее, не заикаясь, и нынче», – подумал он и на мгновение почувствовал, что сейчас поймет, в чем дело и откуда взялась эта фраза.
А потом все ушло.
Он открыл жестянку с набором всего необходимого для ремонта шин и принялся за работу. Времени ушло немало. Майк стоял, привалившись к стене в лучах предвечернего солнца, закатав рукава рубашки, распустив узел галстука, насвистывая, как показалось Биллу, мелодию песни «Она поразила меня ученостью».
Ожидая, пока схватится клей, Билл – чтобы скоротать время, сказал он себе – смазал цепь Сильвера, заднюю звездочку и втулки. Выглядеть лучше велосипед от этого не стал, но, когда Билл покрутил колеса, скрип исчез, и это радовало. Первое место на конкурсе красоты Сильверу все равно не грозило. Его достоинство заключалось в другом: он мог мчаться как ветер.
К этому времени, половине шестого вечера, Билл практически полностью забыл о существовании Майка, с головой погрузившись в простое и вызывающее чувство глубокого удовлетворения дело – ремонт велосипеда. Наконец он накрутил штуцер насоса на вентиль заднего колеса и наблюдал, как шина «толстеет», заполняясь воздухом. Нужное давление определил на ощупь. С радостью отметил, что поставленная им заплатка воздух не пропускает.
Убедившись, что все в порядке, скрутил штуцер насоса с вентиля и уже собрался перевернуть Сильвера, когда услышал за спиной быстрое щелканье игральных карт. Он развернулся, чуть не свалив Сильвера.
Майк стоял позади, держа в руке колоду велосипедных игральных карт с синей рубашкой.
– Такие подойдут?
Билл шумно выдохнул:
– Полагаю, у тебя есть и прищепки?
Майк достал четыре из кармана рубашки и протянул ему.
– Как я понимаю, случайно оказались под рукой?
– Да, что-то в этом роде, – кивнул Майк.
Билл взял карты, попытался их перетасовать. Руки дрожали так, что карты посыпались из рук. Разлетелись по гаражу… но только две приземлились лицом вверх. Билл посмотрел на них, потом на Майка. Взгляд Майка застыл на разбросанных по полу картах. Губы его оттянулись, обнажив зубы.
Лицом вверх лежали два пиковых туза.
– Это невозможно, – вырвалось у Майка. – Я только что вскрыл колоду. Смотри. – Он указал на ящик для мусора, который стоял у входа в гараж, и Билл увидел целлофановую обертку. – Как в одной колоде могут оказаться два пиковых туза?
Билл наклонился и поднял тузы.
– Ты сможешь разбросать по полу целую колоду так, чтобы только две карты легли лицом вверх? – спросил он. – А этот вопрос еще более ин…
Он перевернул тузы, посмотрел, потом показал Майку: у одного рубашка синяя, у другого – красная.
– Господи Иисусе, Майки, во что ты нас втянул?
– И что ты собираешься с ними делать? – бесстрастно спросил Майк.
– Поставить на место, – ответил Билл и вдруг рассмеялся. – Именно это мне предлагается с ними сделать, так? Если для магии требуются какие-то предварительные условия, они тем или иным образом неизбежно реализуются. Я прав?
Майк не ответил. Он наблюдал, как Билл подошел к заднему колесу Сильвера и закрепил игральные карты. Его руки еще дрожали, и на это ушло время, но в конце концов он справился, вдохнул, задержал выдох и крутанул колесо. В гаражной тишине игральные карты с пулеметной скоростью захлопали по спицам.
– Пошли, – мягко позвал Майк. – Пошли, Большой Билл. Я приготовлю нам что-нибудь поесть.
Бургеры они смели и теперь сидели, курили, наблюдая, как на заднем дворе Майка темнота начинает проступать из сумерек. Билл достал бумажник, вытащил чью-то визитку и написал на обратной стороне предложение, которое не давало ему покоя с того самого момента, как он увидел Сильвера в витрине магазина «Подержанная роза, поношенная одежда». Показал Майку, который внимательно прочитал и поджал губы.
– Тебе это что-нибудь говорит? – спросил Билл.
– «Через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет». – Майк кивнул. – Да, говорит.
– Тогда скажи мне. Или ты собираешься вновь п-п-предложить додуматься самому?
– Нет, – ответил Майк, – думаю, в этом случае я могу тебе сказать. Это скороговорка. Используется как упражнение для шепелявых и заик. Тем летом твоя мать пыталась научить тебя выговаривать ее. Летом 1958 года. Ты частенько ходил и бормотал эту скороговорку себе под нос.
– Правда? – спросил Билл, а потом медленно сам же и ответил: – Да, ходил.
– Должно быть, ты очень хотел ее порадовать.
Билл, который вдруг почувствовал, что сейчас заплачет, только кивнул. Ответить не решился.
– У тебя ничего не вышло, – продолжил Майк. – Я это помню. Ты чертовски старался, но все равно язык тебя не слушался.
– Но я произнес эту фразу, – ответил Билл. – Как минимум один раз.
– Когда?
Билл с такой силой грохнул кулаком по столу, что заболела рука.
– Не помню! – выкрикнул он. И повторил снова, уже спокойно: – Просто не помню!
Глава 12
Три незваных гостя
1
Майк Хэнлон обзвонил всех 28 мая, а на следующий день Генри Бауэрс начал слышать голоса. Они разговаривали с ним весь день. Какое-то время Генри думал, что они доносятся с луны. Ближе к вечеру, оторвавшись от грядки, которую пропалывал на огороде, он увидел луну в синем дневном небе, бледную и маленькую. Луну-призрак.
Потому, собственно, он и поверил, что с ним говорит луна. Только луна-призрак могла говорить голосами-призраками – голосами его давних друзей и голосами маленьких детей, которые играли в Пустоши давным-давно. Этими голосами – и еще одним… который он не решался назвать.
Первым с ним заговорил с луны Виктор Крисс. «Они возвращаются, Генри. Они все, чел. Они возвращаются в Дерри».
Потом с ним заговорил Рыгало Хаггинс, возможно, с обратной стороны луны. «Ты – единственный, Генри. Единственный из нас, кто остался. Ты должен сделать их, Генри. Ты должен сделать их ради меня и Вика. Маленькие дети не могут взять над нами верх. Я же однажды так здорово ударил по мячу на площадке у гаража Трекеров, и Тони Трекер сказал, что такой мяч улетел бы и за пределы стадиона «Янкиз».
Он пропалывал грядку, глядя на луну-призрак, а через какое-то время пришел Фогерти и врезал ему по шее, уложив лицом в землю.
– Ты выпалываешь горох вместе с сорняками, козел.
Генри встал, смахнул землю с лица, вытряс из волос. Перед ним стоял Фогерти, крупный мужчина в белой куртке и белых штанах, с выпирающим вперед животом. Охранникам (в «Джунипер-Хилл» они назывались «защитниками») запрещалось носить дубинки, поэтому некоторые из них – хуже всех были Фогерти, Адлер и Кунц – носили в карманах валики четвертаков. Этими валиками они всегда били по одному месту – сзади по шее. Четвертаки никто не запрещал. Четвертаки не считались смертоносным орудием в «Джунипер-Хилл», психиатрической лечебнице, расположенной на окраине Огасты 51, рядом с административной границей города Сидней.
– Сожалею, что так вышло, мистер Фогерти, – ответил Генри и широко улыбнулся, продемонстрировав щербатые и прореженные желтые зубы. Выглядели они как забор из штакетника у брошенного дома. Зубы Генри начал терять лет в четырнадцать.
– Да, ты сожалеешь, – ответил Фогерти. – И будешь сожалеть еще больше, если я вновь поймаю тебя за этим, Генри.
– Да, сэр, мистер Фогерти.
Фогерти ушел, его черные ботинки оставляли большие коричневые следы на земле Западного сада. Раз уж Фогерти повернулся к Генри спиной, тот воспользовался моментом, чтобы украдкой оглядеться. Их отправили на прополку, как только небо очистилось от облаков, пациентов Синей палаты, куда помещали тех, кто когда-то был особо опасным, а теперь считался относительно опасным. Если на то пошло, все пациенты «Джунипер-Хилл» считались относительно опасными: в этой психиатрической лечебнице содержались только преступники, признанные невменяемыми. Генри Бауэрс попал сюда за убийство своего отца поздней осенью 1958 года – тот год прославился судами над убийцами; когда речь заходила о судах над убийцами, ни один год не мог сравниться с 1958-м.
Но, разумеется, все думали, что он убил не только своего отца. Если б речь шла лишь о его отце, Генри не провел бы двадцать лет в психиатрической больнице штата в Огасте, или в смирительной рубашке, или под действием психотропных препаратов. Нет, речь шла не только о его отце: власти думали, что он убил всех, по меньшей мере – большинство.
После вынесения приговора «Ньюс» опубликовала передовицу под названием «Конец долгой ночи в Дерри». В статье они привели главные улики: ремень в комоде Генри, принадлежавший Патрику Хокстеттеру; школьные учебники в стенном шкафу Генри, некоторые выданные пропавшему без вести Рыгало Хаггинсу, другие – пропавшему без вести Виктору Криссу (обоих знали как близких друзей Бауэрса); и – самая обличающая – трусики, засунутые в матрас Генри через разрез в чехле, трусики Вероники Грогэн, как выяснили по метке прачечной.
Генри Бауэрс, заявлялось в «Ньюс», и был тем монстром, который наводил ужас на Дерри весной и летом 1958 года.
«Ньюс» объявила о конце долгой ночи в Дерри на первой полосе своего номера от 6 декабря, хотя даже такой недоумок, как Генри, знал, что ночь в Дерри не закончится никогда.
Они засыпали его вопросами, взяли в круг, тыкали в него пальцем. Дважды начальник полиции отвесил ему оплеуху, однажды детектив по фамилии Лоттман ударил в живот, посоветовав ему признаться, да побыстрее.
«Снаружи собрались люди, и настроение у них плохое, Генри, – сказал ему этот Лоттман. – В Дерри давно уже никого не линчевали, но это не означает, что такого здесь больше не будет».
Он полагал, что они не отступятся, сколько бы это ни заняло времени. Едва ли кто-то из них действительно верил, что жители Дерри могут ворваться в полицейский участок, вытащить Генри на улицу и вздернуть на первом же суку. Но им всем отчаянно хотелось подвести черту под этим летом крови и ужасов. Они бы и подвели, пусть Генри никого и не убивал. Через какое-то время он понял, чего они от него хотят – признания во всем. После кошмара канализационных тоннелей, после того, что случилось с Рыгало и Виктором, он особо и не возражал. Да, сказал Генри, он убил своего отца. И сказал правду. Да, он убил Виктора Крисса и Рыгало Хаггинса, и тоже сказал правду, во всяком случае, в том, что повел их в тоннели, где их убили. Да, он убил Патрика. Да, он убил Веронику. Да – на один вопрос, да – на все. Неправда, но значения это не имело. Кому-то следовало взять на себя вину. Возможно, только по этой причине его и оставили в живых. А если бы он отказался…
Насчет ремня Патрика он все понимал, потому как выиграл его у Патрика в карты еще в апреле, обнаружил, что ремень ему мал и бросил в один из ящиков комода. И насчет учебников он все понимал: черт, они дружили, к учебникам, выданным на летние занятия, относились так же наплевательски, как к тем, которыми пользовались во время учебного года. Они им были нужны, как сурку чечетка. В стенных шкафах Крисса и Хаггинса наверняка валялись его учебники, и копы скорее всего тоже это знали.
Трусики… нет, он понятия не имел, как трусики Вероники Грогэн попали в его матрас.
Но он думал, что знал, кто – или что – позаботился об этом.
Лучше о таком не говорить.
Лучше изображать придурка.
Его отправили в Огасту, а потом, в 1979 году, перевели в «Джунипер-Хилл». В этой лечебнице он только раз попал в передрягу и лишь потому, что поначалу его не понимали. Какой-то парень попытался выключить ночник Генри. В виде Дональда Дака с маленькой бескозыркой на голове. Дональд защищал Генри после захода солнца. В темноте пришли бы твари. Замки на дверях и металлическая сетка их бы не остановили. Они бы просочились как туман. Твари. Они говорили, и смеялись, и… иногда они хватали. Лохматые твари, гладкие, с глазами. Твари, которые действительно убили Вика и Рыгало, когда в августе 1958 года они втроем вошли в канализационные тоннели, преследуя тех ребят.
Оглядываясь, Генри видел других пациентов Синей палаты. Джорджа Девилля, который в один зимний вечер 1962 года убил жену и четверых детей. Джордж не поднимал головы, его седые волосы ерошил ветер, сопли бодро текли из носа, громадный деревянный крест мотало из стороны в сторону, в такт его ударам мотыгой. Джимми Донлина. Во всех газетах о Донлине написали, что летом 1965 года в Портленде он убил мать, но не упомянули, что Джимми пытался по-новому избавиться от тела: к тому времени, когда нагрянули копы, Джимми съел половину, включая мозги матери. «От них я стал вдвое умнее», – как-то раз признался Джимми Генри после отбоя.
На следующей за Джимми грядке фанатично махал мотыгой и одновременно снова и снова пел одну строку, как, впрочем, и всегда, недомерок француз Бенни Болье, поджигатель, пироманьяк. И теперь, работая, он повторял строку из песни «Дорс»: «Пытаясь поджечь ночь, пытаясь поджечь ночь, пытаясь поджечь ночь, пытаясь…»
Через какое-то время его пение начинало действовать на нервы.
За Бенни работал Франклин Д’Круз, который изнасиловал более пятидесяти женщин, прежде чем его поймали со спущенными штанами в бангорском Террас-парк. Возраст его жертв варьировал от трех лет до восьмидесяти одного года. Этот Фрэнк Д’Круз не имел особых предпочтений. Арлен Уэстон чуть отставал от остальных, потому что слишком много времени проводил, мечтательно глядя на свою мотыгу. Фогерти, Адлер, Джон Кунц – все они использовали зажатый в кулак валик с четвертаками, чтобы убедить Уэстона шевелиться чуть быстрее, и однажды Кунц ударил его чуть сильнее, чем следовало, потому что кровь пошла не только из носа Арлена Уэстона, но и из ушей, и в тот же вечер выяснилось, что у него сотрясение мозга. Легкое, но сотрясение. С того дня Арлен все глубже и глубже погружался во внутреннюю темноту, и теперь о возвращении не могло быть и речи: Арлен чуть не полностью оборвал связь с окружающим миром. За Арленом…
– Поднимешь наконец мотыгу или тебе помочь, Генри? – прорычал Фогерти, и Генри тут же принялся выпалывать сорняки. Он не хотел сотрясений мозга. Не хотел становиться таким же, как Арлен Уэстон.
Скоро вновь послышались голоса. Но на этот раз он слышал другие голоса, голоса подростков, которые втянули его в эту историю. Они шептали с луны-призрака.
«Ты не можешь поймать даже жирдяя, – прошептал один. – Теперь я богат, а ты пропалываешь горох. Мне смешно, говнюк!»
«Ба-а-ауэрс, ты не мо-ожешь по-оймать да-аже п-п-простуду! Прочитал ка-акие-то хо-орошие к-книги, по-ока си-идишь з-здесь? Я на-аписал много! Я бо-о-огат, а ты – в Дж-Дж-Джунипер-Хилл! Ха-ха, глупый го-овнюк!»
– Заткнитесь, – прошептал Генри голосам-призракам, прибавив скорости, выпалывая вместе с сорняками ростки гороха. Пот катился по щекам, как слезы. – Мы могли вас сделать. Мы могли.
«Мы посадили тебя под замок, говнюк, – рассмеялся еще один голос. – Ты гонялся за мной и не смог поймать, а теперь я тоже богат! Так держать, каблуки-бананы!»
– Заткнитесь, – шептал Генри, все быстрее работая мотыгой. – Просто заткнитесь!
«Ты хотел залезть мне в трусы, Генри? – принялся дразнить его еще один голос. – А тебе не обломилось! Я дала им всем, потому что была шлюхой, но теперь я тоже богата, и мы снова вместе, и мы снова этим займемся, но тебе опять не обломится, даже если бы я согласилась дать тебе, потому что у тебя уже не стоит. Так что, ха-ха, Генри, мы все смеемся над тобой».
Генри махал мотыгой, во все стороны летели земля, сорняки, ростки гороха; голоса-призраки с луны-призрака звучали теперь очень громко, мельтешили в голове, и Фогерти уже с криком бежал к нему, но Генри его не слышал. Из-за голосов.
«Не смог справиться даже с таким ниггером, как я, так? – вступил еще один голос. – Мы побили вас в той битве камней! Мы вас, мать вашу, побили! Ха-ха, говнюк! Ты – посмешище!»
Теперь они бубнили все вместе, смеялись над ним, смеялись над тем, что у него каблуки-бананы, спрашивали, нравилась ли ему электрошоковая терапия, которой его подвергли, когда он попал в Красную палату, спрашивали, нравится ли ему в «Джунипер-Хилл», спрашивали и смеялись, спрашивали и смеялись, и Генри отбросил мотыгу и начал кричать на луну-призрак, зависшую в синем небе, а потом луна изменилась и стала лицом клоуна, лицом в белом гриме, с черными дырами глаз, и красно-кровавая усмешка вдруг перешла в улыбку, такую непристойно искреннюю, что выдержать ее не представлялось возможным: именно тогда Генри и начал кричать, не в ярости, а от дикого ужаса, голос клоуна говорил теперь с луны-призрака, и говорил следующее: «Ты должен вернуться, Генри. Ты должен вернуться и довести дело до конца. Ты должен вернуться в Дерри и убить их всех. Ради меня. Ради…»
Тут Фогерти – он стоял рядом и орал на Генри уже две минуты (тогда как другие пациенты Синей палаты стояли у своих грядок, держа в руках мотыги, словно карикатурные фаллосы, но на их лицах читался не интерес к происходящему, а почти что, да, почти что задумчивость, словно они понимали, что все это – часть таинства, благодаря которому они и оказались здесь, что внезапный приступ криков, которыми разразился Генри Бауэрс в Западном саду, несет в себе нечто большее, чем может показаться с первого взгляда) – надоело орать, и он от души врезал Генри кулаком с зажатым в нем валиком четвертаков. Генри рухнул как подкошенный, но голос клоуна последовал за ним в жуткую воронку темноты, куда он проваливался, повторяя снова и снова: «Убей их всех, Генри, убей их всех, убей их всех, убей их всех».
2
Генри Бауэрс лежал без сна.
Луна зашла, и за это он мог ее только поблагодарить. Ночью у луны убавлялось призрачности, она становилась более реальной, и он не сомневался, что умер бы от ужаса, если б увидел отвратительное лицо клоуна, плывущее в небе над холмами, и полями, и лесами.
Он лежал на боку, пристально глядя на ночник. Дональд Дак давно перегорел; его заменили Микки и Минни Маус, танцующие польку; им на смену пришло зеленое лицо Оскара-ворчуна с улицы Сезам, а в прошлом году место Оскара заняла мордочка медвежонка Фоззи. Генри отмерял годы заключения сгоревшими ночниками, а не кофейными ложечками.
Утром 30 мая, ровно в два часа и четыре минуты, ночник погас. Тихий стон сорвался с губ Генри – ничего больше. В эту ночь у дверей Синей палаты дежурил Кунц – худший из охранников. Даже хуже Фогерти, который так сильно ударил его днем, что Генри едва мог повернуть голову.
Вокруг него спали другие пациенты Синей палаты. Бенни Болье спал в фиксаторах. Когда они вернулись, закончив прополку, ему разрешили посмотреть стоящий в палате телевизор, по которому показывали очередной повтор одной из серий «Экстренной помощи», и около шести часов он принялся яростно дрочить, крича: «Пытаясь зажечь ночь! Пытаясь зажечь ночь! Пытаясь зажечь ночь!» Ему дали успокоительное, и оно помогло примерно на четыре часа, но около одиннадцати, когда действие элавила сошло на нет, он занялся тем же. Дергал свой старый шланг с такой силой, что между пальцами выступила кровь, продолжая кричать: «Пытаясь зажечь ночь!» Ему вновь дали успокоительное и закрепили руки и ноги в фиксаторах. Теперь он спал, и в тусклом свете ночника его сморщенное личико выглядело таким же серьезным, как у Аристотеля.
Из-за кровати Болье доносились тихий храп и громкий, бурчание, иногда кто-то подпускал голубка. Слышал Генри и дыхание Джимми Донлина, безошибочно узнаваемое, хотя и спал Джимми через пять кроватей. Резкое и чуть свистящее, почему-то оно ассоциировалось у Генри с работающей швейной машинкой. Из-за двери в коридор доносился слабый звук работающего телевизора Кунца. Генри знал, что Кунц обычно смотрит старые фильмы по каналу 38, пьет «Тексас драйвер» и ест ленч. Кунц отдавал предпочтение сандвичам с комковатым арахисовым маслом и бермудским луком. Когда Генри об этом услышал, его передернуло, и он подумал: «Неужели кто-то уверен, что все безумцы сидят под замком?»
На этот раз голос пришел не с луны.
На этот раз заговорили с ним из-под кровати.
Генри узнал голос сразу. Принадлежал он Виктору Криссу, которому уже двадцать семь лет как оторвали голову в тоннелях под Дерри. Оторвал ему голову Франкенштейн-монстр. Генри видел, как это произошло, а потом он увидел, как глаза монстра сместились, и почувствовал на себе их водянисто-желтый взгляд. Да, Франкенштейн-монстр убил Виктора, а потом убил Рыгало, но теперь Вик появился снова, словно повтор-призрак черно-белого фильма в программе «Прекрасные пятидесятые», когда президент был лысым, а «бьюики» выпускались с выхлопными отверстиями в бортах.
Но теперь, после случившегося в саду, когда из-под кровати послышался голос Виктора, Генри обнаружил, что он спокоен и ничего не боится. Даже испытывает облегчение.
– Генри! – позвал Вик.
– Вик! – воскликнул Генри. – Что ты делаешь под кроватью?
Бенни Болье всхрапнул и что-то пробормотал во сне. Швейная машинка в носу Джимми на мгновение сделала паузу во вдохах и выдохах, Кунц убавил звук маленького «Сони», и Генри буквально увидел, как он сидит, склонив голову набок, прислушиваясь, одна рука на кнопке уменьшения звука, пальцы другой поглаживают валик с четвертаками в правом кармане белой куртки.