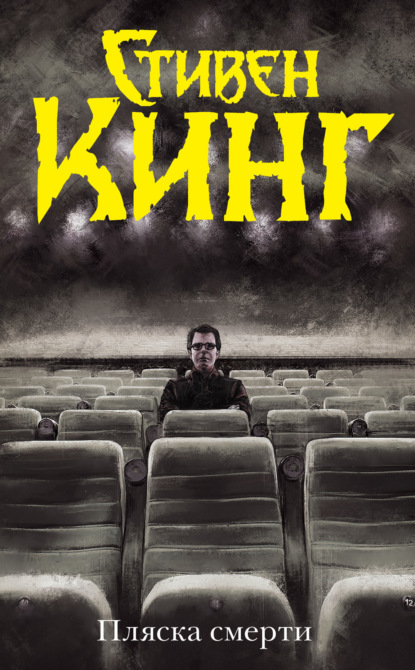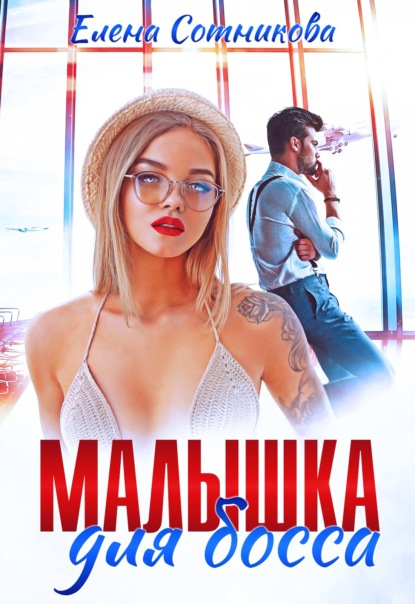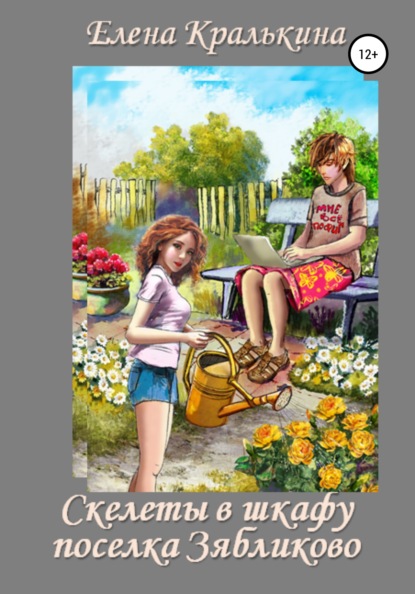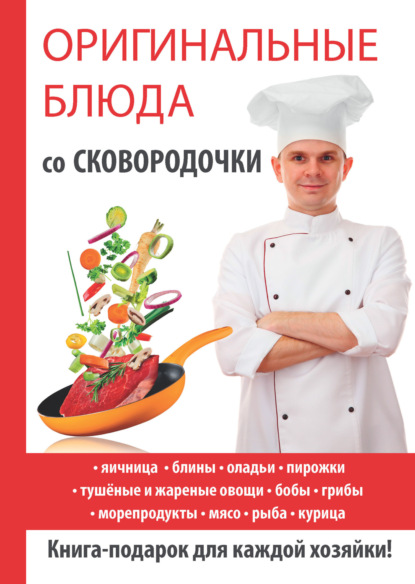- -
- 100%
- +
Я уже говорил, что невозможно объяснить, почему в человеке внезапно вспыхивает одержимость чем-то, но уловить момент, когда вы обнаруживаете этот всепоглощающий интерес – то мгновение, если хотите, когда лоза водоискателя неожиданно и уверенно поворачивает вниз, к скрытой воде, – вполне возможно. Можно сказать и по-другому: талант – это компас, и нам нет дела, как он работает, почему он указывает на магнитный полюс; но момент, когда стрелка поворачивается к этому великому центру притяжения, для нас важен.
Мне всегда казалось странным, что этим особым моментом в своей жизни я обязан отцу, который бросил мою мать, когда мне было два года, а моему брату Дэвиду – четыре. Отца я не помню совсем, но на снимках, которые видел, передо мной предстает человек среднего роста, в очках, слегка полноватый – одним словом, симпатичный американец сороковых годов. Во время Второй мировой войны он служил в торговом флоте, пересекал Атлантический океан и играл в рулетку с немецкими подводными лодками. Мама рассказывала, что больше всего он боялся не торпед, а того, что у него из-за плохого зрения отнимут капитанское свидетельство: на суше он то и дело съезжал на обочину и ездил на красный свет. Я страдаю тем же; иногда мне кажется, что у меня вместо глаз пара донышек от бутылок колы.
Дон Кинг был непоседой. Мой брат родился в 1945 году, я – в 1947-м, а с 1949 года от отца не было ни слуху ни духу… хотя мать уверяла, что в 1964 году, во время беспорядков в Конго, она видела его в новостях среди белых наемников одной из сторон. Но я думаю, что она ошиблась. К тому времени ему было уже около пятидесяти. Однако если это все же правда, надеюсь, он решил проблемы со зрением.
После исчезновения отца мать осталась одна и справлялась с трудом. Следующие девять лет мы ее почти не видели. Она нанималась на множество низкооплачиваемых работ: гладила в прачечной, готовила тесто в ночную смену в пекарне, была кладовщицей и экономкой. Она была способной пианисткой и обладала хорошим, хотя и своеобразным чувством юмора, и каким-то образом ей удавалось поддерживать нас на плаву. У нас не было машины (а до 1956 года – и телевизора), но мы никогда не голодали.
Эти девять лет мы много ездили по стране, но всегда возвращались в Новую Англию. А в 1958 году вернулись в Мэн уже окончательно. Моим дедушке и бабушке было за семьдесят, и семья наняла мою мать, чтобы заботиться о стариках последние годы их жизни.
Мы жили в Дареме, и хотя может показаться, что эта семейная история увела нас далеко от темы, на самом деле мы к ней как раз приближаемся. Примерно в четверти мили от маленького дома, где росли мы с братом, стояло красивое кирпичное здание. Там жила сестра моей мамы, Этелин Пиллсбери Флоус, со своим мужем Ореном. Над их гаражом был просторный чердак, со скрипучими половицами и замечательным чердачным запахом.
В то время чердак соединялся с целой серией пристроек, и заканчивалась эта анфилада старинным амбаром. Все эти сооружения опьяняюще пахли старым, давно убранным сеном, но кое-что напоминало о тех днях, когда здесь держали скотину. Если забраться на сеновал, можно было увидеть скелеты кур, очевидно, сдохших там от какой-то болезни. Я часто совершал к ним паломничество; меня что-то зачаровывало в этих куриных останках, лежавших под грудами перьев, хрупких, как лунный свет, и в темных глазницах, где когда-то были глаза, скрывалась какая-то тайна…
Чердак над гаражом представлял собой нечто вроде семейного музея. Здесь Пиллсбери годами складывали старые вещи, от мебели до фотографий, и места оставалось ровно столько, чтобы маленький мальчик мог проползти узкими проходами, ныряя под старинную лампу или перебираясь через ящик с древними обоями, которые кто-то зачем-то захотел сохранить.
Нам с братом не запрещали туда лазить, но тетя Этелин была недовольна, потому что половицы там не были приколочены, а кое-где их вообще не хватало. Очень легко было споткнуться и упасть на бетонный пол внизу – или прямо в кузов старого пикапа «шевроле» дяди Орена.
Именно там, на старом чердаке, в холодный осенний день 1959 или 1960 года моя внутренняя лоза уверенно нырнула, и стрелка компаса безошибочно указала на какой-то истинный мысленный полюс. В тот день я наткнулся на ящик с отцовскими книгами… в бумажных обложках, середины 40-х годов.
На чердаке было много отцовских вещей, и я хорошо понимаю, почему после его внезапного исчезновения мать постаралась спрятать их там. Именно здесь за год или два до этого брат нашел пленку, снятую отцом на корабле. Мы с Дэви позаимствовали немного из отложенных денег (без ведома матери), взяли напрокат кинопроектор и снова и снова смотрели пленку в зачарованном молчании. В одном месте отец передал камеру кому-то другому, и вот он, Дональд Кинг из Перу, штат Индиана, стоит у поручня. Он поднимает руку, улыбается; сам не зная об этом, он машет рукой сыновьям, которые тогда еще даже не были зачаты. Мы перематывали пленку, смотрели, снова перематывали и снова смотрели. И опять. Привет, папа; интересно, где ты сейчас.
В другой коробке оказались его торговые лоции; еще в одной – альбомы со статьями о разных странах. Мама говорила, что хотя он всегда ходил с вестерном в кармане, по-настоящему его интересовали научная фантастика и ужасы. Он сам не раз делал попытки написать рассказы такого типа и предлагал их популярным журналам того времени, например, «Блюбуку» и «Аргоси», но так ничего и не опубликовал («У твоего отца в характере не было постоянства», – как-то раз сухо сказала мне мать, и это был самый большой упрек по отношению к нему, какой я от нее когда-либо слышал), зато получил несколько писем с отказами. «Это-не-подойдет-но-присылайте-еще» – так я их называл в двадцатилетнем возрасте, когда собрал немало собственных (в минуты депрессии я подумывал, не использовать ли их в качестве носовых платков).
Ящик, который я отыскал в тот день, оказался настоящей сокровищницей, полной старых изданий «Эйвон» в мягких обложках. В те дни только издательство «Эйвон» печатало фэнтези и книги о сверхъестественном в мягких обложках. Я с большой нежностью вспоминаю их – особенно сверкающие обложки, покрытые неким гибридом желатина и пищевой пленки. Если рассказ становился скучным, можно было длинными полосами срывать эту блестящую пленку. При этом раздавался восхитительный звук. И хотя это снова уводит нас от темы, я с любовью вспоминаю и издания 40-х годов издательства «Делл»; тогда это были сплошные детективы, и на задней стороне обложки каждой книги была изображена великолепная карта места преступления.
Одна из книг «Эйвона» была «образцом»: очевидно, составители решили, что слово «антология» любители подобной литературы не поймут. Там были рассказы Фрэнка Белнэпа Лонга («Псы Тиндала» [The Hounds of Tindalos]), Зелии Бишоп («Проклятие Йига» [The Curse of Yig]) и множество других, выбранных из предыдущих номеров «Странных историй». Еще в сундучке были две книги Меррита – «Гори, ведьма, гори» [Burn, Witch, Burn] (не путайте с более поздним романом Фрица Лейбера «Ведьма» [Conjure Wife]) и «Металлическое чудовище» [The Metal Monster].
Но самым ценным в этой сокровищнице был сборник Лавкрафта 1947 года под названием «Притаившийся ужас и другие рассказы» [The Lurking Fear and Other Stories]. Очень хорошо помню рисунок на обложке: ночное кладбище (где-то вблизи Провиденса, судя по всему!), а из-под могильного камня выбирается отвратительная зеленая тварь с длинными клыками и горящими красными глазами. За ней маячит туннель, ведущий в недра земли. С тех пор я видел буквально сотни изданий Лавкрафта, но этот рисунок для меня лучше всего выражает дух творчества Г.Ф.Л[74]. … и я до сих пор понятия не имею, кто был художником.
Конечно, это было не первое мое знакомство с литературой ужасов. В Америке нужно быть слепым и глухим, чтобы в возрасте десяти-двенадцати лет не столкнуться хотя бы с одним чудищем. Но тут я впервые повстречался с серьезной литературой этого жанра. Лавкрафта называли литературным поденщиком – я категорически с этим не согласен, – но так ли это или нет, сочинял ли он популярное чтиво или писал «художественную литературу» (в зависимости от вашего критического настроя), в данном контексте значения не имеет, потому что сам он относился к своему творчеству серьезно. И это чувствуется. И потому эта книга, подарок моего исчезнувшего отца, стала моей первой встречей с миром гораздо более объемным, чем фильмы категории B, которые по субботам крутили в кинотеатрах, или книги для мальчиков Карла Кармера и Роя Рокуэлла. Когда Лавкрафт писал «Крыс в стенах» или «Модель Пикмана» [Pickman’s Model], он не просто забавлялся или пытался заработать несколько лишних баксов; он писал всерьез, и именно на эту серьезность отозвалась моя внутренняя лоза.
Я забрал книги с чердака. Тетя, которая была школьной учительницей, практичной до мозга костей, не одобряла их, но я не сдавался. На следующий день я впервые посетил плато Ленг, познакомился с причудливым арабом Абдулом Альхазредом из эпохи до ОПЕК (автором «Некрономикона», который, насколько мне известно, никогда не предлагался для обсуждения членам клуба «Книга-в-месяц» или Литературной гильдии, но экземпляр которого, как говорят, хранился под замком в особом собрании Мискатоникского университета); побывал в городах Данвич и Аркхэм, штат Массачусетс; и главное – встретился с мрачным ужасом «Сияния извне».
Через пару недель эти книги исчезли, и с тех пор я их не видел. Я всегда подозревал, что тут не обошлось без моей тетушки Этелин… но в конечном счете это не важно. Я уже ступил на свой путь. Лавкрафт – благодаря отцу – открыл его мне, как и моим предшественникам, среди которых Роберт Блох, Кларк Эштон Смит, Фрэнк Белнэп Лонг, Фриц Лейбер и Рэй Брэдбери. И хотя Лавкрафт, который умер еще до того, как Вторая мировая война оживила многие из его ужасных видений, нечасто упоминается в этой книге, читателю не стоит забывать о его тени, длинной и тощей, с темными пуританскими глазами, – тени, которая лежит почти на всех последующих произведениях ужасов. Эти глаза мне запомнились по первой увиденной мною его фотографии… такие глаза можно встретить на старинных портретах, что до сих пор висят в домах Новой Англии, черные глаза, которые, кажется, смотрят не только вовне, но и внутрь.
Эти глаза словно преследуют вас.
4Первый фильм, который я посмотрел еще ребенком, назывался «Тварь из Черной лагуны» [Creature from the Black Lagoon]. Кинотеатр был «драйв-ин»; мне тогда, вероятно, было около семи лет, потому что картина, в которой снимались Ричард Карлсон и Ричард Деннинг, вышла в 1954 году. Она демонстрировалась в стереоварианте, но я не помню, чтобы надевал очки, так что, возможно, это был вторичный прокат.
Из этого фильма я ясно помню только одну сцену, но она произвела на меня неизгладимое впечатление. Герой (Карлсон) и героиня (Джулия Адамс, которая выглядела совершенно сногсшибательно в слитном купальнике) участвуют в экспедиции где-то в дебрях Амазонки. Они пробираются по узкому болотистому ручью и оказываются в широком бассейне, который выглядит идиллической южноамериканской версией райского сада.
Но в этом раю таится чудовище – естественно. Это чешуйчатая земноводная тварь, очень похожая на дегенератов-полукровок Лавкрафта – безумное и святотатственное отродье богов и земных женщин (я вас предупреждал, что трудно уйти от Лавкрафта). Чудовище медленно и терпеливо перегораживает ручей дамбой из веток и стволов, потихоньку запирая антропологов в ловушку.
Я тогда едва научился читать, а до ящика с отцовскими книгами было еще несколько лет. Смутно помню маминых приятелей в это время – примерно с 1952 по 1958 год; воспоминаний достаточно, чтобы понять: она общалась с мужчинами, – но недостаточно, чтобы представить ее интимную жизнь. Одного звали Норвилл; от него пахло сигаретами «Лаки», и летом он включал в своей двухкомнатной квартире три вентилятора; другой был Милт, он водил «бьюик» и летом носил гигантские синие шорты; был еще третий, очень маленького роста; кажется, он работал поваром во французском ресторане. Насколько мне известно, ни с кем из них о браке речь даже не заходила. Матери, видно, хватило одного раза. К тому же в то время было принято, чтобы замужняя женщина утрачивала способность принимать решения и зарабатывать на жизнь. А я помню маму упрямой, неподдающейся, мрачно упорной; ее почти невозможно было переубедить; она приобрела вкус к самостоятельности и хотела сама определять, как ей жить. У нее были приятели, но никто из них не задерживался надолго.
В тот вечер у нас был Милт, тот самый, с «бьюиком» и в больших синих шортах. Казалось, мы с братом ему нравились, и он не возражал, если время от времени мы оказывались на заднем сиденье его «бьюика» (когда входишь в спокойные воды сорокалетнего возраста, идея о поцелуях в машине за просмотром фильма уже не кажется такой привлекательной… даже если у вас «бьюик» размером с крейсер). К тому времени как появилась Тварь, мой брат сполз на пол и уснул. Мама с Милтом курили одну на двоих сигарету с ментолом и о чем-то разговаривали. Впрочем, они не имели значения – по крайней мере, в этом контексте; ничто не имело значения, кроме больших черно-белых фигур на экране, когда отвратительная Тварь загоняла героя и сексапильную героиню в… в… в Черную лагуну!
Глядя на экран, я вдруг понял, что Тварь стала моей Тварью; я ее приобрел. Даже для семилетнего мальчика Тварь выглядела не очень убедительно. Я тогда не знал, что это добрый старый Рику Браунинг, знаменитый подводный каскадер в костюме из латекса, но догадывался, что это какой-то парень в костюме чудовища… и точно так же догадывался: он еще навестит меня в черной лагуне моих снов – и будет выглядеть гораздо правдоподобнее. Он может ждать в шкафу, когда мы вернемся домой; может затаиться в темной уборной в конце коридора, от него будет нести водорослями и болотной гнилью, и он будет готов закусить маленьким мальчиком. Семь лет – возраст небольшой, но вполне достаточный, чтобы понять: ты получаешь то, за что платишь. Ты владеешь этим, ты это купил, оно твое. Ты уже достаточно взрослый, чтобы ощутить, как внезапно оживает в твоих руках лоза, наливается тяжестью и поворачивается, указывая на скрытую воду.
Моя реакция на Тварь в тот вечер, вероятно, была идеальной, именно той, на которую надеется всякий писатель или режиссер, когда снимает колпачок с ручки или крышку с объектива камеры: полная эмоциональная вовлеченность, не ослабленная никаким мыслительным процессом, – а ведь вы понимаете, что для того чтобы разрушить очарование, достаточно заданного шепотом вопроса приятеля: «Видишь молнию у него на спине?»
На мой взгляд, только люди, работающие в этой области, понимают, насколько хрупко это впечатление и какое удивительное воздействие оно способно оказать на взрослого читателя или зрителя. Когда Кольридж писал о «приостановке неверия», мне кажется, он понимал, что неверие – не воздушный шарик, который можно запустить в воздух с минимальными усилиями; оно обладает свинцовой тяжестью, и его нужно поднимать рывком. Неверие – тяжелая штука. Возможно, произведения Лавкрафта и Артура Хейли пользуются различной популярностью потому, что в существование машин и банков верят все, но требуется значительное усилие, чтобы хоть на время поверить в Ньярлатотепа, Слепого Безлицего, Воющего в Ночи. И когда я встречаю человека, который говорит что-нибудь вроде: «Я никогда не читаю таких книг и не смотрю таких фильмов, потому что этого не существует в действительности», – я этому человеку сочувствую. Он просто не выдерживает веса фантазии. Мышцы его воображения слишком ослабли.
В этом смысле дети – идеальная аудитория для произведений ужасов. Парадокс заключается в следующем: слабые физически, дети с необыкновенной легкостью справляются с тяжестью воображения. Они жонглируют невидимыми мирами – феномен вполне понятный, если вспомнить о том, с какой перспективы они смотрят на вещи. Дети искусно манипулируют логикой прихода Санта-Клауса в канун Рождества (он может спускаться по узким каминным трубам, а если камина нет, то есть прорезь для писем, а если нет и ее, то всегда есть щель под дверью), с пасхальным зайцем, Богом (рослый старец, седая борода, трон), Иисусом («Как, по-твоему, он превратил воду в вино?» – спросил я своего сына Джо, когда ему – Джо, а не Иисусу – было пять лет; по мнению Джо, у Иисуса имелось нечто «вроде волшебного «Кулэйда»[75], понимаешь»?), с Рональдом Макдоналдом, с Бургером Кингом, эльфами «Кибблера», Дороти и Тотошкой, Одиноким Рейнджером и Тонто[76] и тысячью других аналогичных персонажей.
В большинстве случаев родители переоценивают свою способность понимать эту открытость и стараются держать детей подальше от всего, что связано со страхом и ужасом, – «рекомендовано к просмотру с родителями (или «без возрастных ограничений», как в случае «Штамма “Андромеда”» [The Andromeda Strain]), но действие может оказаться слишком напряженным для детей младшего возраста», как гласит реклама «Челюстей»; по-видимому, такие родители считают, что позволить детям пойти на настоящий фильм ужасов – все равно что принести гранату в детский сад.
Тут имеет место один из странных доплеровских эффектов: люди забывают, что процесс взросления заключается в том, что дети младше восьми лет способны испугаться чего угодно. В подходящем месте и в подходящее время дети боятся собственной тени. Рассказывают о четырехлетнем мальчике, который отказывался ложиться в постель без включенной лампы. Родители в конце концов поняли, что он боится существа, о котором часто говорил отец; существом оказался вечерний бейсбольный матч с искусственным освещением[77].
В свете этого кажется, что даже фильмы Диснея представляют собой минные поля ужаса, и хуже всего те из них, что, по-видимому, будут демонстрироваться до конца времен[78]. По сей день встречаются взрослые, которые на вопрос о том, что в детстве показалось им самым страшным, ответят: сцены, когда мать Бемби убивает охотник или когда Бемби с отцом убегают от лесного пожара. Другие кадры диснеевских фильмов, которые сравнимы с ужасом обитателя Черной лагуны, это марширующие метлы, вышедшие из-под контроля в «Фантазии» [Fantasia] (на самом деле для маленького ребенка истинный ужас ситуации – подразумеваемые отношения отец – сын между Микки-Маусом и старым колдуном; метлы все приводят в полный беспорядок, а когда колдун/отец вернется, последует НАКАЗАНИЕ… Такая сцена вполне может вызвать у ребенка строгих родителей приступ ужаса); ночь на Лысой горе из того же фильма; колдуньи из «Белоснежки» [Snow White] и «Спящей красавицы» [Sleeping Beauty], одна с соблазнительно красным отравленным яблоком (а какого ребенка не приучают с самого младшего возраста бояться яда?), другая – со смертоносным веретеном; так можно продолжать до относительно безвредных «Ста одного далматинца» [One Hundred and One Dalmatians], в котором выступает внучка диснеевских ведьм 30–40-х годов – злобная Стервелла де Виль, с отвратительным костлявым лицом, громким голосом (взрослые иногда забывают, как пугаются дети громкого голоса даже своих родителей) и зверским планом убить всех щенят-далматинцев (настоящих «детей», если вы сами ребенок) и пошить из них шубы.
И все же именно родители гарантируют выпуски и перевыпуски диснеевских фильмов; при этом у них самих бегут по спине мурашки, когда они вспоминают, как дрожали от ужаса в детстве… потому что хороший фильм ужасов (или жуткие эпизоды в «комедии» либо «мультфильме»), помимо всего прочего, сбивает нас со взрослых подпорок и возвращает в детство. И тут наша собственная тень снова может превратиться в злобного пса, зияющую пасть или манящую темную фигуру.
Возможно, наиболее четко осознание этого возвращения к детству приходит в удивительном фильме ужасов Дэвида Кроненберга «Выводок» [The Brood], в котором обеспокоенная женщина буквально рожает «детей гнева», одного за другим убивающих членов ее семьи. В середине фильма отец сидит в отчаянии в комнате на верхнем этаже, пьет и оплакивает жену, которая первой испытала на себе гнев этого выводка. Мы видим саму кровать… и неожиданно из-под нее показываются когтистые руки и впиваются в пол рядом с туфлями обреченного отца. Так Кроненберг возвращает нас в прошлое: нам снова четыре года, и оправдались наши самые мрачные догадки о том, что может прятаться под кроватью.
Ирония заключается в том, что дети гораздо лучше взрослых приспособлены к тому, чтобы иметь дело с фантазией и ужасом на собственных условиях. Слова «на собственных условиях» я выделил курсивом не просто так. Взрослый способен справиться с катастрофическим ужасом – вроде «Техасской резни бензопилой», – потому что понимает: все это не по-настоящему; когда съемки кончатся, мертвецы встанут и пойдут смывать сценическую кровь. Дети не способны провести такое различие, и «Резня» вполне справедливо отнесена к категории R[79]. Детям действительно такие сцены ни к чему, как ни к чему им и заключительные кадры «Ярости» [The Fury], где Джона Кассеветиса буквально разрывает на куски. Но если вы посадите в первый ряд смотреть «Резню» шестилетнего ребенка и взрослого, который временно теряет способность различать вымышленные и «реальные» вещи (как выражается Дэнни Торранс, маленький герой «Сияния» [The Shining]) – допустим, вы дали взрослому за два часа до сеанса дозу ЛСД, – я полагаю, ребенку неделю будут сниться кошмары. Взрослый же проведет не меньше года в комнате с обитыми резиной стенами, откуда будет писать домой письма цветными мелками.
Определенная доля фантазии и ужаса в жизни ребенка присутствовать должна. Воображение помогает справиться с ними, а благодаря своему уникальному положению в жизни дети способны заставить такие чувства работать. К тому же они сами хорошо понимают уникальность своего положения. Даже в таком относительно упорядоченном обществе, как наше, им ясно, что их выживание практически не зависит от них самих. Дети до восьми лет «зависимы» во всех смыслах этого слова; от отца и матери (или какого-нибудь их подобия) зависит не только наличие пищи, одежды и жилища, но и то, что машина не попадет в аварию, что они вовремя сядут на школьный автобус, что их приведут домой из «Каб-скаутс»[80]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Чудовище из старинного англосаксонского эпоса «Беовульф». – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.
2
Популярное кукольное представление, в котором действуют постоянные персонажи: шут-неудачник Панч и его жена Джуди.
3
Один из Виргинских островов в Вест-Индии.
4
Ежемесячный американский журнал, посвященный в основном фантастике в кино и на телевидении. Основан в 1976 году.
5
Конфета-шарик на палочке с твердой оболочкой и мягкой начинкой.
6
Зато есть в римейке Филипа Кауфмана. Действительно жуткая сцена: Дональд Сазерленд граблями разрывает лицо почти сформировавшегося стручка. Лицо «существа» рвется с тошнотворной легкостью, как гнилой фрукт, и из него брызжет фонтан самой реалистичной сценической крови, какую мне только доводилось видеть в цветном фильме. На этом моменте я съежился, зажал рукой рот и… удивился, каким образом фильм прошел в категорию «по усмотрению родителей». – Примеч. автора.
7
Герой радиошоу, шедшего с 1938 года. Пилот и одновременно тайный агент и борец со злом. Он возглавляет особый отряд – The Secret Squadron, – членом которого мог стать любой юный слушатель. Приславшим письма высылались эмблемы отряда, в том числе упоминаемые Кингом кольца.
8
Капитан Видео – герой очень популярного телесериала 50-х годов. Великий ученый XXII века и его юный помощник сражаются со злом на далеких планетах. Сценарии для этого сериала писали такие видные фантасты, как Джек Вэнс, Джеймс Блиш, Роберт Шекли, Артур Кларк, Дэймон Найт и др.
9
Популярные комиксы, а также теле- и радиосериалы 30–40-х годов.
10
Один из Марианских островов в Тихом океане; взят американцами в 1944 году.
11
Остров в архипелаге Гилберта; захвачен в 1943 году.