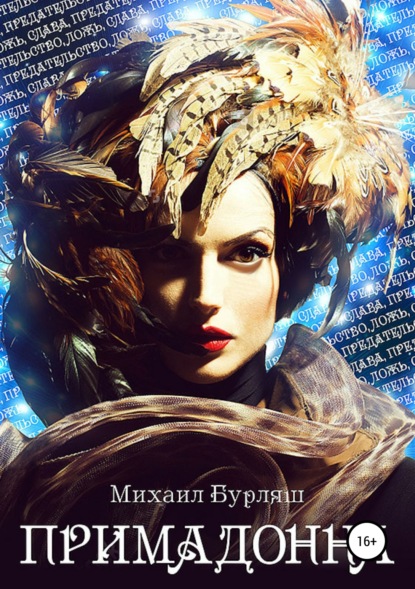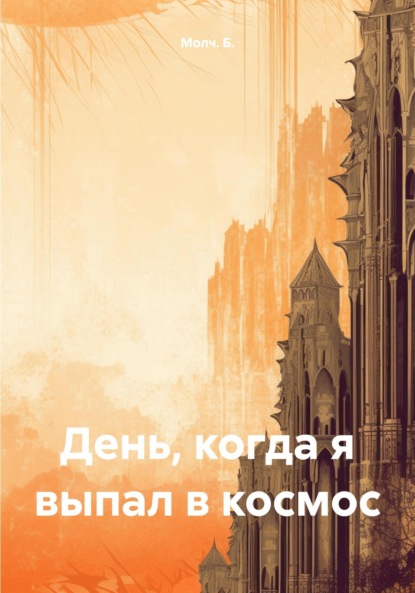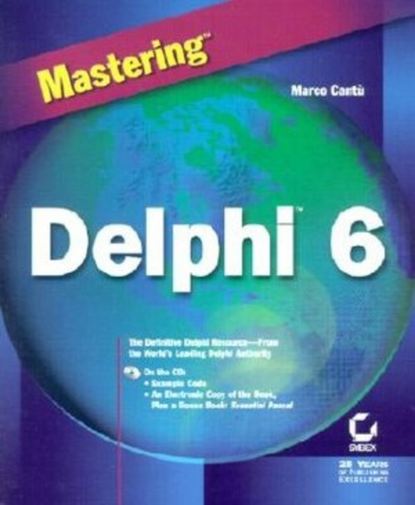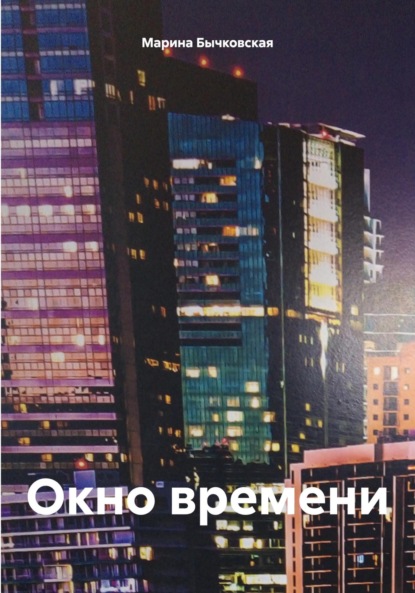Философия Высшего Блага
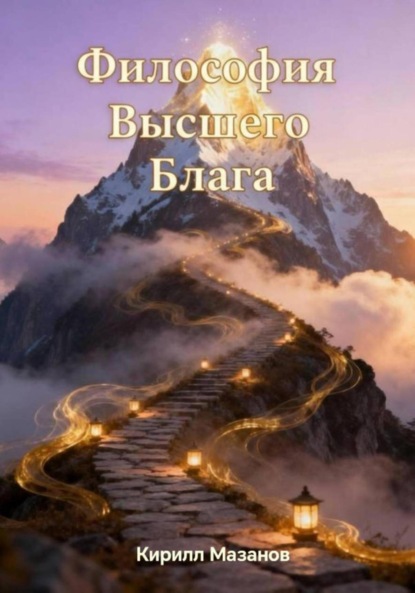
- -
- 100%
- +

Введение
Прежде чем перейти к началу объяснения темы существования и сущности Высшего Блага, сначала необходимо рассмотреть во введении, в чём состоит сущность философии, коротко рассказав о том, как среди людей возникла «любовь к мудрости». Долгое время человек жил, создавая вокруг себя мифы, которые объясняли непонятные природные явления. Так, например, гром и молния воспринимались как проявления гнева громовержца Зевса. У разных народов и культур по всему миру складывались мифы и легенды о богах и ритуалах, призванных снискать их благосклонность. Эти вымышленные персонажи, согласно преданиям, жили рядом с людьми, на самой Земле. Так, по древнегреческой традиции, боги обитали на горе Олимп, которая и сегодня возвышается в Греции. Человек с мифологическим типом мышления воспринимал мир достаточно буквально и приземлённо.
Ситуация изменилась примерно в 800–200 годах до нашей эры. В этот период произошёл величайший духовный переворот: в разных уголках мира зародились основные религии и философские учения. Народам, которые перестали довольствоваться мифами и стремились прорваться сквозь пелену неведения к истине, помогал разум. Таких людей стали называть философами – любящими мудрость.
К. Ясперс писал: «В это время происходит много необычайного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли все направления китайской философии, мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и бесчисленное множество других. В Индии появились Упанишады, жил Будда; философия Индии, как и Китая, рассмотрела все возможности постижения действительности – вплоть до скептицизма, материализма, софистики и нигилизма. В Иране Заратустра учил о борьбе добра и зла. В Палестине выступали пророки – Илия, Исайя, Иеремия и Второисайя. В Греции это было время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Всё, что связано с этими именами, возникло почти одновременно в течение нескольких столетий в Китае, Индии и на Западе, независимо друг от друга».
История показывает, что философия не является обязательным признаком развитой цивилизации. Так, в Древнем Египте и Месопотамии, несмотря на высокий уровень культуры, философия в строгом смысле не возникла. Большинство людей этих обществ веками довольствовались локальными мифами и ритуалами, воспринимая их как сакральную данность, не требующую переосмысления. При этом Египет отличался успехами в медицине, а Месопотамия – в математике. Это свидетельствует о том, что переход от племенного строя к цивилизации сам по себе не ведёт к появлению философии.
Поэтому историческое возникновение философии в 800–200 годах до н. э. в разных культурах мира можно считать удивительным и почти чудесным явлением. На мой взгляд, сейчас наблюдается довольно опасная и тревожная тенденция. Настоящая философия, судя по философской повестке сегодняшнего дня, давно позабыта, философы уже давно не в почёте, в университетах преподаётся скорее не сама философия, а её история, а само общество словно живёт в Древнем Египте, причём такая тенденция наблюдается во всех странах мира. Так как вопреки этой общераспространённой мировой тенденции мне удалось отведать вкус настоящей философии, полюбив её с самого детства, я решил написать о том, что она собой представляет, что изучает и почему заниматься ей – величайшее удовольствие и блаженство, и чтобы каждый читающий получил возможность также прикоснуться к ней, как когда-то прикоснулся и я.
С чего начинается философия и что она собой представляет
Если для истории философия начинается в «осевое время» – период, который Карл Ясперс назвал величайшим духовным переворотом, – то возникает другой вопрос: с чего начинается философия для отдельного человека?
Принято считать, что философия зарождается из любопытства. Однако любопытство может быть и праздным. Поэтому, на мой взгляд, философия для человека начинается не с любопытства как такового, а с поиска истины.
Но что такое истина и существует ли она в принципе? Некоторые греческие софисты, в частности Протагор, утверждали, что истина субъективна. «Человек – мера всех вещей, – говорили они, – он сам решает, что истинно, а что нет». Софисты владели искусством риторики и могли логично и убедительно доказать любую точку зрения, используя изощрённые приёмы. Добро и зло, истина и ложь – всё это для них было относительным. Таким образом, по Протагору, объективной истины не существует: есть лишь субъективное мнение, которое будет истинным для конкретного человека.
На первый взгляд это учение выглядит стройным и логичным, но в нём содержится внутренний парадокс, который разрушает всю систему. Протагор считал свою теорию истинной. Однако многие философы видели в ней изъян, который ставил под сомнение всё рассуждение. Суть противоречия в следующем: для самих софистов теория Протагора была истинной и непротиворечивой, а философам, верившим в объективную истину, она казалась ложной. По логике самого Протагора это не было бы проблемой: разные мнения об одном и том же могут быть одинаково верными. Но если это так, то утверждение «учение Протагора истинно» и «учение Протагора ложно» одновременно должны быть истинными. В таком случае философы, для которых теория Протагора ложна, вправе её отвергать. Если же допустить, что у каждого своя истина, то и несогласие с Протагором должно быть столь же справедливым, как и его собственное утверждение. А если он неправ – тем самым вся теория рушится.
Таким образом, учение Протагора о том, что «объективной истины нет», не выдерживает критики, так как содержит внутреннее противоречие. Из этого следует, что объективная истина, независимая от человеческих мнений, всё же существует, а любое мнение может быть истинным лишь в той мере, в какой оно согласуется с этой истиной.
В логике и математике подобный приём называется «доказательством от противного» и известен ещё со времён античности[1]. Его суть в том, что, чтобы подтвердить истинность гипотезы, мы временно предполагаем верной противоположную ей гипотезу и находим в ней внутреннее противоречие.
В итоге оказывается, что древнегреческие философы – в лице Сократа и его учеников, стремившиеся к познанию объективной истины, – были правы, потому что исходили из её существования. Софисты же, отрицавшие саму возможность объективной истины, оказались неправы.
Однако представим, что один из софистов возразил бы на приведённое выше рассуждение следующим образом:
«Но, Сократ, теория Протагора верна. Просто, чтобы она работала логично, её не следует применять к самой себе. Мы этого прямо не говорили, но всегда подразумевали. Тогда никакого противоречия нет: правило работает для всего, кроме самого себя. Это единственное исключение, а всякое исключение, как известно, лишь подтверждает правило».
На это Сократ мог бы ответить:
«Хорошо, мой друг. Тогда мы можем переформулировать правило так: в соответствии с учением Протагора, никакой объективной истины нет, и то, чем что-то кажется человеку, таково оно и есть для него – за исключением самого этого правила. Следовательно, учение Протагора само по себе становится объективной истиной: все прочие утверждения могут быть для кого-то истинными, а для кого-то ложными, но это утверждение всегда будет истинным, независимо от мнения. Выходит, теперь мы не спорим о том, существует ли объективная истина. Мы оба согласны, что она есть. Спор идёт лишь о том, каково её содержание».
Можно ли теперь опровергнуть этот обновлённый тезис софистов, гласящий не так, как первоначально, – «никакой объективной истины не существует», а фактически гласящий теперь «учение Протагора – и есть та самая искомая и единственная объективная истина»? Можно, причём довольно легко. Теперь, с учётом этой более «продвинутой» версии софизма, они фактически разделили все вещи на 2 категории: 1) то, какими вещи нам кажутся в нашем субъективном восприятии, и 2) то, какие они есть на самом деле в некой независимой от нас и нашего восприятия объективной данности.
Теперь учение Протагора можно сформулировать так: «то, какие вещи нам кажутся, таковы они для нас и есть, за исключением лишь этого самого правила, которое всегда будет истинным независимо от того, кажется оно кому-то истинным или нет». Однако взглянем теперь на этот рисунок:

Верхний отрезок кажется в нём явно короче нижнего, не правда ли? Но вам достаточно приложить линейку к ним обоим, чтобы убедиться в том, что на самом деле они равны. Это – знаменитая оптическая иллюзия Мюллера–Лайера[2], которая наглядно демонстрирует, что учение софистов во многом противоречиво, даже если исключить из её формулировки саму себя. Наши органы чувств легко обмануть. Истина состоит здесь в том, что всё это время отрезки не меняли свою длину, подстраиваясь под наше субъективное восприятие. Таким образом тезис софистов о том, что человек есть мера всех вещей, совершенно несостоятелен: мы не можем сказать, что вещи в действительности на самом деле таковы, какими они нам кажутся, на основании того, что мы и есть мера всех вещей. Мы можем лишь с уверенностью сказать, что вещи действительно кажутся нам такими, какими мы их воспринимаем, но в действительности эти вещи могут оказаться совершенно другими. В этом и состоит отличие софиста от философа: софисты изучают иллюзии – вещи, которые нам только кажутся. Философы же пытаются не изучать иллюзии, проводя всю свою жизнь в них, а докопаться до самой истины. Не тем, какими нам те или иные вещи кажутся и могут казаться, а каковы они есть, взятые сами по себе, то есть какие они на самом деле. В этом и состоит поиск истины.
Таким образом выходит, что учение софистов даже в этом случае полностью противоречиво. Поэтому учение софистов никак не может претендовать на статус объективного учения об абсолютной истине, которую ищут философы.
Величайшей заслугой философии Сократа было то, что, хотя он и знал, что объективная истина существует, тем не менее он (в отличие от других мыслителей с высоким самомнением) не считал, что обладает ею, и спокойно и честно признавал это. А с помощью особого искусства задавания вопросов (майевтики) он легко «вскрывал» и показывал всему миру внутренние противоречия в позиции оппонентов, тем самым стимулируя философскую мысль того времени к её поискам. «Я знаю (лишь то), что ничего не знаю, но другие не знают и этого», – говорил Сократ. Софисты, да и не только они, но и, как правило, все типичные люди того времени принимали своё субъективное частное мнение за истину, причём истину в самой последней инстанции, не подозревая, насколько на самом деле они далеки от неё. Именно такие люди и привлекали Сократа. Будучи сам великим философом, с великой радостью он стал бы учеником и назвал бы великим мудрецом того, кто владеет объективной истиной, особенно учитывая тот факт, что Сократ точно знал, что она существует, но не знал точно, в чём именно она состоит. Основной целью Сократа, я полагаю, было вовсе не разоблачение «самозванцев», а поиск действительно мудрого человека с помощью такого теста. Уже гораздо позже он признает, что такого мудреца (по крайней мере, на данный момент и на данном этапе развития философии) среди людей, видимо, не существует. Имея своих собственных учеников, он всю жизнь искал людей, претендовавших на знание истины. Сократ обычно выходил на главную площадь и начинал говорить с каким-нибудь учёным мужем. Они охотно начинали беседу с Сократом и с нескрываемым удовольствием принимались «просвещать Сократа», тем самым показывая и подчёркивая толпе и прохожим свою учёность, которые становились невольными зрителями этого шоу. Затем Сократ начинал задавать чуть более сложные вопросы по этой же теме – и тут собеседник начинал сыпаться. Причём Сократ, в отличие от софистов, не использовал для этого никаких грязных и хитроумных риторических приёмов: он использовал обычную формальную логику. Среди афинской молодёжи его беседы были чрезвычайно популярны, потому что напоминали некое шоу. Поэтому они часто специально стекались на площадь, чтобы посмотреть дебаты Сократа с кем-то, кто претендовал на статус знающего абсолютную истину. Но Сократ не был шоуменом, делающим своё шоу на потеху толпе. Он был философом, ищущим истину вместе со своим собеседником, задавая ему вопросы и невольно втягивая его в этот поиск. То, что в результате этого происходил полнейший разгром позиций собеседника, было, скорее, пусть и весьма занятным, но побочным эффектом, нежели желаемой целью. Ему было всё равно на мнение толпы и вообще на мнение кого-либо. Ему было важно лишь то, насколько далеко мы стоим от понимания объективной истины и действительно ли мы искренне стремимся к её пониманию, если не обладаем ею. Поэтому он полагал, что, раскрывая в ходе своих бесед людям глаза на их невежество, он приносит им величайшее благо.
Тем не менее открытие границ собственного невежества слишком сильно ударяло по гордому самолюбию и самомнению собеседников Сократа, многих из которых интересовал на самом деле не поиск истины, а своя репутация и статус среди других. Потерю своего лица они воспринимали как личное оскорбление и поэтому готовы были сурово отомстить Сократу.
Философа вызвали в суд и обвинили в развращении умов молодёжи, а также в том, что он не признает богов, признаваемых государством, и вводит вместо них другие, новые божества.
Свою защиту Сократ, который к моменту этих событий был глубоким 70-летним стариком, начал с того, что обвинения, выдвинутые против него, – это клевета, а также рассказал историю того, как он стал философом. Однажды Херефонт, человек, пользующийся большим уважением среди судей, приехал в Дельфы и спросил у Пифии, нет ли кого-нибудь мудрее Сократа. И Пифия ответила, что среди людей мудрее него никого нет. Услышав это, Сократ сильно удивился, потому что не считал себя мудрым и долго думал о том, что означают эти слова Пифии. Он решил доказать, что Пифия ошиблась, поэтому пошёл к одному из людей, слывших мудрыми. «Ну и когда я, – говорит Сократ, – присмотрелся к этому человеку – называть его по имени нет никакой надобности, скажу только, что человек, глядя на которого я увидал то, что я увидал, был одним из государственных людей, о мужи афиняне, – так вот, когда я к нему присмотрелся (да побеседовал с ним), то мне показалось, что этот муж только кажется мудрым и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет; и я старался доказать ему, что он только считает себя мудрым, а на самом деле не мудр. От этого и сам он, и многие из присутствовавших возненавидели меня».
Но Сократ не сдавался. Он стремился найти подлинных мудрецов, однако все эти влиятельные люди, слывшие мудрецами, на поверку лишь казались, но не являлись таковыми на самом деле. Так Сократ разоблачил вообще всех людей, слывшими мудрыми, и тем самым стал в глазах других горожан самым великим мудрецом во всех Афинах, хотя сам себя таковым Сократ, разумеется, не считал.
Сократ делает следующий вывод: «А на самом деле, о мужи, мудрым-то оказывается бог, и этим изречением он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит, и, кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа, а пользуется моим именем для примера, все равно как если бы он говорил, что из вас, о люди, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то по правде не стоит его мудрость».
Суд, рассматривающий обвинения против Сократа, состоял из 501 афинского гражданина-гелиаста. По итогам слушаний они решили, что Сократ виновен (281 проголосовал за то, что виновен, и 220 – за то, что не виновен), и предложили ему самому выбрать наказание, которое он считает для себя заслуженным. Однако в ответ на это Сократ заявил, что заслуживает не наказания, а высшей государственной награды Древних Афин – пожизненного бесплатного обеда в пританее, чего удостаивались обычно лишь олимпийские чемпионы. Но, продолжил Сократ, если судьи того требуют, то он может выплатить 13 килограммов серебра в качестве штрафа, а поручителями будут выступать его ученики: Платон, Аполлодор, Критон и Критобул. Подобный ответ вызвал сильное раздражение у судей, в результате которого философ был приговорён к смерти.
Подобный приговор можно оценивать как предложение выпить яд, причём в самом буквальном смысле этого слова. Это было предложение, потому что у Сократа было куча времени и возможностей сбежать – благодаря огромному числу богатых и влиятельных друзей и сочувствующей ему стражи, которая его охраняла в тюрьме. Однако он решил их не использовать: возможно, потому, что подобное бегство от смерти Сократ считал для философов трусостью.
В результате Сократ дал последние наставления своим ученикам о бессмертии души, которые описаны в диалоге Платона «Федон», а затем принял яд и умер. После этого случая его юный ученик Платон, сохранивший особый сократовский дух в своих философских сочинениях-диалогах (при жизни Сократ никогда сам ничего не записывал), навсегда разочаровался в справедливости демократического устройства Афин. По словам Диодора Сицилийского и Диогена Лаэртского, чуть позже судьи всё же пересмотрели своё решение, которое столь поспешно вынесли в отношении Сократа, и привлекли в суд уже самих его обвинителей – Милета и Анита, которых обвинили в клевете и смерти ни в чём неповинного человека, в результате чего их тоже приговорили к смертной казни. Однако Сократа этим уже всё равно было не вернуть.
Какие можно сделать выводы из всей этой печальной, но весьма поучительной истории?
Во-первых, существует некая объективная истина, стремление к познанию которой для любого философа есть величайшее благо само по себе: именно в результате подобного стремления и происходит возрастание в мудрости, и каждая попытка делает всё ближе и ближе её понимание.
Во-вторых, многие люди мнят себя мудрыми, но на деле не являются таковыми. Именно поэтому любая философская позиция должна быть хорошо обоснована и открыта для конструктивной критики. Только так возможен прогресс в понимании объективной истины, и именно так и происходит стремление к её познанию. Даже если человек вдруг стал знающим и познал все законы и загадки Вселенной и все тайны бытия – он не будет опасаться никакой критики. Хотя бы потому, что если это действительно знание объективной истины, то любой человек, который мыслит логично, в конце концов придёт к тем же самым выводам, о которых говорит этот великий мудрец. И, что важно, эти выводы останутся в его сердце не потому, что они основаны на вере в слова великого мудреца, а потому, что человек сделал их самостоятельно и сам удостоверился в них. Таким образом этот человек сам стал причастным к мудрости и в чём-то похожим на этого мудреца.
Здесь мне для чуть более удачной иллюстрации своей мысли приходит на ум экономическая аналогия, которая будет особенно хорошо понятна экономистам. Как работает рыночная экономика и почему она ведёт к экономическому процветанию и развитию общества? За счёт взаимной конкуренции множества бизнесов и компаний, генерирующих прибыль и конкурирующих друг с другом, они вынуждены всё время в процессе конкуренции повышать качество своих товаров и делать вместе с тем так, чтобы эти товары оставались доступны для конечного потребителя, чтобы получать максимальную прибыль. В результате выигрывают как производители (за счёт получения максимальной прибыли), так и потребители (за счёт качественных товаров и низких цен). Таким образом в целом выигрывает всё общество. Такая модель выгодна не только конечным потребителям, то есть обычным покупателем, но и самим бизнесам, которые в современном мире завязаны на другие бизнесы. В современном мире они являются не только производителями, но и сами потребителями. Так, например, чтобы собрать автомобиль, автомобилестроительному заводу требуются десятки различных комплектующих, многие из которых производятся не в стране, а закупаются за границей. Опасность и главная потенциальная уязвимость в такой схеме возникает только тогда, когда на рынке появляется монополист или картель, которые неизбежно и закономерно начинают действовать ради лишь своей собственной выгоды в ущерб собственному благу. Теперь он может выпускать некачественные товары и назначать на них цены как ему вздумается. Так возникает экономическая стагнация, в результате которой происходит финансовый кризис, наносящий колоссальный ущерб общественному благу и спокойствию всех граждан. Для профилактики таких негативных тенденций в обществе должны действовать определённые юридические механизмы и законы, одинаковые для всех граждан независимо от их финансового и общественного положения, которые препятствуют образованию монополий и картелей и таким образом защищают общественное благо от любых посягательств со стороны людей, которых заботит лишь личная финансовая выгода.
То же самое истинно в отношении философии, объективной истины и различных по поводу неё мнений. Когда появляется некий общественный институт или некая организация, имеющая монополию на истину (и выдающая своё мнение за истину в самой последней инстанции), возникает интеллектуальная стагнация, которая в дальнейшем со временем приводит к закономерной интеллектуальной деградации и упадку, ведущие к потере всяческих ориентиров. Подобный кризис потери всяческих ориентиров в философии мы можем наблюдать прямо сейчас. Многие мыслители – постмодернисты строили и до сих пор продолжают строить свои философские системы исходя из того предположения, что объективной истины якобы не существует, хотя спор об этом окончательно завершился ещё в глубокой античности более 2 десятков веков назад. В том числе именно поэтому, в целях широкого просвещения, я начал эту книгу с экскурса в историю развития философии.
Данная рыночная модель справедлива и применима, разумеется, лишь для тех пор, пока она не приведёт к обществу не только всеобщего потребления, но и всеобщего благоденствия. В этом случае такая экономическая конкуренция потеряет всякий смысл, так как все будут богаты и каждому члену общества всегда будет всего хватать. Поэтому всякое классовое неравенство просто исчезнет вместе с потребностью зарабатывать деньги и покупать за них необходимые товары. В философии точно такая же ситуация возникнет в тот момент, когда философская истина, воплощающая собой истинную мудрость, также станет всем открыта и полностью осмыслена так, что нам будут известны ответы на все вопросы и поэтому нам не придётся уже стремиться к тому, чтобы получить на них ответы. Такие варианты будущего могут показаться сейчас чересчур оптимистичными из-за их кажущейся утопичности. Но на деле же в таком светлом будущем нет ничего принципиально невозможного. Оно возможно, но гарантировать его, разумеется нельзя, ведь всё зависит от того, насколько мудро мы принимаем решения сейчас, то есть, иными словами, от индивидуального выбора каждого из нас сегодня и сейчас.
Как и в экономической модели, путь к пониманию объективной истины в философии заключается в столкновении различных мнений, идей и теорий, которые конкурируют друг с другом, используя не различные грязные риторические приёмы, а формальную аристотелевскую логику[3]. Так, они в различных дискуссиях, спорах и обсуждениях протаптывают себе путь к истине через тернии к звёздам точно так же, как в экономической капиталистической модели конкурирующие фирмы прокладывают себе путь к общему экономическому и общественному благу. Поэтому хотя софисты и назывались идеологическими противниками Сократа, в действительности они не были врагами, и между ними практически никогда не возникало ненависти. У них было многих общих друзей, например Перикл, построивший Парфенон, который одновременно был другом и Сократа, и Протагора, и многих других людей философии и различных искусств, и все они были свободными гражданами одного и того же полиса – Афин, который их всех объединял под предводительством Перикла. Отсюда и начинается расцвет греческой философии и культуры, символом которой стал знаменитый Парфенон, воздвигнутый на акрополе. И несмотря на то, что философские элементы были не чужды многим другим народам периода «Осевого Времени», сама философия как таковая возникла именно в Элладе, в среде древнегреческих философов.
Древнегреческие философы и поиск первоначала
Философия, конечно же, не пришла в Элладу вместе с Сократом, а началась ещё задолго до него. Первым из великих философов по праву считается Фалес Милетский (но сам термин «философ» ввёл Пифагор), который, как и многие последующие великие мыслители (например всё тот же Пифагор), был одновременно и математиком. Фалес сделал множество открытий в этой области. Так, находясь в Египте, он с помощью открытой им теоремы о подобных треугольниках сумел определить точную высоту пирамид по их тени, чем немало поразил египтян. В Элладе же Фалес прославился тем, что предсказал точную дату солнечного затмения, чем изумил уже своих соотечественников. Это затмение произошло 28 мая 585 года до н. э., и именно эту дату принято считать началом греческой, а вместе с ней – всей античной философии.