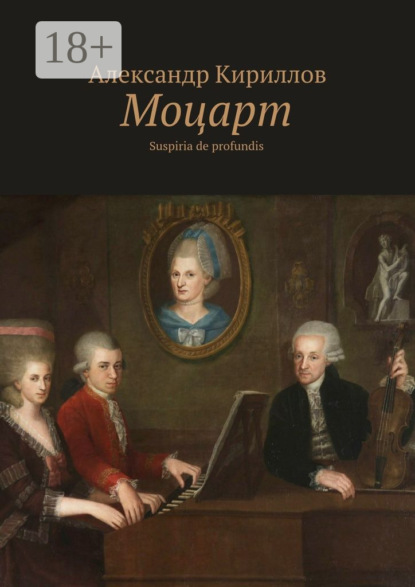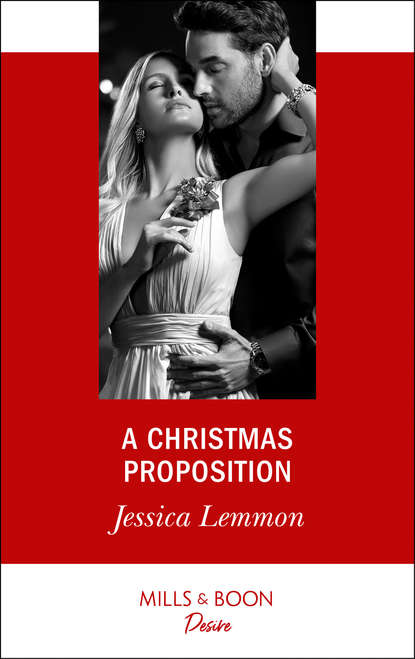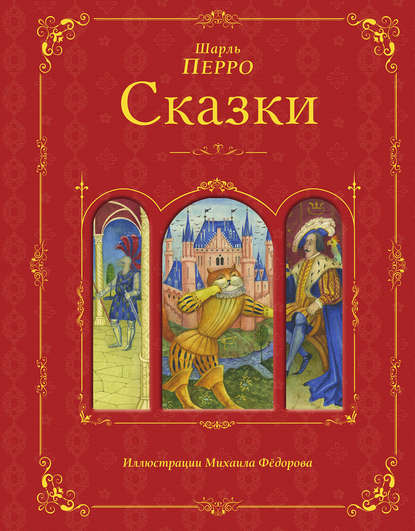- -
- 100%
- +
…Нет ничего слаще для него дорожных снов и дорóги во сне – их карету несут взмыленные лошади, льёт дождь. Мiр то, что перед глазами: Леопольд, Анна Мария, Наннерль. В карете темно, тряско, но сухо и тепло. Карета кренится, вкатываясь в лужу, и плещет фонтаном брызг. Вольфганг валится на Наннерль и щекочет её. Наннерль его отпихивает в объятья матери. Леопольд дремлет, покачиваясь, и пробуждается, чтобы дать Вольфгангу щелчка, в шутку, конечно, чтоб не шалил. Пахнет отсыревшим деревом, влажной кожей, засушенным между страницами цветком… Эти лошади опять везут в Зальцбург, в их квартиру на Ганнибалплатц – с угарными печками, бессонными ночами, ночными пожарами. С неизменно ранним пробуждением на утреннюю литургию пред светлые очи князя-архиепископа… Вольфганг – усилием воли, будто разрывая тяжкий сон, мысленно натягивает вожжи и разворачивает карету.
Колеса опять заплясали по наледи и мерзлым колдобинам.
Много раз представлял он себе эти минуты. Париж ранним зимним утром. Он разглядывает фасады домов – темные, спящие, всё еще по-ночному безмятежные. Смотрит на небо, гадает, откуда начнет светать. Вот и её дом. Хочется есть. Ноздри щекочет горьковатый аромат горячего кофе. Губы ощущают душистую плоть белого хлеба, пропитанного маслом и медом, а вкус горячего молока, яичницы с беконом доводят до обморока.
У дверей дома они останавливаются и, запрокинув головы, ждут появления солнца над соседней крышей. Он спокоен и рассудителен, но сердце… Он чувствует, что не может с ним сладить. Нельзя давать себе воли, иначе оно не выдержит, задохнется, разорвется, загнанное нетерпением.
Так долго не открывают двери, но, наконец, они в квартире. Одежда на полу, машинально сбрасиваемая ими – у порога, посреди комнаты, перед кроватью. Они погружаются в пахучее шелковистое, податливое чрево постели, согревая своими телами ледяные простыни и друг друга. Он тонет, захлебываясь от счастья, и покорно идет на дно с одним единственным желанием – не выплыть никогда. Но он всё-таки всплывает: жаркой волной его выносит к кромке одеяла, из-под которого показывается его сияющая голова.
Где он? И почему ему здесь так хорошо? Хочется тут же убедиться, что это не сон, не бред, не мираж, и он отрывает от подушки голову, ощущая, как приятно холодит затылок волглый воздух в давно нетопленой спальне. Кровать, над нею нежно розовый балдахин. Бронзовые часы с распятием (давно остановившиеся и молчавшие во все дни отсутствия хозяйки) занимают в углу столик с круглой столешницей из розового камня. У двери – кувшин синего стекла и умывальный таз. Два кресла, между ними фарфоровая ваза с восточным рисунком. Там же трюмо, пуф и распятие на стене. Теперь это и его спальня, и квартира его, и этот город, и… наблюдающая за ним, откинувшись на высокую подушку, женщина с зеленовато-розовыми глазами, неловко подвернувшая под себя узкие нежные ступни. Он трется о подушку щекой, перекатывается поближе к м-ль Женом, кладет ей на грудь голову и ищет глазами окно – за окном рассвело, там Париж…
Без этого взгляда на Зальцбург и на себя из окна дорожной кареты, увозящей его вместе с м-ль Женом в Париж, и из окна её парижской квартиры (вернее, из постели её парижской квартиры); без этой тайной и сладостной игры воображения с переселением его души из Зальцбурга на Елисейские Поля был бы немыслим тот небывалый творческий скачок, поразивший всех в концерте Es-dur. Но и сам концерт, и весь характер его сочинения были в своем роде отображением этого невидимого миру переселения души: от сборов и прощальных визитов, опевания всего, что любил, ненавидел, знал и хотел забыть, с чем прощался и никак не мог расстаться… вплоть до отпевания так печально завершившейся карьеры баловня-вундеркинда, которого Париж (праотец всех искусств) заметил, возвысил, да так высоко, что потрясенная его славою маркиза де Помпадур, усадив семилетнего мальчика на стол, с нескрываемым изумлением, как невероятную диковинку, рассматривала его в лорнет… «Сама императрица целовала меня», – с заносчивостью всеобщего любимца крикнул он маркизе, отстраненный её рукой.
Вольферль еще не знал в то время, как недолговечна людская слава, как не мог этого знать и Вольфганг в свои двадцать лет. Это знал Моцарт, болезненно ощущая едва уловимую, тонкую и ранящую, точно лезвие, «кромку конца всего». Моцарт знал, что едет по былым местам своих детских путешествий хоронить Вольферля, своё легендарное детство, свою шумную славу и освященные ею мечты, и, как апофеоз потерянного рая, свою мать. Он ехал, чтобы навсегда опустить их всех вместе в могилу вечности и первым бросить в неё горсть земли. И навсегда схоронить глубоко в сердце от чужих глаз, от «длинных носов», нечистых рук, спрятать, затаить, замуровать в душе на веки вечные, облекая, как в божественную плащаницу, в божественные звуки, и тем самым, освобождая от косной материи, не знающей Бога, не ведающей греха, но не знающей и спасения…
Лёгкую поступь Елисейских Полей чуткое ухо сразу услышит ещё в соль минорной симфонии, написанной 5 октября 1773 года, и только затем в Андантино концерта для м-ль Женом. Но начиная с этого концерта, он будет возвращаться туда постоянно. Ошеломительны эти краткие минуты переселения его души в запредельные пространства. Этот, образующийся вдруг в недрах земного, – вакуум, когда прерывается дыхание, нарушается заданный раз и навсегда биологический ритм, и всякая земная логика теряет свой смысл и силу. Только что шел он еще по твердой каменистой почве, и вдруг – ничего, пропасть, пустота, ничто, и он, переступив свой земной облик и притворив за собой дверь, устремляется в беспределы космоса, удерживаемый вне притяжения земли лишь тонкой, но прочной и искусно свитой им, нитью гармонии. Сейчас, когда гармония разрушена, растлена – нечем больше удерживаться, и мало тех, кто рискнул бы покинуть нашу грешную землю, чтобы не стать навсегда космическим мусором.
Эти «выходы в космос» оставались для него и единственно доступной формой посещения дорогих, но «гибельных» для него мест, которые инстинктивно хочется миновать, может быть, даже забыть, а лучше бы и вовсе не знать – тем слаще боль, тем нестерпимей ожидание…
ДЕТСТВО
Духмяный запах фасолевого супа с телятиной и зеленью обволакивает супницу в виде плетеной корзины, плывущую в руках Трезль, и колючей проволокой внедряется в ноздри.
Рот обжигает полная ложка густой наваристой жидкости, на глазах выступают слезы, в то время как обоняние и осязание правят бал. Но червь сосет по-прежнему, не зная сытости, с еще большей силой, а глаза всё так же жадно поглядывают на дверь. Её створки плотно закрыты, как створки устричной раковины, малейшая щель в них уже кажется спасительной. Наннерль, Анна Мария, отец, их ближайший друг Шахтнер болтают за обедом как ни в чем не бывало, а Вольфганг смотрит на дверь.
После обеда берут в руки инструменты. Наннерль поднимает крышку клавесина, а он, настраивая скрипку, чувствует у себя за спиной дверь.
Наконец Шахтнер уходит, вскрывая обе створки двери локтем и коленом (в руках у него скрипка и ноты), и за ним следом выскальзывает Вольфганг. Он тоже одевается, он весь в волнении. Все вещи уже вынесены и уложены в карету. Он торопится. Отец ворчит, требуя, чтобы Вольфганг оделся тепло. Мать повязывает теплый шарф и вскользь целует сына, а благодушный Шахтнер смешит всех, изображая, как морщится и недовольно кроит лицо Вольфганг.
Они вместе выходят из дома. Шахтнер, простившись, поднимается вверх по улице к замку, подмявшему под себя город, а Вольфганг, обойдя воображаемую карету, загруженную их дорожной поклажей, пускается в путь, следуя за каретой-призраком (сухопутным Летучим голландцем) той же дорогой, которой они уже не раз отправлялись в заграничные путешествия.
Прощай их улица Гетрайдегассе. Прощай косая тень от их дома: до мурашек студеная жарким летним утром, освежающе ласковая теплым осенним днем и мрачно черная, отдающая могильной сыростью, солнечным зимним вечером. Прощай их дом, угрюмый, подслеповатый, пронизанный низким закатным солнцем, гостеприимный как его владелец Лоренц Хагенауэр. И он тоже прощай – добряк с одутловатым, печальным лицом, вдруг начинавший суетиться (с первой упавшей из глаз слезой), оглядываться, склоняться и шарить по карманам камзола, будто потерял что-то важное, ему остро, сию секунду необходимое, посапывая и смешно подергивая головой. Прощай и Каэтан (Доминик), сердобольный и флегматичный, хозяйский сын – весь в отца…
Уже с раннего утра Доминик отирается у дверей Моцартов, пробуждаясь от невозмутимого голоса Леопольда: «хорошо, малыш, еще раз», и снова клюет носом, убаюканный певучими кантиленами скрипки. Но Доминик не ропщет, он готов томиться под дверью сколько угодно из уважения к дарованиям маленького друга, которых, увы, сам был напрочь лишен. Его бесценным даром было смирение, с которым он терпел самые необузданные выходки Вольфганга, всё ему прощал, всегда радостно откликаясь на любые его фантазии. Изловчившись, он мог схватить на лету муху и давал Вольфгангу послушать, как та вибрировала натянутой струной з-з-з у него в кулаке. Он взял за правило провожать друга в собор, где тот заставлял звучно вздыхать орган, или приносил ему свое воздушное ружье, чтобы пострелять в нарисованную мишень. Чувствительный Вольферль завел обычай целоваться с ним при встрече, и безутешно плакал, если Доминик болел, и они были вынуждены, пусть даже на короткое время, разлучаться.
Днем занятия кончались. Вольфганг хватал за руку осоловевшего под дверью Доминика, они бежали на задворки ловить мотыльков, порхавших над медовыми россыпями желтых одуванчиков. Потом прятали свою добычу в жестяную банку с круглой тугой крышкой, которую всякий раз, чтобы открыть, приходилось поддевать подобранной с земли щепкой. Но еще большую радость, чем охота, им доставляли минуты, когда они, наполнив банку, открывали её, позволяя бабочкам выпорхнуть наружу белым шумным роем. Почему-то Вольфганга это возбуждало до такой степени, что он принимался кричать и носиться по двору, взмахивая руками и визжа от восторга, невольно заражая своей энергией и неистовством Доминика, конфузливо улыбавшегося.
Задворки тем и притягательны, что выпадают из условностей светской жизни. Это мир изгоев, культурная целина, мир параллельный официозу. Это забытая земля, потерянный рай, сон среди бела дня, запретная зона, беспредел, черная дыра, где всё можно, всё заманчиво, всё влечет куда-то.
Набежавший порыв ветра подхватывал под руку и тянул за собой, исповедуясь на ухо теплым щекочущим дыханием. Солнце, жарко коснувшись лица, усаживалось напротив, через пестреющую одуванчиками лужайку; шорохи сухих стеблей, дразнящее лопотанье листвы, шум экипажей, приправленный цокотом копыт, будто окликами, – приветствовали, вовлекая в круг неспешной задушевной беседы… И мне слышится, как Вольферль, скучая в компании взрослых или выплакавшись после обидного наказания, вдруг вскакивал, оповестив окружающих: «пойду кузнечиков ловить», – и беззаботно на пару с Домиником отправлялся на задворки.
Не знаю, как поступали в этом случае Леопольд и Анна Мария, но если и оставляли без внимания побег малышей, благодарные любой представившейся им минутке побыть вдвоем – их можно понять. Меня же сразу тянуло к окну, откуда я, хоть издали, оставаясь незамеченным, мог наблюдать за Вольфгангом.
Его голова в белом паричке с косицей, перехваченной черной лентой, едва виднелась из высоких цветущих зарослей. Я так и вижу его, замершим среди этих «джунглей», и пугливо, настороженно озирающемся, словно заблудившийся в чаще олененок. Всё вокруг чужое, устрашающее, но и такое интересное и манящее к себе, что глаза разбегаются, пока о н о не начинало звучать. Набегал какой-то неясный шелест, изнутри затопляло невнятное бормотание. Слов не разобрать, но интонации живые, со вздохами, сердечными сбоями, ритмическими фигурациями: уже не проза, но и не стихи, и не слова вовсе, а чистые звуки, глубже слов и многозначнее стихов. Музыка – хрупкая, как хрупки позвонки, едва удерживавшие большую, не по фигуре, голову Вольфганга.
Маленький Вольфганг, я наблюдаю за тобой, но ты меня не видишь. И потому ты открыт и беззащитен передо мной. Мне кажется, я начинаю тебя понимать, слышать твой шепот, угадывать твои мысли. Тебе плохо сейчас. И я ощущаю твою детскую боль – короткую, безутешную, тут же тобой забытую. Я удивляюсь твоей выдержке, твоей стойкости, твоему жизнелюбию – ведь ты совсем одинок, малыш. Ни Анна Мария, которую ты очень любишь, не ставя ни в грош; ни отец, перед которым ты преклоняешься, но боишься до нервных судорог; ни Наннерль, с которой живешь душа в душу, но остерегаешься пуще всех как папину дочку – не выслушают тебя и не поймут. Ведь они любят своего Вольферля, но не тебя. Любит тебя Доминик (безответный и отзывчивый увалень), у него нет на тебя прав. Вы сходитесь к концу дня и коротаете в сбивчивых мальчишеских беседах ранние зимние сумерки, укрывшись под сводами Св. Петра. Идет служба. Глядят с потолка мученики веры, словно неясные отражения в овальных зеркалах. Воин в металлическом шлеме обернулся и ищет кого-то глазами, будто это они, Вольфганг и Доминик, окликнули его и отвлекли от экзекуции своим перешептыванием. Дети затихают, звучит колокольчик, прихожане, опустившись на колени, беззвучно молятся. Вместе со всеми молятся и они, чтобы не оставил их Боженька. Вольфганг, время от времени вывернув голову, зыркает одним глазком на уставившегося с потолка воина и, встретившись с ним взглядом, отводит глаза.
Серебристый вздрог колокольчика. Время останавливается, внешняя жизнь замирает и только крепкий спиртовóй дух ошкуренного дерева напоминает о ней. Точно лезвием, истончённым до комариного писка, вдруг раскроили ощетинившуюся рецепторами полость – от ноздрей до надбровных дуг, – сунув головы мальчиков в бабушкин буфет. Такой дух у церковной скамьи, рядом с которой молится, стоя на коленях, Вольфганг. Шелестит за порогом собора дождь, – нет слов, нет мыслей, нет чувств. И вдруг радость – жаркий, ошпаривший с ног до головы – с в е т: Он здесь, ты замечен, прощен, обласкан, напутствован и отпущен.
Прихожане поют. Их слабый нестройный хор, как искру в горне, раздувают мощные легкие органа. Доминик не слышит себя, но слышит тонкий дрожащий фальцет Вольфганга, общий фальшивый хор прихожан и высокий мужской голос. Красный от натуги незнакомец в черном плаще с широкополой шляпой в руках «кричит, как в кресле у зубодера», выпучив налитые кровью глаза, «голосом сухим, как доска», со скрытой святотатственной усмешкой.
Но Вольфганг, пересмешник, обычно скорый на острое словцо – молчит, глядя на незнакомца. Этот взгляд друга Доминик хорошо знает. Так смотрят на пожарище, в темноту пещеры или из окна чердака, готовясь броситься вниз.
Доминик, присел на низкую балку чердака, обросшую в палец толщиной жирной пылью, и, дергая Вольфганга за рукав, просит: расскажи, и тот рассказывает…
Император фальшиво играл на скрипке с Вагензайлeм.11 Вольфгангу стало жаль беднягу, тот очень старался, и, чтобы приободрить императора, Вольфганг крикнул ему: «Браво!» Потом играл Вольфганг, а Вагензайль собственноручно перелистывал ему страницы нотной тетради. «Он сносный композитор, но в музыке смыслит всё же больше императора»… Еще Вольфганг гордился золотыми пряжками на туфлях, которые ему подарили. Кто? Он уже не помнит. Шёнбрунн холодный. Там не побегаешь в удовольствие – скользко, и всем ты нужен, то просят играть на скрипке, то на клавесине, закрыв клавиши тряпицей, то импровизировать, то сочинять. И все пристают с разговорами. Но однажды, он, улучив минуту, погнался по пустым залам дворца за юной эрцгерцогиней Марией Антонией, маленькой ломакой, щиплющейся больно, как гусыня. Загнал её в угол, и, переводя дыхание, долго рассматривал её раскрасневшееся, быстро-быстро моргающее лицо, – такое маленькое, что, когда она морщилась, оно превращалось в кулачок. «Sind Sie prinzessin?» Локоны её растрепались, под носом влажно блестело. Она резким движением утерла нос, хватая ртом воздух, чтобы отдышаться. «Вы славная, – сказал он, – я хочу на вас жениться». Её глаза расширились, она перестала шмыгать носом, и Вольфганг поцеловал её в приоткрытый влажный рот, чуть солоноватый и сладкий. Она сорвала с него парик и принялась больно дергать его за волосы. Он отчаянно сопротивлялся и упал. Он слышал, как бежала она по соседнему залу, пощелкивая туфельками и скользя по гладким паркетинам. Вольфганг сидел на полу – один, в таинственной немоте зала, словно в белоснежной лилии посреди зеркального пруда, тихой лунной ночью…
Доминик был готов его слушать часами, отирая чердачную пыль, забыв о еде, о строго-настрого заказанном отцом опоздании на ужин. Он дает Вольфгангу клятвенное обещание не спускать глаз с маленькой Луизы Робиниг, когда тот уедет в очередной раз из Зальцбурга, и тут же обо всём ему писать в Италию. Особенно быть внимательным к темным кругам у неё под глазами – первому и самому верному признаку измены…
И они шепчутся до темноты. И примолкнув, слушают, как ворчливо, будто старик, бубнит себе под нос, постукивает по крыше пространный дождь. Выкрикнет три-четыре слова громко и отчетливо и опять то же вялое, сонное, нечленораздельное пришепётывание.
И вот они уже спешат домой, поднимая клубы пыли, перешагивая балки и всякую чердачную рухлядь, к смутно угадываемой на белой стене дощатой двери. Захлопнув её за собой, спускаются с небес на землю в свои квартиры: к яркому свету канделябров, к домашним разговорам и накрытому к ужину столу – в суету сует. И все им тут кажутся чудными, и всё не так: слишком яркий свет, слишком громкий разговор, слишком много беготни, слов. Еще оглушенные, еще остраненные, еще не от мира сего, – смотрят они на домашних, трудно, нехотя втягиваясь в хорошо им знакомую жизнь.
В квартире Моцартов, сидя за клавесином, стучит по клавишам одним пальцем Леопольд. Друг дома Шахтнер держит в руках тромбон. Они оглядывается на Вольфганга, и, о чем-то споря между собой, встают со своих мест. Леопольд, изящный, неизменно опрятный, будто весь вылизанный с ног до головы, улыбается сыну и к чему-то его энергично призывает. Шахтнер, простолюдин во всём: в грубоватых остротах и в неуемном хохоте с похлопыванием себя по ляжкам, смешной и нелепый, в кургузом одеянии и в штопаных белых чулках, обтянувших его треугольные каменные икры, – добро подмигивает Вольфгангу, как бы извиняясь. И вдруг поднимает тромбон, прижимается губами к мундштуку и двигается с рычащим раструбом на обезумевшего от ужаса Вольфганга. Медно поблескивая, раструб ревет, ширится, надвигаясь на Вольфганга, и раздувает ему голову, как воздушный шар, который вот-вот готов лопнуть, но всё разбухает, дуется, звенит от напряжения… Неосторожный кикс – и он всё-таки лопается.
Этот вечер навсегда запал ему в душу безотчетным страхом и часто давал о себе знать из глубин подсознания. Казалось, что в нём было особенного. Накрытый к ужину стол, уставленный посудой из толстой белой керамики, баночками со специями, бокалами для вина. Трезль – с обжаренной уткой на блюде. Синие окна за шелковыми занавесками. Наннерль на кушетке, забавлявшаяся с собственной ладонью, порхавшей у неё перед глазами подобно стрекозе. Анна Мария, время от времени попадавшая в поле его зрения, а в углу – у клавесина с канделябром – отец и Шахтнер. Довольное лицо Леопольда, мозолистые кисти Шахтнера, сжимавшие тромбон припухлыми на суставах пальцами. Старые друзья сладко улыбались, перемигиваясь, и с двух сторон надвигались на Вольфганга, выставив перед собой, словно мушкет, длинный ствол тромбона. Медная воронка поблескивала, слепила глаза и втягивала в себя дрожащую душу Вольфганга. Он сопротивлялся, затыкал уши, пятился… Этот сверкающий дулом тромбон и его утробно трубящий, разъяренный рык – так и остались для Вольфганга символом надвигающейся катастрофы, насилия и смерти. Во всяком случае, так звучит он для нас в его операх «Идоменей» и «Дон Жуан».
Успокоился малыш только у Хагенауэрoв. Его забрал к себе добрый папаша Лоренц, заглянувший к Моцартам по щепетильному денежному вопросу. Вольфгангу постелили в детской рядом с Домиником. Не расставаться с другом, болтать с ним до утра было его давнишней мечтой. И папаша Лоренц, печальный толстяк, чем-то похожий на упитанного индюка, бесцельно слоняющегося по двору, судьба которого предрешена, стоял в дверях и желал им доброй ночи, доставая из обшлага домашнего халата батистовый платок.
С тем же платком, но уже осушая им глаза, стоял он в дверях дома на Гетрайдегассе 9, провожая Моцартов в очередное заграничное путешествие, снабдив их на дорогу деньгами и заемными письмами. Из-за его тучной фигуры, уцепившись рукой за отцовскую пуговицу, выглядывал Доминик, и крутил эту пуговицу молча, с ожесточением, пока не отрывал её.
По неведомым для нас причинам Бог не терпел возле Вольфганга самых близких ему друзей и решительно отбирал их у него. За что налагалась такая жестокая епитимья – Бог весть? Но их круг сужался, а обзаводиться новыми друзьями уже не хватало душевных сил. Доминик был первым, утрату которого ему пришлось пережить. Это была не смерть, но вечная разлука. Доминик ушел в монастырь Св. Петра послушником. За глухими стенами вместе с ним укрылся и его Вольфганг, их Зальцбург. Представить себе дом папаши Лоренца без Доминика (и не только дом, но и весь Зальцбург) было для Вольфганга равносильно смерти друга. Их шушуканья в соборе дождливыми холодными вечерами, их откровения на чердаке и длительные прогулки по городу, особенно частые перед отъездом Вольфганга за границу – вот их Зальцбург. В те годы Доминик был его вторым «я». Он крепко-накрепко связывал его невидимой духовной нитью с Зальцбургом. И вдруг всё разом оборвалось. «Вольфганг плакал, когда я читал ему это письмо, и на мой вопрос о причине слез, он ответил, что испытывает боль, так как думает, что никогда больше не увидит его. Нам с трудом удалось вывести сына из этого заблуждения… Вернувшись в Зальцбург, он намерен тут же ехать в монастырь Св. Петра и просить Каэтана [Доминика], чтобы тот поймал для него муху и отправился вместе с ним стрелять по рисованной мишени». Это были его последние отчаянные, еще темные, детские слёзы.
С той самой поры, глядя весной на цыплячью нежность вылупившегося из почки крохотного листика, Вольфганг инстинктивно жалел его – он ведь не доживет до осени и, может быть, уже в начале лета огрубеет, пожелтеет, увянет и отвалится от ветки, став изгоем, так и не дождавшись осеннего листопада, этой естественной поры, когда и смерть красна; его будут топтать до срока, поддевать носками башмаков, под шумящими кронами всё такой же свежей, никогда не вянущей (как ему будет казаться с земли) ярко-зеленой листвы, под которой он будет сохнуть, буреть, пока совсем не превратится в прах.
На всё есть два взгляда – с земли и с небес. Их смена и есть переселение души из этого в лучший из миров. Для Вольфганга они оба стали доступны уже здесь на земле. Отсюда «черствость» его души, которая видит не только участок дороги, но и весь путь. Интуитивно он знает, нельзя приспособиться к тому, что не имеет времени, что есть бессмертие, как нельзя приспособиться к Богу. Всякая внешняя ломка чего бы то ни было – музыкальной формы, взаимоотношений с людьми, образа жизни или государственного устройства (пример его глухоты к французской революции) ему чужда. Его новаторство не в изобретательстве, а в состоянии души. Время уходит только на запись, он сразу знает любое своё творение целиком. Он лишен радости Й. Гайдна усердно кружить по непредсказуемому лабиринту разработок, делая по ходу неожиданные открытия. Его разработки не развитие темы в общепринятом смысле, а сама тема, увиденная во всей своей сложности и полноте. Его ансамбли – не диалоги страстей и мыслей героев, а монологи их судеб.
Говорят, Шостакович был наделен той же способностью слышать свои сочинения не в беглых набросках, а уже завершенными, во всей своей целостности. Но в отличие от Моцарта он был безбожником или, скажем, не пришел к Богу, не дошел до Него, не услышал Его зова. Потому таким невыносимым для него был взгляд на себя из вечности, настолько невыносимым, что лишь в искаженном, сатирическом, пародийном виде он мог еще казаться ему терпимым. Всплески натужной, почти шутовской веселости, бравурности, ёрничества, отчаянного протеста перемежаются в его музыке с приливами сильнейшей душевной депрессии, холодной и мутной меланхолии.
Не миновала сия «чаша» и Вольфганга. Но она была не с цикутой умерщвляющей, как у Шостаковича, сулящей мрак души, небытие, тлен. В «чаше» у Моцарта, как в Св. Потире, кровь Господня, животворная, бальзам вечной жизни. Не старухой с острой косой явится к нему смерть, а Божьей матерью, «Нечаянной Радостью», благословляющей и утешающей, что уже завтра он будет с Ними. А пока отнимались у него дýши, к которым он особенно привязывался; и нужда заставляла его раз за разом съезжать с новой квартиры, едва обжитой. И не случайно ему было отказано в счастье взаимной любви, а жизнь проходила в придорожных гостиницах и почтовых каретах в поисках надежного заработка и постоянного пристанища. «Доколе Я буду с вами?» – вслед за Господом мог бы себе позволить сказать он, вечно кочующий с места на место, как кочуют цыгане.