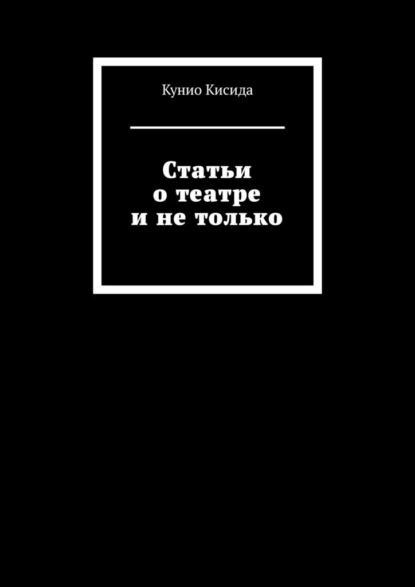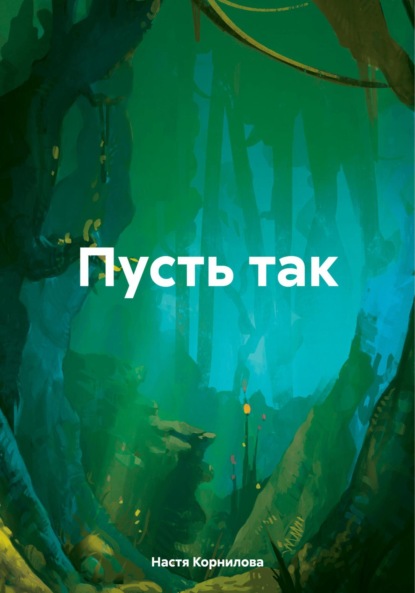- -
- 100%
- +

Переводчик Павел Соколов
Составитель Павел Соколов
© Кунио Кисида, 2025
© Павел Соколов, перевод, 2025
© Павел Соколов, составитель, 2025
ISBN 978-5-0065-9578-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Кисида Кунио (2 ноября 1890— 5 марта 1954) – одна из ключевых фигур японской литературы и театра XX века. Драматург, прозаик, переводчик, театральный режиссёр и критик, он стоял у истоков модернизации японской сцены, соединяя западные театральные традиции с национальной эстетикой. Его творчество – это мост между эпохами Мэйдзи и Тайсё и уже послевоенной Японией, между европейским влиянием и поиском собственного культурного голоса.
Настоящий сборник статей посвящён многогранному наследию Кисиды как критика, интеллектуала и колумниста. В своих работах он размышлял о природе искусства, о диалоге Востока и Запада, о судьбе современного человека.
Особое внимание в книге уделено его связям с русской и французской культурой – от увлечения Чеховым и Горьким до переводов Мольера и Жироду. Кисида не просто заимствовал западные идеи, но переосмыслил их, создавая уникальный синтез, который повлиял на всю японскую драматургию. Неудвительно, что самая престижная премия по драматургии названа в его честь. Без него сингэки или новая драма не состоялась бы.
Теперь, когда его работы стали частью общественного достояния, остаётся надеяться, что наследие этого выдающегося человека будет переведено и издано на русском языке. Особенно хочется увидеть на сценах его пьесы.
В этом небольшом сборнике читатель может познакомиться с его статьями, критикой и эссе, написанными с 1924 по 1954 год.
Павел СоколовСлова, слова, слова
Не стоит представлять театр как зрелище для «масс».
Может существовать и «театр для себя». И ничего страшного, если будет пьеса «неинтересная другим».
Прежде всего, я хочу писать пьесы, про которые можно сказать: «Это – театр».
Хочу писать и такие, про которые скажут: «И это – театр».
А вот смогу ли я за всю жизнь создать пьесу, про которую скажут: «Вот это – театр»?
Я пишу пьесы не для того, чтобы «что-то сказать».
Я «что-то говорю» ради того, чтобы написать пьесу.
Не сердитесь. Чем это отличается от того, как вы пишете критику? Ах, всё-таки отличается?
Слово «драматично» стало таким же расхожим, как и слово «прекрасно».
Но те «особые переживания», которые все называют «драматичными», – вовсе не обязательно «переживания художественные».
И пьесы, живущие за счёт таких переживаний, я не хочу называть «театром для себя».
Осознать, что ты не способен писать пьесы, – не намного сложнее, чем понять, что ты не разбираешься в искусстве.
Я не стремлюсь писать пьесы о чём попало.
Но даже если мне опостылеет ходить в театр, я не перестану писать для него.
Когда-то я пробовал сочинять песни:
«Сколько ж этот мужчина получает в месяц?..»
«И лекции профессора слушал тоже…»
Понял – песни не моё.
Захотев писать пьесы, я начал ходить в театр.
И даже заявил, что люблю театр.
Если говорить о «самом современном» – ну, хоть ружьё, к примеру.
«Такая штука мне не нужна».
«Я не спрашиваю, нужна она тебе или нет!»
Радость от просмотра пьесы в большинстве случаев уже заключена в самом акте её написания.
«Эй, да разве ты не можешь писать о Японии?» – возмущённо говорит один приятель.
«Сейчас – не могу».
«Врёшь!» – бросает другой. «Да разве не о Японии ты пишешь?»
«Наверное, так».
Есть ли актёры, способные вдохновить автора?
Есть ли авторы, способные раскрыть актёров?
Сначала должны появиться актёры…
– Нет, сначала автор!
Заткнитесь, заткнитесь. Оба, кланяйтесь изящнее!
«Пьесы для чтения» – не более чем утешение несчастного драматурга.
А несчастный драматург – это тот, кого покинули актёры.
Хотя кто знает: быть может, сегодняшняя «пьеса для чтения» завтра станет блестящим «сценическим произведением».
Пример: «Шутки любви не терпят».
Можно считать, что «сегодняшняя сцена» – театр, актёры – созданы для «вчерашних пьес».
Есть люди, которые «не умеют читать пьесы» —
точно так же, как есть те, кто «не умеет читать ноты».
А «пьесы, которые может прочесть кто угодно», как правило, «невыносимы для просмотра».
Апрель 1924 годаВоспоминания и впечатления о «Вишнёвом саде»
В конце 1922 года труппа Московского Художественного театра впервые посетила Париж. На сцене Théâtre des Champs-Élysées они открыли свой гастрольный сезон, выбрав несколько исконно русских произведений из своего блистательного репертуара.
Среди них был и «Вишнёвый сад».
Я не знаю русского языка. Поэтому трижды перечитал французский перевод пьесы, выучил наизусть реплики каждого персонажа. Особенно старался запечатлеть в сознании общее настроение пьесы, атмосферу каждой сцены, вспышки тонкого остроумия и волны психологической поэзии.
Разумеется, все персонажи жили в моём сердце как полноценные, завершённые образы.
Мы, японцы, понимаем русских – их жизнь, их чувства, особенно их «мечты» – лучше, чем многие французы.
Накануне премьеры Станиславский на приёме в честь труппы, отвечая на приветствия Антуана (основателя Свободного театра) и Копо (руководителя Théâtre du Vieux-Colombier), сказал:
«Я уверен, что даже те, кто не знает русского языка, поймут наши спектакли на семьдесят процентов. Ведь мы всегда стремимся играть на универсальном языке, поверх слов».
Мне это показалось преувеличением. Я и сейчас так думаю.
Но «Вишнёвый сад» – с учётом моей подготовки – я действительно понял процентов на семьдесят. Ведь редко бывает, чтобы увиденный спектакль не разрушил образ прочитанной пьесы.
Более того – я увидел потрясающую Раневскую. В каждом движении её юбки, в том, как она разворачивает платок, пьёт кофе, особенно – как наклоняет голову и поворачивает плечи – во всём этом читалась вся её суть. Слёзы г-жи Книппер-Чеховой были самой поэзией упадка и расставания.
Гаев – несомненно, сентиментальный человек. Но его сентиментальность никогда не выплёскивается наружу. Его переживания не совсем пусты, но часто механичны. В нём нет мрачности – он беззаботен. Но как дудочка-игрушка – вечно фальшивит. Фальшивит, но не наигранно. Скорее, очень естественно. Широкий, простой, основательный стиль Станиславского идеально подошёл к этой роли.
Лопахин – добродушный обыватель. Но это не мешает ему иметь принципы – принципы, делающие его умным. Умным – но не интеллигентом. В этом и есть прелесть этого персонажа. Среди врачей, учёных, адвокатов тоже есть обыватели. Особенно среди так называемых дипломированных бизнесменов. Нельзя становиться такими. Чтобы понять разницу – нужно увидеть Лопахина в исполнении Леонидова.
Персонажи «Вишнёвого сада» (да и все чеховские герои) постоянно ведут диалог – то с окружающими, то с собой, а часто – со своими фантомами… Если не уметь слышать тишину, их слова покажутся пустыми.
И если режиссёру удастся полностью воплотить эти фантомы – постановка будет успешной.
Перечислять впечатления от каждого образа сейчас, пожалуй, излишне. Доверяя французскому переводу и полагаясь на собственное умение читать пьесы, могу сказать: «Вишнёвый сад» МХТ запечатлелся в моём сознании с ещё большим блеском и глубиной, чем мой первоначальный образ.
Нельзя сказать, что другие театры, ставя Чехова, обязательно должны брать за образец МХТ. Это было бы глупо. У Питоева, например, свои «Чайка» и «Дядя Ваня». Если его постановки уступают станиславским – то вовсе не из-за отказа подражать учителю.
Даже Епиходов в исполнении Москвина – разве можно представить себе более совершенного Епиходова?
Из-за трудностей гастролей декорации Гремиславского (по эскизам Симова и Климова) не произвели на меня безусловного восхищения.
Если бы я знал русский… да, если бы знал – наверняка заметил бы больше изъянов.
И – кто знает – возможно, нашёл бы ещё больше достоинств…
Случилось так (прошу прощения за отступление – тема требует этого), что японская «Ассоциация нового театра» поставила «Вишнёвый сад» на сцене импровизированного театра Imperial Hotel.
Я пошёл на спектакль без чьих-либо просьб или рекомендаций.
Занавес открылся – как некогда в Théâtre des Champs-Élysées. Только вместо белой чайки на нём был другой рисунок.
Без иронии, без лести скажу: мне очень понравилась эта версия.
Постановщики, я уверен, знали – по крайней мере, в какой-то степени изучали – как выглядит «Вишнёвый сад» в исполнении МХТ. Это достойный подход. Не поймите меня неправильно: вопрос не в подражании.
Подражать можно. Если не способен на большее – честно подражай. Хотя подражать – не так-то просто.
Для других пьес это может и неважно, но ждать по-настоящему оригинальной постановки «Вишнёвого сада» от кого бы то ни было – неразумно.
Если бы «Ассоциация нового театра» попыталась превзойти МХТ или хотя бы предложить иной подход – это, скорее всего, закончилось бы провалом.
Так можно ли сказать, что «Ассоциация» добилась успеха? Погодите.
Не потерпеть неудачу – ещё не значит преуспеть. Однако в некоторых случаях избежать провала – ценнее, значительнее и почётнее, чем добиться успеха.
Такие театры нельзя оценивать, не думая об их будущем.
Именно поэтому слова «у них нет будущего» становятся для них смертельным приговором.
Кто-то, посмотрев этот «Вишнёвый сад», может сказать: «Ассоциация» потерпела неудачу. Но не более того.
Я верю в руководителей этой труппы. Пусть они отбросят фаворитизм и жажду славы, начнут с чистого листа – и удовлетворят «жажду существования». В сегодняшней Японии это возможно.
1 июня 1924 годаФантазия
Художник, который слишком поэт, чтобы быть реалистом, и слишком философ, чтобы быть романтиком, – если он принимает свою собственную жизнь, то, вероятно, изберёт путь любителя фантазии. Это умение умеренно раскрашивать реальность авторским вдохновением. Это придание чувственной достоверности нелогичным явлениям. Это игнорирование необходимости, чтобы ощутить новый импульс жизни. Фантазия всегда – дитя «светлого сомнения».
А «светлое сомнение» рождено «ясным разумом».
«Ясный разум», вероятно, любил улыбку пессимиста больше, чем слёзы оптимиста. Фантазия не всегда совпадает с поэзией. Однако во многих случаях, соединяясь с эмоциональным подъёмом героев, она придаёт произведению лирическое звучание.
Фантазия не всегда комична, однако часто, переплетаясь с характерными несовершенствами или психологическими механизмами персонажей, придаёт произведению оттенок юмора. Фантазия отличается от простой мечты тем, что глаза автора всегда пробуждены от «сна». Карикатура – это субъективизация объекта (если позволительно такое выражение). Карикатурист верит в реальность, по крайней мере, делает акцент на её наблюдении. Его улыбка – улыбка верующего.
Фантазия же – объективизация субъективного, и фантазирующий сомневается в реальности. По крайней мере, он не забывает об «игре воображения». Поэтому его улыбка – улыбка неверующего. Редко кто в юные годы понимает фантазию. Многие гении лишь в зрелом возрасте становились её лучшими мастерами. Шекспир, Мольер, Гёте, Гюго – все они таковы. Мюссе, Ибсен и Ростан уже в расцвете лет были яркими фантазерами. Фантазия – один из самых недостающих элементов в современной японской литературе.
Май 1925 годаКризис нового театра
После Кантского землетрясения 1923 года движение сингэки воспрянуло с небывалой силой. Но сейчас, как мне кажется, его развитие застопорилось. Оно продолжается, но не движется вперёд.
Конечно, можно сказать, что за два-три года невозможно добиться заметного прогресса. Но почему же тогда не видно даже признаков движения?
Я не согласен с теми, кто утверждает, что сценическое совершенство сингэки должно опираться исключительно на прочный экономический фундамент. Не верю я и в то, что оно рождается лишь из энтузиазма отдельных людей. И уж тем более не думаю, что всё решают содержание пьес или режиссёрские приёмы.
Я убеждён: подобно тому, как появление одного гениального писателя может озарить целую эпоху, современный японский театр сингэки обретёт новую притягательность – и, возможно, окончательно – лишь с рождением одного… нет, даже нескольких настоящих актёров.
Но актёру нужен не только талант. Ему необходимы инструменты для его раскрытия. Если он изберёт ложный путь в своём становлении, его дар иссохнет впустую.
Почему у них нет голоса?
Почему они так неуклюже двигаются?
Почему они так невнимательны к звучанию речи?
Почему они так глухи к смыслу слов?
Почему они не чувствуют текст?
Почему они не умеют выстраивать образ?
Почему у них нет даже начального понимания сценической поэзии и пластики?
Почему они такие… ленивые? Почему они ничего не знают?!
Я не мог бы сказать всё это, если бы не был драматургом. Иначе меня сочли бы невыносимо высокомерным.
И я обращаюсь не к тем, с кем работаю, не к тем немногим труппам, что искренне и упорно исследуют путь сингэки. Нет, я отвечаю на насмешки, которые звучат сегодня в адрес так называемого «нового театра».
«Почему вы преграждаете путь, по которому пытаются идти актёры сингэки?»
Я задаю этот вопрос, хотя и не жду ответа.
Теперь наша главная задача – воспитание актёров нового театра. Но перспективы туманны, словно выращивание цветов под открытым небом…
Небо! Спаси сингэки от кризиса!
5 апреля 1927 годаМолодым людям, мечтающим стать драматургами
Смешно, когда человек, не уверенный в своём праве называться драматургом, берётся поучать других. Но под прикрытием редакции, предложившей мне эту тему, я всё же изложу свои мысли.
Главный вопрос: что значит «стать драматургом»?
Один критик утверждал, что «драматург должен родиться драматургом». В этом он видел отличие от профессий вроде электрика или даже романиста, где всё решает обучение.
Но здесь кроется парадокс. Если склониться перед «врождённым талантом», остаётся лишь сложить руки и ждать смерти. Думаю, этот критик намеренно выделил драматургов, чтобы высмеять моду, при которой «драматургом может стать каждый».
Другой разделяет в драматургии: art и métier (искусство и ремесло). Первое – вдохновение, второе – «техническое исполнение». Или: первое зависит от врождённого дара, второе – от профессионального навыка.
Такой подход позволяет оценить драматургов прошлого и настоящего. А фраза «драматургом нужно родиться» лишь подчёркивает: мастерство без искусства – ещё не драматургия.
Но что же тогда составляет суть подлинного драматургического art? Как оно рождается? Как проявляется в произведениях? Если моя задача – дать ответ, я в замешательстве. Я не знаю. И, вероятно, никто не знает.
Трактаты по драматургии касаются лишь métier, но не art. Они подобны учебникам грамматики – с той разницей, что грамматика допускает исключения, а драматургия – нет.
Но разве искусство – не мастерство создавать исключения? В драматургии нужно искать именно их. Все великие пьесы содержат нечто исключительное, что и обеспечивает им бессмертие. Это всё, что я пока понимаю. И вот что хочу посоветовать начинающим драматургам (и драматургиням).
Итак, три совета.
Анализируйте
Читая или смотря пьесы, изучайте не только их идеи и форму, но и то, как сочетание art и métier создаёт очарование. Конечно, нельзя чётко разделить: «здесь искусство, а здесь ремесло». Наибольшая сила – в их слиянии. Вникая в это, вы почувствуете, как «ум» и «рука» автора передаются вам.
Отдельно о «технике». В японской литературе «техничность» часто ругают, но métier – не просто приём. Некоторые техники достойны именоваться art.
Изучайте различные жанры
Оценивая пьесы, ищите их особость в контексте литературной эволюции.
Например, трагедию и комедию нельзя мерить одной меркой. Бессмысленно одинаково судить социальную драму и мистическую. Но у нас именно так и делают – требуя от комедии серьёзности, а от мистики – революционности.
Я не против смешения жанров (трагикомедия, мистическая сатира и т. д.). Но критиковать их нужно с учётом традиции.
Смотрите через призму жизни
«Смотрите на пьесу не через сцену, а через саму жизнь».
Настоящую красоту драматургии можно разглядеть только глазами, видевшими саму жизнь. Это основа писательского роста.
Драматург, ограничивающий воображение сценой, глуп. Кто-то скажет: «Но пьесу же нужно ставить!» Однако сегодняшние театральные рамки – не критерий. То, что невозможно сегодня, станет возможным завтра.
Но я не об этом. Драматург не должен «помещать жизнь на сцену» – он должен «вынести сцену в жизнь».
«Жизнь» – не обыденная реальность, а то, что видит только «взгляд писателя», – жизнь за гранью реальности и мечты, жизнь «какой она могла бы быть».
Потому что, «помещая жизнь на сцену», мы часто лишаем её соков. Персонажи забывают своё прошлое, автор нервничает, а зрителям неловко.
«Вынесите сцену в жизнь» – и жизнь расцветёт, как полевой цветок. Персонажи «играют», не осознавая этого. А автор спокойно наблюдает вместе со зрителями.
На этом остановимся. Десять страниц – десять минут чтения. Если кто-то постигнет «как стать драматургом» за десять минут, я сам у него поучусь.
1 мая 1928 годаБудущее театра кабуки
То, что кабуки сегодня формирует основу японского театра, нелепо и противоестественно со всех точек зрения. Однако его выживание – не чья-то вина, а следствие зрелищности, литературной простоты и наследственного мастерства актёров, которые обеспечивают ему покровительство капитала и любовь консервативной публики.
Я вовсе не считаю, что кабуки должны сменить спектакли по пьесам сингэки.. Последние – лишь свежие спектакли, динамичные и доступные, воплощённые красивыми, смелыми, энергичными и умными актёрами. Иными словами – современная массовая драма.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.