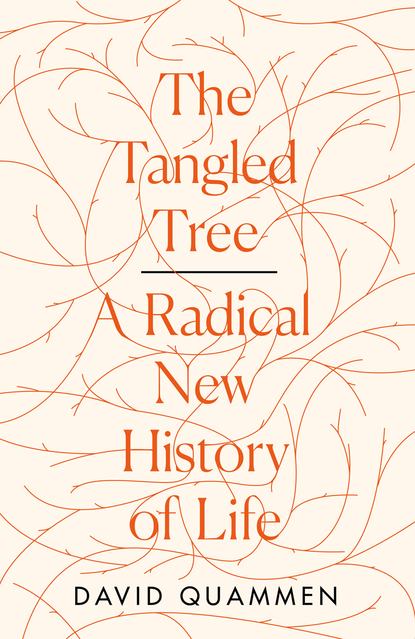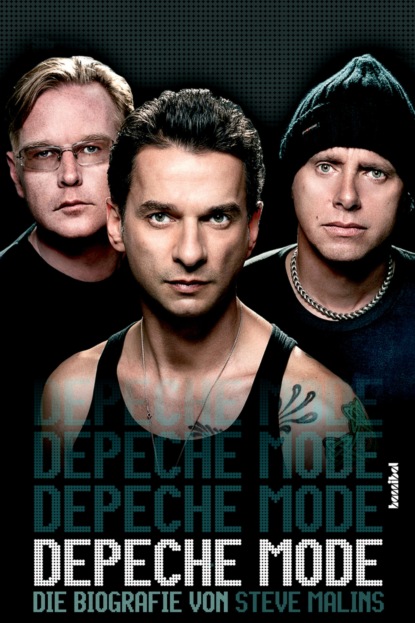Сладкая штучка

- -
- 100%
- +
Устроившись на скамье, расстегиваю пальто и оглядываюсь по сторонам. В зале прощаний человек двести, может даже больше. Люди передают друг другу бумажные салфетки, некоторые достают из карманов носовые платки; атмосфера несколько напряженная, как будто все как один задержали дыхание.
На деревянном постаменте бок о бок стоят два гроба, латунные ручки и прочая фурнитура поблескивают в лучах холодного зимнего солнца. Я с любопытством их рассматриваю. Гробы, на мой взгляд, всегда какие-то слишком уж большие, прямо как ладьи викингов.
Память подкидывает воспоминание, одно из очень немногих, что сохранились у меня о жизни в Чарнел-хаусе.
Иногда, если я слишком уж громко реагировала на свои ночные кошмары и разные страхи, мама проскальзывала ко мне в комнату и садилась на край кровати. А когда она начинала меня успокаивать, голос ее звучал приглушенно, как из могилы.
Тише-тише, Беккет. Брось ты свои глупости. Это все твое воображение.
– Мисс Райан? – говорит кто-то возле самого моего уха.
– Господи Исусе! – вскрикиваю я от неожиданности.
Рядом со мной стоит полная леди с добрыми глазами; одной рукой она прижимает к груди библию, а вторую кладет мне на плечо.
– Нет, где уж мне, – сдержанно улыбаясь, отвечает женщина. – Я скорее… Его представитель.
Я растерянно моргаю, и она представляется:
– Пастор Вустер. Мы ведь говорили по телефону, помните?
– Да, конечно. – Я прижимаю влажную ладонь ко лбу. – Простите, пастор.
– Ну что вы, вам не за что извиняться. Однако мы скоро начнем, так что… – Пастор мельком смотрит по сторонам. – Вы бы не хотели сесть в первом ряду? Я оставила для вас местечко.
Мой взгляд тем временем перескакивает с одного гроба на другой и обратно, и я думаю о том, что вот Райаны наконец и воссоединились.
– Не беспокойтесь, – отвечаю я, благодарно сложив ладони у груди, – мне и здесь неплохо.
Пастор чуть склоняет голову и уходит к алтарю, кивая по пути знакомым прихожанам. А я откидываюсь на жесткую спинку деревянной скамьи и чувствую, как у меня начинают гореть уши. Теперь уж точно все взгляды устремлены в мою сторону. Прихожане не просто смотрят, они меня оценивают.
А потом что-то привлекает мое внимание. На скамье через проход от меня в ряду мрачных мужчин в серых костюмах сидит довольно миниатюрная светловолосая женщина и смотрит на меня с милой, печальной улыбкой. Я понятия не имею, кто она такая, но ее улыбка странным образом дарит мне утешение.
А когда я улыбаюсь в ответ, ее лицо словно освещается изнутри.
Пастор в обнимку с библией возвращается от алтаря, и оба гроба одновременно медленно опускаются. В зале повисает хрупкая, как тончайшее стекло, тишина, но, когда, усыпанные цветами, гробы исчезают из виду, ее нарушает чей-то сдавленный вскрик, а потом и приглушенные рыдания.
И рыдает не какой-то один человек. Рыдают те, кто сидят передо мной и кто сидит по сторонам тоже. Даже у пастора глаза на мокром месте.
А я… Меня все это просто бесит.
Вы ведь их даже не знали! Никто из вас их не знал!
Хотя могу допустить, что эти люди имеют право вот так скорбеть по усопшим. Они собрались здесь в этом холодном, в смысле бездушном, зале, все оделись в черное и держат друг друга за руки, пока два умерших человека, которых они любили и уважали, медленно опускаются в бушующее пламя печи крематория.
Я лишь жалею, что, стоя здесь, среди этих незнакомых людей, которые с таким пиететом относятся к усопшим Гарольду и Диане Райан, не могу в полной мере разделить их печаль.
В зале неожиданно раздается громкий женский голос:
– Я бы хотела сказать несколько слов.
Головы прихожан одновременно поворачиваются.
Я, естественно, тоже поворачиваюсь и вижу женщину лет сорока пяти – пятидесяти, она прижимает к груди скомканный в кулаке носовой платок, а рядом с ней стоит насупившийся мальчик.
Глаза у женщины покраснели от слез.
– Это ведь… это ведь позволительно? – спрашивает она.
Пастор Вустер, которая стоит у задней стены зала, кивает как-то нерешительно, а потом уже с сочувствием в голосе говорит:
– Да… да, конечно, Джоанна.
Джоанна судорожно втягивает воздух и оглядывается по сторонам, как будто только сейчас понимает, перед какой многочисленной аудиторией ей предстоит «сказать несколько слов».
– Я не… я не собиралась здесь выступать с какими-то там речами, но мне кажется, что я все-таки должна это сделать. – Голос Джоанны подрагивает, а ее маленький сын явно смущен и тычется лицом в бедро матери. – Мой старший, Харви, он хотел быть здесь, но не смог, не смог, потому что он сейчас в Шотландии… Он в университете в Эдинбурге, а я… мне не по карману оплатить его перелет сюда… – Джоанна смотрит себе под ноги и качает головой. – Но… но в любом случае он бы хотел быть здесь сегодня, потому что мистер Райан… Гарольд… изменил его жизнь.
Тут в зале прощаний повисает вполне ожидаемая тишина. Джоанна убирает за ухо прядь волос.
– Харви, он был трудным мальчиком, и когда он поступил в среднюю школу Хэвипорта, он и читать-то толком не умел. В общем, все на нем поставили крест. А я… что я могла сделать, ведь я – мать-одиночка. А вот Гарольд, он разглядел что-то такое в Харви, он упорно с ним занимался, тратил на него вечера в свои выходные, и вот теперь мой сын… – у Джоанны срывается голос, слезы набегают на глаза, и кто-то из ее друзей приобнимает ее за плечо. – И теперь у Харви есть будущее, и этого будущего не было бы без его учителя. – Тут Джоанна с облегчением выдыхает и улыбается сквозь слезы. – Вот и все, что я хотела сейчас сказать.
Люди в зале вокруг меня начинают одобрительно переговариваться, потом кто-то хлопает, и совсем скоро хлопки превращаются в аплодисменты. А сын Джоанны поднимает голову, смотрит на мать и улыбается.
И тут у меня за спиной раздается уже другой голос, хриплый такой и громкий:
– Я бы тоже хотела кое-что сказать.
Аплодисменты смолкают. Слышен звук шагов. Все в очередной раз поворачиваются на голос. В проходе на кресле-каталке пожилая леди, колени ее укрыты шерстяным одеялом.
– Мы из дома престарелых, того, что на холме.
И да, она не одна: по флангам от ее кресла-каталки стоят четверо стариков в униформе.
– И я сейчас расскажу вам о Гарри Райане… О Гарри? Да нет же, он был не просто Гарри, он был самым что ни на есть Бобби Дэззла[2]. – Собравшиеся в зале прощаний умиленно смеются, атмосфера становится почти домашней. – Он приходил к нам раз в месяц и читал нам вслух. Какое же это было наслаждение. И читал он не какую-нибудь там современную чушь, как бы сам Гарри это назвал, нет, он читал нам классику… «Грозовой перевал», Диккенса… О, это было так чудесно. Будь на то моя воля, я бы посвятила его в рыцари.
В зале снова смеются и хлопают в ладоши. Некоторые даже выкрикивают что-то типа мягкой формы «вау!». В общем, церемония прощания начинает походить на ток-шоу.
– И я… я тоже хочу кое-что сказать.
Все головы поворачиваются влево.
А мне как будто иглу в сердце воткнули.
– Я Саймон, Саймон Слейтер.
Голос молодой, даже подростковый.
Он встает в одном из первых рядов. Костюм на нем, прямо скажем, сидит плоховато.
– Некоторые из вас наверняка думают, что я тот еще засранец. – Саймон говорит с улыбкой, и его простодушное заявление вызывает серию смешков в зале. – Но сказать по правде, я не знаю, где бы сейчас оказался, если бы не мистер Райан. – Саймон принимается внимательно разглядывать носки своих туфель. – В школе я действительно был говнюком, да еще и вечно валял дурака, учиться совсем не хотел, но мистер Райан относился ко мне не так, как все остальные, все остальные ведь считали, что от меня одни проблемы и толку из меня никогда не выйдет. А мистер Райан прикинул, что в чем-то же я могу быть хорош, ну и я сказал ему, что хочу стать абористом, это такие специалисты, которые ухаживают за деревьями, как врач за людьми. И перед тем как заболеть, мистер Райан устроил меня на специальные курсы… и… вообще. – Саймон сбивается, мне тоже кажется, что я вот-вот пущу слезу, но он сглатывает и продолжает: – Мой старик бросил мать, когда я был совсем мелким, так что отца у меня, можно сказать, никогда и не было, но мистер Райан, он… он присматривал за мной, как за родным сыном.
Меня словно резко ударяют под дых, сильно так, как тараном. Я хватаюсь за живот и едва не задыхаюсь. Да, ощущение такое, будто меня ударили, хотя ко мне никто не прикасался и даже в мою сторону никто не смотрел.
Начинает кружиться голова.
Так горюют потерявшие близких люди? Скорбь настигает внезапно, как меткий выстрел из арбалета?
Опираюсь на край скамьи и оглядываюсь на вход в зал прощаний. Зрение затуманивается. Я больше не могу здесь находиться. Мне надо отсюда уйти.
Линн
Слезы текут по щекам, все салфетки я уже использовала, щиплет глаза.
Но я плачу не по Гарольду и Диане. И не рассказы Джоан Уизерс и Саймона Слейтера так меня растрогали. Я плачу из-за нее.
– Ну что ж… Всем спасибо за добрые слова, – говорит пастор, и в это время все в зале наблюдают за тем, как Беккет идет к выходу из зала прощаний. – Предлагаю открыть свои программки, сегодняшнюю службу мы закончим гимном с четвертой страницы – «Пребудь со мной».
Двери за ней захлопываются. Начинает играть орган.
А я протискиваюсь мимо людей в моем ряду.
– Простите, извините, простите меня.
Люди перешептываются, но мне плевать, я иду к дверям.
Думаю, я знаю, куда она направилась.
6Беккет
Я иду на побережье, морской воздух уже покусывает щеки, от встречного ветра приходится пригибаться. Здесь, ближе к скалам, тихо и безлюдно; я, сжав кулаки в карманах пальто, иду прямо посреди дороги.
Он присматривал за мной, как за родным сыном.
Живо представляю мальчишеское лицо Саймона Слейтера: в ярком свете зала прощаний оно было розовым, как ветчина. Парень говорил искренне, не соврал ни словом… Все они там говорили искренне. Но человек, которого они восхваляли, не был моим отцом, это был плод воображения целого города.
Гарри Райан, Бобби Дэззла.
В трудный момент всегда рядом.
Я останавливаюсь и прислоняюсь к столбу в ограде. Легкие работают, как кузнечные мехи, в горле что-то клокочет – не пойму, то ли крик рвется наружу, то ли рыдания, – зажмурившись, тяжело сглатываю. Потом начинаю считать в уме. За веками проплывают разноцветные пятна. Когда досчитываю до десяти, неприятное ощущение постепенно уходит. Прикладываю прохладную ладонь ко лбу и тут же отдергиваю – ладонь вся мокрая. Погода сменилась, утреннее солнце уступило место противному моросящему дождику, надвигаются темные тучи, но я не собираюсь возвращаться в Чарнел-хаус. Пока еще не собираюсь. Покинув крематорий, я тем же путем вернулась на Умбра-лейн, а потом пошла дальше на восток, перешла через железнодорожные пути и пошла дальше, следуя своему чутью, по старой фермерской дороге. По мере моего продвижения ландшафт становился шире, а воздух чище.
А прочувствованные похвалы в адрес отца продолжают звенеть у меня в ушах.
С того места, где я стою сейчас, уже можно услышать, как бурлит, шипит и пенится океан. Столб, к которому я прислоняюсь, соседствует с перелазом, и мой внутренний компас подсказывает: если пройду через болотистое поле, то выйду к обрывистым красным скалам Хэвипорта. Вообще-то, я не до конца понимаю, что здесь делаю, но чувство такое, будто меня влечет какая-то невидимая сила, и я готова ей подчиниться. Я пойду куда угодно, только не в этот дом; надо где-то провести час или два, пока в голове не прояснится.
Пока тащусь вверх по идущему под уклон полю, грязь заляпывает кроссовки, наконец выбираюсь на ровное открытое пространство, где ветер хлещет меня по лицу и дергает за полы пальто, словно нетерпеливый ребенок.
Теперь мне открывается перспектива темного, покрытого рябью Ла-Манша, а на фоне белесого неба вырисовывается одинокий силуэт маяка. Когда подхожу ближе, становится ясно, что маяком не пользуются уже много лет: большинство окон разбиты, краска на рамах облезла, повсюду ржавые пятна. На месте двери зияет, словно разинутая беззубая пасть, огромный проход в стене.
Вглядываюсь туда, пытаясь разглядеть детали обстановки. Я бывала здесь раньше, точно бывала.
Рядом с маяком стоит металлический знак:
ВНИМАНИЕ!
УГРОЗА ОПОЛЗНЕЙ
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ
НЕ ПОДХОДИТЕ К КРАЮ ОБРЫВА!
Стоит под углом, как будто клонится к земле, сознавая всю тщетность своего существования: люди сюда приходили, и, судя по смятым пивным банкам и серым следам от кострищ на траве, совсем недавно.
Я решаю рискнуть и прохожу мимо знака; в нос сразу ударяет соленый запах моря. Ближе к обрыву ветер становится резче, да еще стонет тоненько так, по-девичьи. У меня даже мурашки по спине пробегают.
– Привет, – негромко говорит кто-то у меня за спиной.
Я вздрагиваю от неожиданности и, обернувшись, вижу возле предупреждающего знака миниатюрную молодую женщину из зала прощаний, ту самую, что печально мне улыбалась.
У меня от удивления челюсть отвисает.
– П-привет, – отвечаю я, но мое приветствие скорее похоже на вопрос.
Что, черт возьми, она здесь делает? Маяк больше чем в миле от крематория.
– Вы были на похоронах.
Женщина чуть наклоняет голову и внимательно на меня смотрит. Сейчас ее черед говорить, но она, похоже, этого не понимает.
– Я Беккет.
Она кивает:
– Беккет Диана Райан.
Очень хочется отступить назад, но обрыв слишком уж близко.
– А вас как зовут?
Женщина морщит нос, как будто я сказала что-то смешное.
– Линн. И давайте на «ты».
Я откидываю с глаз влажную челку и внимательнее ее рассматриваю. Растрепанные светлые волосы цвета капучино, глаза выразительные, чуть раскосые, как у лани, черты лица тонкие, эльфийские, кожа нежная, с россыпью малюсеньких, как у ребенка, веснушек. Она симпатичная, но сама этого не сознает.
Я смотрю ей за плечо.
– Ты могла бы остаться, если б захотела. В крикетном клубе – поминки.
– Знаю, – говорит Линн и делает шаг вперед. – Просто хотела убедиться, что ты в порядке.
Сначала я думаю, что это довольно мило, но потом понимаю, что она, скорее всего, появилась со стороны маяка, как будто пришла сюда раньше меня, как будто знала, что я из крематория направлюсь именно сюда.
– Слушай, а как ты узнала, что я приду к маяку? – спрашиваю я, стараясь говорить непринужденно, но получается не очень.
Линн краснеет.
– О, это… ну… это долгая история.
– Что ж, готова послушать, люблю истории.
– Знаю, я прочитала все твои книги.
Я искоса поглядываю на Линн и поднимаю воротник пальто.
– Извини, а мы раньше…
– Встречались ли мы? – заканчивает за меня Линн и не может сдержать улыбку, а потом подходит еще ближе и понижает голос, как будто делится со мной некой тайной за семью печатями: – Конечно мы встречались, Беккет. Я – твоя лучшая подруга.
7Линн
– Ты… прости, что?
Беккет в шоке. Мы только заговорили, а я уже ляпнула что-то не то.
– П-подожди, ты… ты не поняла. – Я запинаюсь и сжимаю кулаки. – Это, наверное, звучит дико…
Беккет не отвечает.
– Я хотела сказать, что была твоей лучшей подругой, когда мы обе были маленькими.
Она вскидывает брови.
– Да-да, все верно. – Беккет смеется. – Прости, я было подумала, что ты маньячка какая-нибудь.
Я понимаю, что она это не всерьез, но ее слова все равно причиняют мне боль.
– Мы в школе учились в одном классе, – говорю я и убираю волосы за уши. – На всех уроках сидели за одной партой.
Я жду. Она молчит.
– На переменках вместе играли, и ты делилась со мной своим ланчем. Мы решили, что всегда будем держаться вместе, даже если… – Я умолкаю, а она морщится. – Ты не помнишь?
– О, ничего личного, поверь. У меня о жизни в Хэвипорте до школы-интерната остались только обрывочные воспоминания, да и то по пальцам сосчитать.
Главное, не паниковать. Она все вспомнит. Ей просто нужно время.
– А теперь, – Беккет взмахом руки указывает на маяк, – вернемся к твоей длинной истории. Ты знала, что я после похорон пойду именно сюда, так?
– Угу.
– Чтоб меня, Линн, даже как-то жутковато от этого.
А я улыбаюсь, знаю, что не следовало бы, но ничего не могу с собой поделать.
– Я не шучу, – говорит она.
Улыбка тут же слетает с моего лица.
– Нет-нет, прости… я… – У меня начинают дрожать колени; кажется, я действительно все запорола. – Я понимаю, что ты не шутишь. – указываю на маяк. – В детстве он был нашим секретным убежищем. Мы постоянно сюда приходили.
Беккет хмурится и оглядывается по сторонам.
– Мои родители разрешали нам здесь играть?
– Мы говорили им, что идем играть ко мне. А мои родители… ну, им было все равно, где я и чем занимаюсь.
Беккет какое-то время молча смотрит на меня, а потом уточняет:
– То есть этот маяк был… нашим личным девчоночьим клубом?
Я радостно улыбаюсь:
– Да! Это был наш личный клуб, и мы всегда могли здесь ото всех укрыться. – Я снова смотрю на маяк. – Там на самом верху, в старой диспетчерской, есть люк; если закрыть его на засов, до тебя никто не доберется. Это было наше тайное убежище.
Беккет прищуривается, как будто пытается что-то припомнить, а я смотрю на пролив.
– В детстве, когда мы из-за чего-нибудь злились или нам было из-за чего-то грустно, мы прибегали сюда, становились на краю обрыва и кричали во все горло. Нам казалось, если будем кричать достаточно громко, ветер подхватит все плохое, что делает нам больно, унесет далеко в море и бросит там, и это плохое больше никогда не вернется.
Птица, охотясь за рыбой, пикирует в черную воду. Я жду, когда она вынырнет.
– И как? Срабатывало?
– Что? – Я поворачиваюсь к Беккет.
Она слегка улыбается:
– Этот наш ритуал. Срабатывал?
– О… не знаю. Иногда.
Беккет поднимает с земли камешек и трет его большим пальцем.
– Интересно, для взрослых такие ритуалы срабатывают? Или только для детей? – спрашивает саму себя Беккет и забрасывает камешек в воду.
Я слежу за его падением.
– О чем ты?
– Да так, ерунда. – Беккет качает головой. – Тебе не обязательно слушать о моих проблемах.
– А ты расскажи, поделись со мной.
Беккет вроде как собирается поделиться, но в итоге не решается и, проведя рукой по волосам, говорит:
– Брось, Линн, ты же не психотерапевт. И мы с тобой, по сути, чужие люди.
– Нет… мы не чужие.
У меня сжимается сердце. Мы не чужие.
– Я просто устала, вот и все. Не могу спать в этом жутком старом доме.
– Правда? А мне он всегда казался таким красивым.
Мне нравилось приходить играть в Чарнел-хаусе, там были такие просторные комнаты и столько мест, где спрятаться.
– Думаю, когда-то он действительно был красивым, но после того, как отец заболел, за домом перестали следить, и теперь он, что называется, пришел в запустение. – Беккет потерла глаза. – Прежде чем выставить его на продажу, там надо провести очень серьезные работы, а я не могу себе этого позволить.
Я морщу лоб:
– А как же гонорары за все твои книги?
Беккет на секунду замирает и смотрит в сторону города.
– Мне пора идти, – говорит она.
Прикусываю язык – снова напортачила.
– Прости, я не хотела совать нос…
– Да нет, все в порядке. Просто… просто мне надо разобраться с кое-какими бумагами в доме. Родительские дела, ты понимаешь…
Дождь усиливается. Тяжелая капля падает мне на шею и скатывается по позвоночнику. Беккет застегивает пальто.
– И спасибо тебе. – Она смотрит на меня. – Спасибо, что пришла, чтобы посмотреть, как я.
– Да не за что. Мне это ничего не стоило.
Я бы для тебя что угодно сделала.
– А теперь… – Она смотрит мне за плечо. – Интересно, какой самый короткий путь домой. Тот, каким я пришла?..
Я кое-что украла у тебя, Беккет.
– Нет, вряд ли. Я поднялась сюда от линии Шоттс…
Я забрала кое-что твое, когда мы были детьми, а потом так и не вернула.
– …на пути будет старая ферма, ее надо обойти…
Однажды, очень скоро, я расскажу тебе об этом. Но не сейчас. Сначала мне нужно, чтобы ты стала мне доверять.
– После перелаза сверни налево, – говорю я, – так выйдешь на главную дорогу, которая приведет тебя к железнодорожному мосту. Двадцать минут – и ты дома.
– Спасибо. – Беккет кивает вниз по склону. – Ты идешь?
Отчаянно хочу пойти с ней, быть с ней – это все, чего я хочу, но действовать надо осторожно. И так уже успела достать ее своими глупыми вопросами. Чтобы стать подругой Беккет, надо держаться холодно, как она.
– Да нет. Побуду здесь еще немного… понаблюдаю за птицами.
Беккет с любопытством смотрит на меня и выше поднимает воротник пальто.
– Понятно. Ну что, еще увидимся?
– Конечно, – говорю я и, провожая ее взглядом, повторяю: – конечно, мы еще увидимся.
8Беккет
Я сижу на полу в отцовском кабинете с высоким потолком и обшитыми деревянными панелями стенами, причем сижу, вытянув перед собой широко расставленные ноги, совсем как двух-трехлетний ребенок. Рядом картотечный шкаф, нижняя полка выдвинута, на паркете веером рассыпаны старые банковские выписки, у моего бедра пристроилась украденная из родительского домашнего бара липкая бутылка рома.
Когда поднимаю бутылку, ром замедленно плещется, сразу понятно – не какое-то сухое вино. Подозреваю, в детстве мне не дозволялось входить в эту комнату, но я наверняка частенько пробиралась сюда тайком. Пусть я этого не помню, но обстановка в кабинете кажется мне знакомой: двухтумбовый стол с покрытой пятнами столешницей из зеленой кожи; дымный аромат древесины; щель под дверью, достаточно широкая, чтобы выдать крадущегося мимо человека.
Делаю глоток рома и морщусь.
Видел бы ты меня сейчас, отец. Пью твой ром, копаюсь в твоих банковских бумагах. Это послужило бы достаточным оправданием для того, чтобы выкрутить мою маленькую ручонку, верно? Не сильно, а так, чтобы кожа покраснела. Так сказать, предупредительный выстрел.
Под завалом из банковских бумаг пищит мой телефон.
Зейди: Надеюсь, сегодня все прошло не слишком ужасно. З. х[3]
Я отъезжаю по полу назад, прислоняюсь к картотечному шкафу и улыбаюсь, глядя на экран телефона. Из Лондона я уехала меньше двух дней назад, а кажется, что прошло уже две недели.
Беккет: Была на худших двойных похоронах. Теперь отпиваюсь ромом.
Зейди печатает ответ, а я тем временем делаю еще один большой глоток рома.
Зейди: Как там родной городок? С тобой еще не провели ритуал «плетеного человека»?
Беккет: Нет пока. Но ты должна знать… у тебя есть конкурентка.
Зейди: Только не говори, что встретила кого-то, кто может поименно перечислить всю десятку из команды «Блейзинг сквод»[4].
Беккет: Если бы. Но у тебя действительно соперница в департаменте лучших друзей.
Зейди: Объясни.
Поеживаясь возле острого угла шкафа, вспоминаю встречу с Линн на скале у маяка. То, как она неподвижно там стояла и ждала, когда я с ней заговорю. Вспоминаю ее ангельское личико под моросящим дождем.
Беккет: Она пошла за мной после похорон и сказала, что мы с ней в начальной школе были лучшими подружками. Знает мое второе имя и еще много чего. А я ее вообще не помню.
Зейди: Похоже на какой-то подвох.
Беккет: Она действительно… уникум. Чувствуется энергетика сталкера. Вот что происходит, если с детства никуда из Хэвипорта не уезжать.
Вытянув шею, смотрю в эркерное окно на улицу. Припаркованные на ночь машины уже покрылись инеем. В этом городе с наступлением темноты становится очень тихо, я бы сказала – пугающе тихо.
Снова светится экран телефона.
Зейди: Постарайся там, чтобы она тебя не убила. То есть мне, конечно, все равно, но я СЛИШКОМ СТАРА, чтобы искать другую верную собутыльницу.
Беккет: На 70% уверена, что не убьет.
Зейди: Воспользуюсь шансом. Спи спокойно, дорогая. х
Беккет: Доброй ночи х
Закрываю телефон, бросаю его обратно в кучу банковских бумаг и, пока он скользит по счету кредитной карты, вспоминаю, почему вообще сижу в этой комнате. Ситуация моя плохая – об этом я уже несколько месяцев как знаю, – но час, потраченный на изучение финансов Райана, показал, что все еще хуже, чем я думала.
Гарольд и Диана были трудолюбивыми и богобоязненными гражданами. Они, в общем-то, следили за своими финансами, жили по средствам и умудрялись откладывать. Но то, что не было потрачено на лечение деменции отца в домашних условиях, на прошлой неделе было пожертвовано благотворительному фонду по борьбе с домашним насилием в Эксетере, притом что в завещании указано, что, как только Чарнел-хаус будет продан, первые триста пятьдесят тысяч фунтов стерлингов должны быть направлены в среднюю школу Хэвипорта для строительства новой научной лаборатории самого высокого технического уровня.