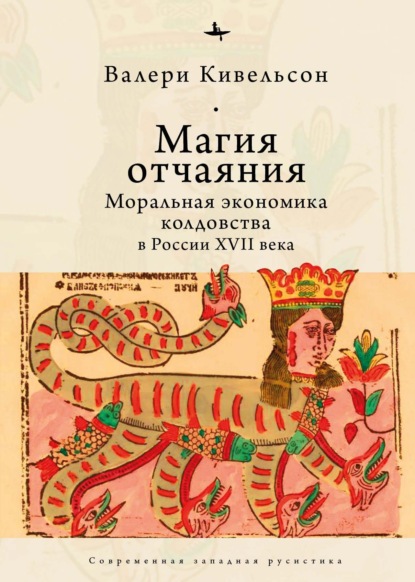Название книги:
Магия отчаяния. Моральная экономика колдовства в России XVII века
Автор:
Валери Кивельсон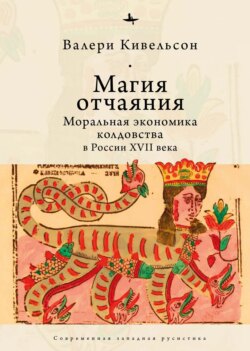
000
ОтложитьЧитал
Лучшие рецензии на LiveLib:
red_star. Оценка 98 из 10
Потрясающе дотошное исследование социальной природы магии в России XVII века. Валери Кивельсон старательно разбирает сохранившиеся дела о колдовстве, рассматривая их со всех возможных углов – политических, гендерных, классовых, возрастных и так далее, пытаясь увидеть сходства и различия с европейской историей охоты на ведьм.В обзоре историографии и в благодарностях Кивельсон ссылается на Райана, чья книга о магических верованиях восточных славян произвела когда-то хорошее впечатление, а также упоминает Катерину Дысу, чью книгу о магии в украинских воеводствах Речи Посполитой я относительно недавно перечитал. Любопытно, что Дысу Кивельсон в 2013 году числила в разряде исследователей ‘Russian magic’, вряд ли теперь так политически корректно говорить (хотя, насколько могу судить, основные моменты сходятся по обе стороны границы у восточных славян удивительно точно – и отсутствие отсылок к дьяволу, и какие-нибудь мелкие детали вроде подкладывания чего-то магического под порог). Автор сокрушает концепцию двоеверия, пишет о том, что некогда бытовало убеждение, что процессов о колдовстве у нас вообще не было, но все же отмечает, что сохранившиеся данные позволяют говорить, что у нас, хотя сама жестокость пыток и наказания были вполне сравнимы, количество процессов было заметно меньше.Сохранившиеся дела о колдовстве показывают, что обвиняемыми были в основном мужчины (что уже само по себе резко выделяет нашу с вами страну на фоне общеевропейской истории, где основными жертвами были женщины). Поиску причины такого соотношения и посвящена книга, в которой сама магия, пожалуй, служит лишь поводом хорошо, интересно покопаться в социальной системе московской Руси. Собственно, первое и очевидное, что, по мнению автора, позволило избежать раскручивания спирали насилия, это отсутствие связи между магией и дьяволом. В православии не было этой связи, поэтому бытовая магия не порицалась, более того, в системе штрафов, о которых так любопытно писала Коллманн, нашлось место и для обиженных ведьм – они легально могли требовать через царские суды компенсацию за оскорбление. Из отсутствия связи с дьяволом вытекает и второе важное условие – женщин не считали вместилищем всего отрицательного. Гендер, по мнению Кивельсон, играл важную роль, но не решающую, в социальной ткани московского царства, оба пола были легитимными детьми царя. В каждую главу вплетены рассказы о самих делах, и они порой поражают куда больше построений автора. Тут есть место и сопереживанию, и удивлению. Так, настоящим кошмаром кажется дело ротмистра, который женился на вдове и насиловал своих падчериц. Когда его взяли власти, у него нашлись магические книги для соблазнения женщин с мрачными подробностями его дел. Отставной шестидесятилетний воевода отказался принимать новую должность на Тереке и пытался отбиться от нее, прожив месяц в лодке на реке. Все это время он давил на царей (Ивана с Петром) по обычным и магическим каналам, надеясь добиться изменения монаршей воли. Неприглашенная на свадьбу ведьма насылает на жениха в брачную ночь импотенцию. Крепостной управляющий имением подделывает свою вольную, переезжает в Москву и назначает сам себя дьяком в приказ, где успешно работает, пока его не опознают и не хватают. При обыске находят магические книги, а сам он притягивает толпу народа к этому делу после пыток. Потом его сжигают.Множество народа оговаривало себя после пыток, но некоторые, наоборот, после пыток (которые проводили в три раунда, а иногда, в нарушение закона, в четыре) отказывались от прежних показаний, заявляя, что оговорили себя по требованию и под угрозами помещика. Самое удивительное, что как минимум в нескольких делах царское правосудие довольно быстро разворачивалось и принималось за помещика/боярина. Кивельсон утверждает, что самый неожиданный вывод из дел о колдовстве состоит в том, что судебная система, вопреки стереотипу, работала хорошо, дела разбирались, сообщение летали между провинциями и Москвой. Все слои иерархизированной страны понимали границы установленного порядка, поэтому нарушение его вызывало быстрые и кровавые бунты, которыми был богат XVII век, поэтому царь был заинтересован в функционировании системы, удовлетворявшим население. Порядок был, на наш взгляд, жестоким и кровавым, однако не бессистемным, наоборот, стройным и предсказуемым.Кивельсон пишет, что колдовство, несмотря на отсутствие связи с дьяволом (эту идею пытался привить Петр в начале XVIII века, но без особого успеха) считалось одним из тягчайших преступлений. Тут она пишет о том, что показалось мне самым интересным. Сравнивая нашу историю со знаменитой охотой на ведьм в Новой Англии, Кивельсон пишет, что пострадавшие знали, у кого на них есть зуб. Знали, потому что у них было чувство вины – они знали, кому насолили. В нашем контексте это чаще всего были крепостные, которых истязали, которых морально мучили бояре/князья/помещики. Таким образом отравления, магические коренья, шкуры змей в еде – это форма классовой борьбы (стандартной отмазкой, кстати, было то, что все это подброшено не с целью извести, а с целью задобрить). Психоистория, если верить Кивельсон, связывает жестокое обращение с бедными в Англии с Реформацией, которая сломала систему заботы о бедных, созданную католической церковью. Раз бедным перестали помогать, их стали ненавидеть. В России в XVII веке окончательно оформилось крепостничество, и знать, вынужденная жить среди порабощенных ими людей, и боялась их, и ненавидела, ожидая от порабощенных ответных чувств. В целом магия в России оказывается удивительно социальной – большинство дел состоят из попыток нижестоящих изменить к себе отношение вышестоящих, отчаянных попыток, в которых магия оказывается последней инстанцией. Чтобы не били, не насиловали, не обрекали на голодную смерть.Классная книга, с отличным фоном (эссе о современной историографии ведовства стоит отдельно упомянуть), глубоким копанием в материале и интересным автором: она искренее сопереживает своим героям, например, слепой ведьме, которую власти боялись пытать – больно уж слаба (в этот момент даже в казенной бумаге прорывается что-то вроде человеколюбия, а строки, когда описывается то, как этой «ведьме» дали пощупать некий корень, из-за которого все дело началось, чиать страшно).P.S. Одержимость и полтергейст тоже были, чем мы хуже других. Не Салем, но Лух в Ивановской области, с целыми эпидемиями одержимости, накатывавшими волнами на местное население. По некоторым делам вышли бы захватывающие фильмы, ей-богу.
Karvellin. Оценка 6 из 10
Серия, в рамках которой издана данная книга, называется Современная западная русистика. Соотечественников, занимающихся изучением русского духа, и их труды я часто встречаю, а вот книги (в достойном переводе) их современных зарубежных коллег, посвятивших себя изучению российской культуры, довольно редко. Открытием для меня стала Валери Кивельсон – американский профессор, занимающаяся историей России 17 в. Она провела крупномасштабное исследование русских колдовских процессов, изучила множество документальных свидетельств и издала книгу под названием «Магия отчаяния. Моральная экономика колдовства в России 17 в», о которой я здесь и говорю.Само название сразу наводит на мысль, что с колдовством в России было не все так просто. На Западе, как мы все знаем, оно шло бок о бок с Сатаной, выражалось в шабашах, поедании младенцев и тому подобных ужасающих деяниях, пугающих сердца добропорядочных и боголепных христиан. Что же происходило в России? Об этом и рассказывает Кивельсон.Итак, на Западе колдовство приписывалось слугам дьявола. В России же подходили к вопросам магии с иной стороны. О спасении душ и веры никто не помышлял. Никакой теории не было, никто толком не задумывался о том, где источник магии и как она работает. Но каждый житель России 17 в. ни на секунду не сомневался, что она работает. Все от мала до велика признавали ее существование, страшились быть ее жертвами и искали защиты от ее действия в судах. Интересно, что у нас колдовство считалось не грехом и не духовным преступлением, а вполне светским (с конца 17 в. относилось к уголовному), причиняющим физический вред. Оно порождает множество дел, порою серьезнейших, которые велись, начиная с 17 века и вплоть до 1760-х гг (потом колдовство перешло в разряд более мелких деяний и рассматривалась в низших судах до начала 20 в. ).Кивельсон описывает суть русской магии 17 в. Удивляет, что она основывалась исключительно на обыденных предметах. Травы, корешки, соль, кора, вода, вещи обихода и незатейливые заговоры. И тексты (самое ужаснейшее дело – прятать у себя письменные слова! Люди этого боялись).Чем же страшила такая магия? И почему даже цари боялись этой «кухонной» магии?Кивельсон раскрывает нам эту тайну, для начала предлагая понять на каком базисе стояло российское государство того времени и как проходила жизнь в нем. В основе всего лежали такие понятия как статус, положение и поколенческое старшинство. Сразу стоит сказать и о том, что гендерные различия играли малую роль. Да, виновником всего был преимущественно один пол – удивительно, но мужской. Но это только потому что у мужчин была большая свобода для действий и перемещений по долгу работы, службы или иных дел, чем у женщин, которые тоже обвинялись в колдовстве, но гораздо реже.Возвращаясь к иерархии, пронизывающей общество России 17 в. Очень трудно было что либо сделать, если вышестоящий или твой хозяин относились к тебе плохо, мучил и измывался (что происходило даже несмотря на существование морального соглашения о милостивом отношении к слабым). Можно бежать, послать челобитную к властям, ответить на обиду жестокостью. Или…прибегнуть к магии. Таким образом, выходит, что люди практиковали магию от отчаяния.В жесткой иерархической системе все были зависимы от воли высших и, не имея никаких других средств влияния на своих господ, люди творили магию. На протяжении всей книги Кивельсон доказывает, что в первую очередь колдовство рассматривалось как эффективный инструмент разрешения конфликтов внутри данной системы. Возможность смягчать гнев хозяев дарили заговоры «чтоб до меня были добры», «чтобы любили и боялися», «пусть ласково на меня посмотрит» и т. п. Очень многие искали милости своих господ и это обстоятельство даже могло сыграть положительный эффект во время суда над колдунами, когда выяснялось, что умысел был лишь в этом. Иногда обвиняемые в ходе следствия даже менялись местами с обвинителями, когда оказывалось, что их мучили хозяева. Такие пытки считались незаконными. Но и от законных пыток «колдунам» приходилось несладко. Даже если ты сознался сразу, тебя бы все равно пытали (но не более трех раз в общей сумме), чтобы выяснить дополнительные сведения. Про пытки и поиски правды, ради которых их использовали, в книге имеется целая глава.Помимо вроде бы безвредных магических действий и заговоров для нахождения потерявшихся вещей, лечения болезней, смягчения сердец и даже заговоров против пыток было и злонамеренное колдовство, вызванное обидой, злостью или завистью. Страшась тех кого когда-то обидели, люди обвиняли их в колдовстве, в хвори близкого и даже в смерти всех членов семьи. Напасть могла прийти неожиданно. Таких событий все боялись. Поэтому колдунов и их приспешников, которые могли поменять чужую жизнь, а тем самым и пошатнуть власть, обязательно выявляли и судили. Любой, кто мог нанести ущерб сложившемуся порядку, не был любим. Ранее я упомянула о боязни текстов. Привилегия писать и читать была у ограниченного круга людей. Когда клочок бумаги, а тем более исписанный буквами клочок бумаги, находили не у того человека, на него сразу ложилась метка колдуна. Точно также любой бродяга мог быть обвинен в колдовстве (и 15% от всех колдунов ими и были) лишь по той причине, что покинул свою общину и тем самым нарушил ее порядок: его долю налога приходилось делить между другими членами общины. Понятное дело, что бродяг за это не любили. Главное, что на допросах интересовало дознавателей, это ответы на вопросы о пособниках, об учителях и наставниках, ведь необходимо было изловить всех колдунов-нарушителей порядка. И еще одна вещь, которая интересовала судей – экономическая: степень и количество нанесенного ущерба.Такое положение дел разительно отличается от западной истории с ведьмами. И об этом весьма интересно узнавать. Очень рекомендую ознакомится с книгой. Все выводы, которые сделала автор, основаны на судебных материалах, выдержки из которых в большом количестве приводятся в тексте. Читается текст легко и содержит множество интересных фактов. Для себя я открыла очень много нового. Например, в книге описывается такое явление, как кликушество. Очень необычная вещь, похожая на одержимость, когда люди икают, щебечут по-птичьи, лают по-собачьи, ругаются и издают иные звуки, сопровождаемые физическими недомоганиями. Кивельсон считает, что кликушество было также средством выражения мнения для людей того времени. Ведь во время приступа ты можешь высказать все, что угодно. И что можно сделать больному? Случались даже эпидемии кликушества. И все, конечно, знали, что это проделки колдунов.После всего вышесказанного вы наверное могли подумать, что подсудимых колдунов было великое множество, но на самом деле Кивельсон удалось разыскать только 227 официально задокументированных судебных процессов, связанных с колдунами. Тем не менее считаю, что феномен русского колдовства, описанный в книге, достоин внимания каждого, кто интересуется историей и культурой.
Издательство:
БиблиороссикаКниги этой серии:
- Секреты Достоевского. Чтение против течения
- Велижское дело. Ритуальное убийство в одном русском городе
- Перо и скальпель. Творчество Набокова и миры науки
- Пути к славе. Российская империя и Черноморские проливы в начале XX века
- Ружья для царя. Американские технологии и индустрия стрелкового огнестрельного оружия в России XIX века
- Русские реализмы. Литература и живопись, 1840–1890
- Знание и окраины империи. Казахские посредники и российское управление в степи, 1731–1917
- Человеческая природа в литературной утопии. «Мы» Замятина
- И в пути народ мой. «Гилель» и возрождение еврейской жизни в бывшем СССР
- Полным ходом. Эстетика и идеология скорости в культуре русского авангарда, 1910–1930
- Социальная история советской торговли. Торговая политика, розничная торговля и потребление (1917–1953 гг.)
- Сдвиги. Узоры прозы Nабокоvа
- Природа охотника. Тургенев и органический мир
- Русско-японская война и ее влияние на ход истории в XX веке
- Третий Рим. Имперские видения, мессианские грезы, 1890–1940
- SPAсибо партии. Отдых, путешествия и советская мечта
- Неоконченное путешествие Достоевского
- Пределы реформ. Министерство внутренних дел Российской империи в 1802-1881 годах
- Следствия самоосознания. Тургенев, Достоевский, Толстой
- В поисках истинной России. Провинция в современном националистическом дискурсе
- Красная глобализация. Политическая экономия холодной войны от Сталина до Хрущева
- Они сражались за Родину. Русские женщины-солдаты в Первую мировую войну и революцию
- Эффект Достоевского. Детство и игровая зависимость
- Самоуничижение Христа. Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе. Том 1. Риторика христологии
- Максимилиан Волошин и русский литературный кружок. Культура и выживание в эпоху революции
- Смеющаяся вопреки. Жизнь и творчество Тэффи
- Феномен ГУЛАГа. Интерпретации, сравнения, исторический контекст
- «Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево». Поэтика Бориса Слуцкого
- Кровавый навет в последние годы Российской империи. Процесс над Менделем Бейлисом
- И все содрогнулось… Стихийные бедствия и катастрофы в Советском Союзе
- Роса на траве. Слово у Чехова
- Набоков и неопределенность. Случай «Истинной жизни Себастьяна Найта»
- Андрей Синявский: герой своего времени?
- Россия на краю. Воображаемые географии и постсоветская идентичность
- Первые слова. О предисловиях Ф. М. Достоевского
- Магда Нахман. Художник в изгнании
- Заповедная Россия. Прогулки по русскому лесу XIX века
- Философ для кинорежиссера. Мераб Мамардашвили и российский кинематограф
- Очерки по русской литературной и музыкальной культуре
- Выцветание красного. Бывший враг времен холодной войны в русском и американском кино 1990-2005 годов
- Апокалиптический реализм. Научная фантастика Аркадия и Бориса Стругацких
- Неуловимая реальность. Сто лет русско-израильской литературы (1920–2020)
- Петербург. Тени прошлого
- Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период
- Магия отчаяния. Моральная экономика колдовства в России XVII века
- Англичанин из Лебедяни. Жизнь Евгения Замятина (1884–1937)
- Упразднение смерти. Миф о спасении в русской литературе ХХ века
- Мыслить как Толстой и Витгенштейн. Искусство, эмоции и выражение
- Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы. Астафьев, Белов, Распутин
- Социология литературы. Институты, идеология, нарратив
- Полицейская эстетика. Литература, кино и тайная полиция в советскую эпоху
- Допеть до победы! Роль песни в советском обществе во время Второй мировой войны
- Москва строящаяся. Градостроительство, протесты градозащитников и гражданское общество
- Как сделан «Нос». Стилистический и критический комментарий к повести Н. В. Гоголя
- Горбачев и Ельцин как лидеры
- Посткоммунистические государства всеобщего благосостояния. Политика реформ в России и Восточной Европе
- Серп и крест. Сергей Булгаков и судьбы русской религиозной философии (1890–1920)
- Поэтическое воображение Пушкина
- Образ Христа в русской литературе. Достоевский, Толстой, Булгаков, Пастернак
- Литературная черта оседлости. От Гоголя до Бабеля
- Голос техники. Переход советского кино к звуку. 1928–1935
- Правонарушительницы. Женская преступность и криминология в России (1880-1930)
- Романтики, реформаторы, реакционеры. Русская консервативная мысль и политика в царствование Александра I
- Странствующие маски. Итальянская комедия дель арте в русской культуре
- Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I (Политическая экономия и литература)
- Недра России. Власть, нефть и культура после социализма
- Великая война и деколонизация Российской империи
- Параллельные вселенные Давида Шраера-Петрова
- Реорганизованная преступность. Мафия и антимафия в постсоветской Грузии
- Высшая легкость созидания. Следующие сто лет русско-израильской литературы
- На орбите Стравинского. Русский Париж и его рецепция модернизма
- Россия и ее империя. 1450–1801
- Женщины в России. 1700–2000
- Автор как герой: личность и литературная традиция у Булгакова, Пастернака и Набокова
- Достоевский и динамика религиозного опыта
- Искусство на повестке дня. Рождение русской культуры из духа газетных споров
- Этот дикий взгляд. Волки в русском восприятии XIX века
- Модернизация с того берега. Американские интеллектуалы и романтика российского развития
- От победы к миру. Русская дипломатия после Наполеона
- Расширение прав и возможностей женщин в России
- Войны за становление Российского государства. 1460–1730
- Кинематограф оттепели. Пространство, материальность, движение
- Поэты о поэтах. Эпистолярное и поэтическое общение Цветаевой, Пастернака и Рильке
- Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе
- Нина Берберова, известная и неизвестная
- Загадка Заболоцкого
- Икона и квадрат. Русский модернизм и русско-византийское возрождение
- Инкарнационный реализм Достоевского. В поисках Христа в Карамазовых
- Как Петербург научился себя изучать
- Двуязыкая муза. Авторский перевод в русской поэзии
- Из Священной Римской империи в страну царей. Одиссея одной семьи, 1768–1870
- Секс, любовь и миграция. Постсоциализм, модерность и интимные отношения от Стамбула до Арктики
- Долой оковы! Русская и афроамериканская литература этнической «души»
- Экономика спасения и антисемитизм Достоевского
- Старая вера и русская земля. Исследования истории этики на Урале
- Проза и лирика романа «Доктор Живаго»
- Маскулинность, самодержавие и российский университет, 1804–1863
- Nuevo Romanticismo. Испанско-русский литературный диалог, 1905–1939
- Изобретение Михаила Ломоносова. Русский национальный миф
- Парадоксы классики. Очерки литературы и искусства
- Женское лицо советской и российской анимации
- Самоуничижение Христа. Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе. Том 2. Русские репрезентации и практики
- Либеральные идеи в царской России. От Екатерины Великой и до революции
- Музыка боли. Образ травмы в советской и восточноевропейской музыке конца XX века
- Октябрь. Память и создание большевистской революции
- Русские баптисты и духовная революция (1905–1929 гг.)
- Эффект разорвавшейся бомбы. Леонид Якобсон и советский балет как форма сопротивления
- Прохождение тундры. История и гендер на Дальнем Востоке России
- Россия. Путь к Просвещению. Том 1
- Советская кинофантастика и космическая эра. Незабвенное будущее
- Россия. Путь к Просвещению. Том 2
- Вокруг Николая Рериха. Искусство, эзотерика, востоковедение и политика
- Братья и сестры у Толстого и Достоевского. Путь ко всеобщему братству
- Идея Софии в философской мысли Владимира Соловьева
- Путешествия советских вещей. Холодная война как жизненный опыт на Кубе и в Индии
- Архетипы и история
- Конструктивизм Алексея Гана. Эстетика вовлеченного модернизма
- Умеренный большевик Михаил Томский
Метки:
историческая публицистика, исторические исследования, колдовство, колдуны, магия и колдовство, Россия XVII век, философско-исторические размышления