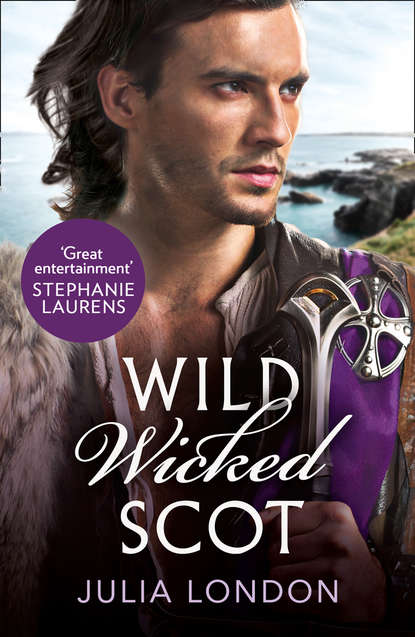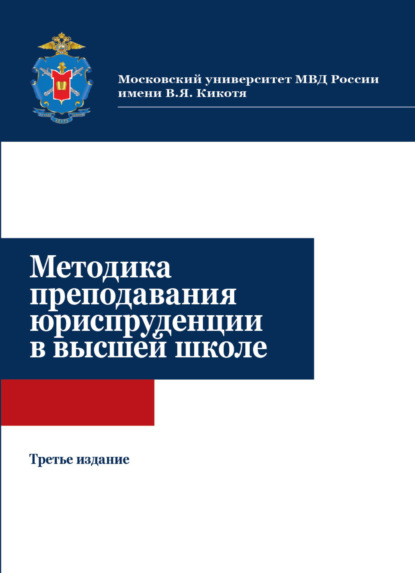- -
- 100%
- +
К 1842 году любовь к Адини среди институток переросла в настоящую ненависть к Олле. Не могу подобрать оправдания подобному выверту нашего сознания. Думаю, что, кроме меня, нашлось бы немало девочек, кто по достоинству оценил самобытность Олле, однако они хранили молчание, боясь вызвать гнев Лели. Последняя же не скупилась на выражения, среди коих «снулая рыбина» и «холодное чучело» были самыми мягкими.
Я же храбро сражалась за Олле. Однажды мы с Лелей так повздорили, что обе простояли за обедом, наказанные, лишенные наших фартуков.
В 1843 году Адини не приехала на рождественский бал, чем вызвала легкую печаль у моих одноклассниц. Однако то ли посредством газет, то ли через слухи от наших родных до нас дошли слухи, что великая княжна готовится к замужеству. К тому же, ее подвело здоровье – его слабостью, видимо, она пошла в императрицу.
Спустя месяц до нас дошла весть о замужестве младшей императорской дочери. Еще позднее – о ее положении.
Но известие, зачитанное нам maman летом 1844 года, потрясло нас, парализовала весь институт. Великая княгиня Александра Николаевна скончалась. Так кратко и так больно!
Вечером в дортуаре не было ни одной девочки, кроме меня, которая бы не рыдала. Плакала украдкой моя сдержанная Маша, стараясь не показывать слезы. Громко причитала Аня Балабанова, заходясь кашлем – вскоре после выпуска она скончалась от той же болезни, что унесла Адини. Две грузинские княжны истово молились у своих постелей за упокой души всеобщей любимицы. Однако хуже всего бушевала Леля. Для ее успокоения классной даме пришлось прибегнуть к крайним мерам – плеснуть в лицо воды. Мокрая, дрожащая не от холода, а от какого-то внутреннего чувства, Леля с яростью набросилась на меня, называя бессердечным чудовищем за то, что я не плакала со всеми. Я не могла отбиваться от ее нападок. Руки и ноги мои стали будто ватными, почти как в тот день, когда я узнала о смерти отца и маленьких братьев-близнецов. Однако я не испытала настоящее горе, разумеется.
Ночью сон не шел ко мне. Я бессмысленными глазами смотрела в темный потолок, когда вдруг в тишине дортуара различила чье-то всхлипывание. Присев на постели и оглядевшись, я заметила шевеление через две кровати справа от меня, как раз где обычно спала Леля. Я уже привыкла к мраку дортуара, к тому же, в ту ночь классная дама небрежно задернула шторы, и луна немного освещала проход между кроватями. Ежась от прикосновений к сырому камню, я, босая, приблизилась к Леле. Та плакала, кусая подушку, и что-то шевельнулось у меня внутри от жалости. Я села на край постели и стала гладить Лелю по голове, как взрослая. Она же, подобно маленькой девочке, всхлипнула еще несколько раз и затихла.
Так и подошла к концу наша нелепая вражда с Лелей, едва не испортившая нам обучение в институте. Мы не стали добрыми подругами, но после выпуска расстались совершенно довольные друг другом, расцеловавшись в обе щеки, и однажды я даже останавливалась у нее, когда с племянницей Наташенькой оказалась в Одессе.
Возвращаясь мысленно к своей юности, понимаю, что была несправедлива к Адини едва ли не больше, чем остальные институтки – к Олле. Воскрешаю в памяти ее внешность, перед взором возникают ее широкие круглые плечи, глаза навыкате и гордый рот. В ней было что-то, что создавало непреодолимую пропасть между ней и институтками и делало Адини истинной дочерью своих родителей и настоящей сестрой Олле. Сейчас я вижу их обеих будто бы осиянными солнцем и золотом.
Пробегаю глазами по написанному и вновь ощущаю себя той девочкой, которую привезли из Малороссии в холодный Петербург. Мне становится жаль ее и других таких же девочек – избалованных или скромных, хорошеньких девиц или нескладных подросточек, волей случая собранных в институте со всех концов нашей необъятной родины.
Я так и не сумела понять, зачем нас держали в такой близости к императорской семье. Возможно, это было призвано взращивать в нас гордость и стремление совершенствовать самих себя, но скорее это побуждало нас приносить любовь к короне всюду, куда бы мы ни приходили, передавать ее нашим родичам, нашим мужьям, нашим детям. Эта любовь застилала глаза моим подругам всю жизнь.
Я осознаю абсурдность нашего положения. Мы жили почти впроголодь, хотя maman внимательно следила за деятельностью экономов и не допускала вопиющих безобразий, о каких к нам доходили слухи из Смольного или из Патриотического. Мы мерзли, и с сим обстоятельством даже maman ничего не могла поделать и, подозреваю, втайне страдала, как и мы. Большая часть классных дам были черствы; значительное количество учителей страдали недугом скудоумия. Но после встреч с императорской фамилией мы забывали о житейских невзгодах и чувствовали себя едва ли не избранными. Полагаю, я имею полное право сказать, что воспоминания об императоре с императрицей так и остались самыми яркими и светлыми мгновениями жизни многих воспитанниц Екатерининского.
Нам демонстрировали лучшее, что имелось в нашей стране в те времена, и мы, несмотря на робость, стеснение и даже благоговение, воспринимали это как должное. Мы совершенно не задумывались об обратной стороне этого блеска, о том, за счет чего процветала императорская семья, имея неоценимую возможность подавать пример истинного человеческого достоинства и прочих добродетелей. Мы были будто бы лошадками с глазами, плотно прикрытыми шорами.
Познакомившись через Георгия с моим будущим мужем, я, даже не задумываясь пока о замужестве, впитала в себя его поразительные идеи. Он часто бывал у Белинского и сочувствовал почвенникам, хотя не набрался смелости причислить себя к ним. Мой муж помог мне увидеть истинное плачевное положение в России.
Однако в моем сознании мирно уживались две ипостаси сурового императора Николая I. Даже сейчас, когда правит его внук Александр III, на сердце у меня становится теплее, когда я думаю об этом исполине, который водил нас по Зимнему, показывая детям «свою хатку». Но меня совершенно не удивляло то, что этот же человек держал всю страну в ежовых рукавицах, вытягивая из нее жизненные соки, как выражался мой муж.
Думаю, мы с Арсением были оба по-своему правы. Сожалею о том, что Николай I смотрел на подданных суровым оловянным взглядом, а не по-отцовски тепло, как на нас, институток. Возможно, тогда бы вся страна любила его по-детски отчаянно, а не только те, кто лично был им обласкан.
Дарина Стрельченко. «Чай, кофе, вино»
– Руку круглее, Алекс. Как будто держишь яблоко. Вот так…
Учиться надо долго и вдумчиво – она всегда говорила это детям. Только с годами, только через слёзы и отвращение, через стёртые пальцы и часы за инструментом появляются мысль и любовь – разве что ученик не гений. Сашка был не гений. Но он был фантастически упёртый, амбициозный звездолов, и Клара Игоревна часто вздыхала в учительской:
– Был бы помладше, взяла б на Чайковского.
– Так сейчас бери, – не без зависти советовали коллеги.
– Мало времени, – морщилась Клара. – Не успеть подготовиться.
К зиме об этих разговорах прознал сам Саша.
– Клара Игоревна, давайте поедем на Чайковского в будущем году. Я смогу!
– Туда тренируются годами, Алекс. Ты без году неделя знаком с инструментом!
Саша мрачнел, умолкал, приставал снова, но Клара была достаточно мудра, чтобы не поддаваться рыжекудрому обаянию. А в остальном всё шло отлично: они одолели элегию Металлиди и «Ариэтту» Скултэ, Санёк освоил вибрато, и звук стал удивительно живым. Однако к концу второго года жадная учёба всё же дала перегиб: стала болеть шея, пальцы стёрлись о струны, в сборнике попался неподдающийся «Танец» Бабаджаняна, и Сашка пошёл вразнос: начал прогуливать, отказывался заниматься дома.
Как-то вечером Кларе позвонила его мать – огненно-рыжая женщина с печальными глазами, – сказала, что им придётся выкупить школьный инструмент: Александр исчиркал деку чёрным маркером. Клара даже растерялась, но мать была растеряна ещё сильней: к концу разговора она почти плакала, умоляя повлиять, что-то сделать…
Клара попыталась: провела долгий разговор, после которого Саша не появлялся всю четвёртую четверть. Явился только на последний урок – угрюмый, злой, с гигантским букетом. Следом за ним шла мать.
– Клара Игоревна, мы решили, что больше не будем заниматься скрипкой, – уныло произнесла она. – Но мы вам очень благодарны, Саша говорит, вы чудесный педагог…
Ученик не глядя опустил на стол красные маргаритки в фольге. Потом всё-таки поднял глаза, зыркнул исподлобья.
– Оставьте нас на минуту, – вдруг попросила Клара. Дождалась, пока мать выйдет, и, понизив голос, сказала: – Слушай, Сашка. В ноябре конкурс Чайковского. Будем участвовать.
И он кивнул, и даже не сказал ни слова – как будто, так и надо.
…У них не было ни идиллии, ни тихих вечеров за инструментом. Были крики и ссоры, такие, что прибегала директор. Саша швырял ноты, Клара хлопала дверью, выставляя его вон, но он упорно возвращался на следующий день – с наломанной сиренью, с дешёвыми шоколадками, с маргаритками или с пустыми руками и глазами в пол.
– Давайте дальше, Кларигоревна.
И они продолжали, и летнее время до её отпуска пролетело незаметно. А через три недели они встретились снова – он выросший и загорелый, она тихая и опустошённая поездкой в родной городок.
– Клара Игоревна… Что-то случилось?
– Сначала собираешь, выигрываешь, копишь… – вздохнула она. – А когда вроде бы всё есть, даже понять не успеваешь, как начинаешь терять…
Сашка ничего не спросил; сам поставил чайник, сам сходил вымыть её вечно грязные кружки.
– Пейте.
– А ты?..
– А я поиграю.
С того дня ссоры сошли на нет, да и ссориться стало некогда: до конкурса оставалось три месяца. В первом туре Санька играл двадцать четвёртый каприс Паганини и вальс-скерцо Чайковского – за бесконечными повторениями ей даже перестал сниться бывший жених. Снился теперь Алекс – всегда отражение в зеркале, всегда со скрипкой, с идеальной постановкой рук, ног и спины.
…После того, как они отправили запись на заочный тур, Клара пригласила ученика в гости и всё восклицала:
– Что за манеры!
И шлёпала по рукам, вручая десертную ложку, и заставляла сидеть и есть торт как следует… Санька смеялся, они пили каркадэ из белых чашек, а из колонок неслась запись – вальс Ребикова и «Джульетта-девочка» Прокофьева, которые они выбрали для следующего концерта.
…После второго тура она поймала его за кулисами, усадила на плюшевый пыльный пуф, и, захлёбываясь, сжимая холодные, влажные от пота пальцы бормотала:
– Спина прямая, плечи расправлены, изгиб рук изящный, как у балерины, шея лебединая… Я смотрела на тебя из боковой ложи, Алекс, и думала: ты ли это? Совсем кавалер, Алекс… Совсем скрипач.
…После третьего тура она отпаивала его чаем в гостинице, где финалистам выделили целый этаж. Сашку била дрожь, и он всё спрашивал:
– Вторая? Ведь вторая же, Клара Игоревна?
– Вторая, Алекс! Пей, отогревайся… Ещё простыть не хватало, – едва сдерживаясь, говорила она, а пузырь счастья всё надувался внутри, давил на голосовые связки, делая голос сиплым, дрожащим.
– Вторая же, да?
– Вторая. Вторая! Вторая премия, Алекс! Пей…
***
Хоть Клара и говорила, что ученики её пойдут в консерваторию только через её труп, Сашка пошёл. Они разругались страшно. Он уехал, так и не получив её благословения, и год спустя не без страха стучал в знакомую дверь.
В кабинете визгливо замолкла скрипка, шаркал стул за учительским столом. Клара знакомым, летящим шагом подошла к дверям.
– Ольга Евгеньевна, чего тако… Ой! Алекс! Алекс… Проходи…
Она быстро свернула урок с белобрысой девочкой, с любопытством глазевшей из-под чёлки, выписала ей домашку и, напутствуя «Мизинец! Мизинец на грифе!», отпустила восвояси.
– Какая вы красивая! – вместо приветствия нервно произнёс Сашка.
Клара, смутившись, одёрнула тёмное с искрой платье.
– Сегодня играем в администрации… Сколько лет, сколько зим, Алекс! Не звонил, не писал…
– Так я думал… Клара Игоревна!.. Закрыл сессию – и сразу к вам… Вы сердитесь ещё?
– Алекс… – выдохнула она, пожимая его веснушчатую руку обеими своими. – Как ты там? Рассказывай!
Он некоторое время молчал, успокаиваясь, собираясь с мыслями. Провёл пальцем по лакировке скрипки, сел на привычное место у стола – неожиданно долговязый, не знающий, куда деть длиннющие ноги. Огляделся:
– Я смотрю, всё как прежде?
– Время у нас не торопится. – Клара притворила дверь, села на учительское место, украдкой глянув в зеркальную дверцу шкафа. – Тебе ли не помнить, музыке надо учиться…
– Долго и вдумчиво, – со смешком подхватил он. Наткнулся взглядом на свою грамоту за Чайковского.
– До сих пор храните?
– А как же. Такие грамоты у педагога случаются раз в карьеру.
Он покраснел.
– Я знаю, что делать, чтобы было два.
– Ну-ка, ну-ка?
– Давайте сыграем дуэтом. Я серьёзно, Клара Игоревна. Давайте. У них уже три года есть эта номинация. – У Сашки даже глаза загорелись, совсем как раньше. – Я всегда хотел играть с вами. По-настоящему играть…
– Алекс, – ласково протянула она, – не чепуши. Я тебе уже и в подмётки не гожусь.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.