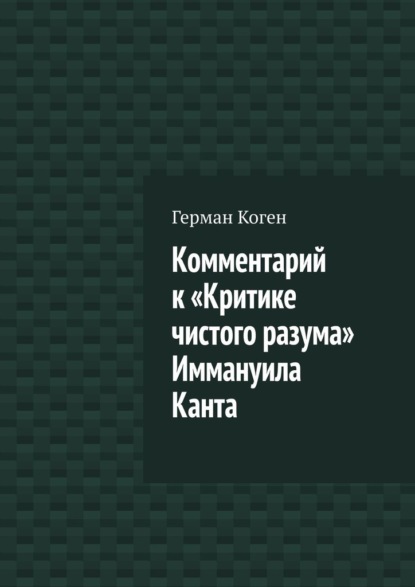- -
- 100%
- +

Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Герман Коген, 2025
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0067-4532-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Комментарий к «Критике чистого разума» Иммануила Канта Германа Когена
Герман Коген, основатель Марбургской школы неокантианства, в своём предисловии к комментарию «Критики чистого разума» (1907) предлагает не просто интерпретацию Канта, но радикальную переоценку трансцендентального метода, имеющую далеко идущие последствия для всей последующей философии. Его подход – это попытка очистить кантовский проект от психологизма, дуализма и метафизических наслоений, переосмыслив его в контексте научных достижений конца XIX – начала XX века. Коген настаивает на том, что «Критика чистого разума» – это не исследование субъективных процессов познания, а логика науки, выявляющая априорные условия возможности знания. Этот тезис становится краеугольным камнем неокантианства, противопоставляющего себя как эмпиризму и натурализму, так и спекулятивному идеализму.
Ключевой момент когеновской интерпретации – отказ от традиционного понимания «вещи в себе» как метафизической реальности. Для Марбургской школы это понятие становится чисто методологическим, обозначающим предел познания, заданный самим разумом. Такой подход предвосхищает конструктивные тенденции в современной эпистемологии, где знание понимается не как отражение реальности, а как активное конструирование. Это сближает Когена с позднейшими концепциями в философии науки, от операционализма Бриджмена до конструктивного эмпиризма ван Фраассена.
Антипсихологизм Когена, его резкое разделение логического и эмпирического, оказал значительное влияние на формирование феноменологии Гуссерля, который, однако, впоследствии критиковал неокантианство за излишний логицизм. В то же время марбургский акцент на априорных структурах нашёл отклик в ранней аналитической традиции, особенно у Витгенштейна и Карнапа, для которых вопрос о логических основаниях знания был центральным.
Но философские следствия когеновского прочтения Канта выходят за рамки академических дискуссий. Его идея о том, что философия должна быть строгой наукой о принципах, бросает вызов любым формам иррационализма, релятивизма или спекулятивной метафизики. В этом смысле неокантианство становится своеобразным интеллектуальным мостом между классической философией и модернистскими проектами XX века, от логического позитивизма до структурализма.
Однако радикальность Когена – одновременно и его слабость. Редукция трансцендентального к чистой логике, игнорирование проблематики субъективности и историчности познания вызвали резкую критику со стороны Хайдеггера, Дильтея и других мыслителей, утверждавших, что неокантианство утрачивает связь с жизненным миром. Тем не менее, даже в этой критике сохраняется диалог с когеновской парадигмой, что свидетельствует о её непреходящей значимости.
Неокантианство, возникшее как реакция на спекулятивный идеализм Гегеля и натуралистические тенденции XIX века, во многом опиралось на кантовские идеи, особенно на его акцент на эпистемологии и методологии науки. Разделы, посвящённые «Трансцендентальной эстетике» и «Аналитике понятий», подчёркивают роль априорных форм чувственности и рассудка в конституировании опыта, что стало центральным для марбургской школы неокантианства (Г. Коген, П. Наторп), которая интерпретировала Канта через призму логики научного познания. Баденская школа (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), в свою очередь, акцентировала ценностный аспект, что коррелирует с разделами о «Критике всех теологий из спекулятивных принципов» и «Идеале высшего блага», где Кант разграничивает знание и веру, науку и мораль.
Герман Коген в своем комментарии к предисловиям «Критики чистого разума» Канта раскрывает не только методологические и систематические основания трансцендентальной философии, но и выводит из них глубокие следствия для всего неокантианства и современной философии в целом. Анализ Когена демонстрирует, что кантовский проект – это не просто критика предшествующей метафизики, а радикальная переориентация самого способа философствования, переход от догматического утверждения бытия к критическому исследованию условий возможности познания. В первом предисловии Кант позиционирует свою работу как суд над метафизикой, который должен положить конец хаосу скептицизма и догматизма, установив «полную спецификацию согласно принципам». Однако уже здесь видно, что критика – не просто отрицание, а конструктивное усилие, направленное на обоснование метафизики как науки.
Второе предисловие, как отмечает Коген, знаменует методологический прорыв: Кант переосмысляет свою позицию, переходя от авторского утверждения к рефлексивному чтению собственного текста. Это предисловие становится ключом к пониманию трансцендентального метода, который Кант сравнивает с революциями в математике и физике. Греки, в отличие от египтян, совершили переворот, поняв, что познание – не пассивное восприятие, а активное конструирование. Галилей и Торричелли показали, что разум постигает лишь то, что сам создает по своему замыслу. Этот принцип Кант переносит на метафизику: объекты должны сообразовываться с нашим познанием, а не наоборот. Тем самым он радикально пересматривает традиционное понимание объекта как «данного», заменяя его концепцией объекта как продукта синтеза рассудка и чувственности.
Коген подчеркивает, что этот подход имеет фундаментальные последствия для неокантианства. Если познание не отражает готовый мир, а конституирует его, то философия должна сосредоточиться на анализе априорных структур сознания, которые делают возможным опыт. Это приводит к отказу от наивного реализма и к признанию активной роли субъекта в познании. Однако Кант не останавливается на этом: он показывает, что метафизика не сводится к теории познания, но включает в себя и проблему «безусловного» – того, что лежит за пределами опыта. Здесь возникает знаменитое различение между «явлением» и «вещью в себе», которое Коген интерпретирует не как дуализм, а как методологическое разграничение двух типов познания: теоретического (ориентированного на природу) и практического (ориентированного на свободу).
Ключевой момент, на который обращает внимание Коген, – это кантовский переход от спекулятивного разума к практическому. Если теоретический разум не может познать душу, Бога или свободу, то практический разум открывает для них пространство через моральный закон. Таким образом, «вещь в себе» оказывается не скрытой сущностью, а задачей, которую ставит перед нами разум. Этот ход имеет огромное значение для неокантианства: он позволяет сохранить метафизику, не впадая в догматизм, и обосновать этику как автономную сферу. Коген видит в этом основу для дальнейшего развития трансцендентальной философии, которая должна двигаться не к редукции знания к чувственному опыту (как в позитивизме), а к углубленному анализу априорных условий как познания, так и действия.
Философские следствия этого подхода для современной мысли огромны. Во-первых, Кант (и вслед за ним Коген) отвергает наивную веру в то, что философия может непосредственно описывать бытие; вместо этого она должна исследовать условия, при которых бытие может быть помыслено или познано. Во-вторых, различение теоретического и практического разума становится основой для автономии этики: моральные законы не выводятся из природы, а имеют собственное основание в разуме. В-третьих, кантовская критика метафизики не ведет к ее упразднению, а открывает путь к новому пониманию – как критической рефлексии о границах и возможностях человеческого разума.
Коген, как представитель марбургской школы неокантианства, развивает эти идеи дальше, акцентируя роль логики и методологии в философии. Для него кантовский трансцендентальный метод – это не просто анализ субъективных условий познания, а исследование объективных структур научного мышления. Таким образом, неокантианство становится мостом между классической философией и современной эпистемологией, показывая, что критика разума – это не конец метафизики, а начало нового способа философствования, в котором центральное место занимает проблема обоснования знания и действия. В этом смысле комментарий Когена к Канту – не просто историко-философский анализ, а живой диалог, продолжающий определять развитие философской мысли и сегодня.
Герман Коген в своем комментарии к «Критике чистого разума» Канта осуществляет глубокий анализ текста, выявляя не только его структуру и логику, но и философские импликации, которые оказали существенное влияние на неокантианство и современную философию. Коген обращает внимание на стилистические и содержательные изменения между первым и вторым изданиями «Критики», подчеркивая, как Кант стремится к большей ясности и точности в формулировках, особенно в отношении ключевых понятий, таких как «опыт», «a priori», «синтетические суждения» и «трансцендентальное».
Начало «Критики» Коген интерпретирует как попытку Канта избежать недоразумений, связанных с его отношением к опыту. Кант подчеркивает, что всякое познание начинается с опыта, но не сводится к нему, что позволяет ввести различие между эмпирическим и априорным познанием. Коген отмечает, что Кант не просто противопоставляет эти два вида познания, но и раскрывает их взаимосвязь, особенно в контексте научного знания. Априорные элементы, такие как необходимость и всеобщность, не отменяют опыт, но делают его возможным, придавая ему структуру и достоверность.
Особое внимание Коген уделяет проблеме синтетических суждений a priori, которые, по Канту, лежат в основе математики и естествознания. Эти суждения не выводятся из опыта, но и не являются аналитическими, то есть их истинность не основана на законе противоречия. Вопрос о том, как возможны такие суждения, становится центральным для трансцендентальной философии. Коген подчеркивает, что Кант не просто констатирует их существование, но и раскрывает их роль в конституировании научного знания. Например, математические истины возможны благодаря априорным формам чувственности (пространству и времени), а принципы естествознания – благодаря категориям рассудка.
Коген также анализирует кантовское понимание метафизики, которая, с одной стороны, претендует на познание сверхчувственного (Бог, свобода, бессмертие), а с другой – сталкивается с противоречиями, когда выходит за пределы возможного опыта. Кант критикует традиционную метафизику за ее догматизм, но при этом сохраняет ее как «природную склонность» человеческого разума. Задача критической философии – установить границы разума, чтобы метафизика могла стать наукой, то есть системой синтетических суждений a priori, но уже не в спекулятивном, а в практическом ключе (в области морали).
Важнейшим концептом, который Коген детально разбирает, является «трансцендентальное». Кант определяет его как познание, направленное не на объекты сами по себе, а на условия их познания a priori. Коген отмечает, что во втором издании «Критики» Кант уточняет это определение, смещая акцент с «априорных понятий» на «способ познания». Это изменение отражает более радикальный подход: объекты науки конституируются самим познанием, а не даются извне. Таким образом, трансцендентальная философия становится исследованием условий возможности науки, а не метафизикой в традиционном смысле.
Коген также обращает внимание на кантовское разделение чувственности и рассудка как двух «стволов» познания, которые, возможно, имеют общий корень. Это разделение фундаментально для трансцендентальной методологии: чувственность обеспечивает данность объектов, а рассудок – их мыслимость. Однако вопрос о единстве этих способностей остается открытым, что имеет далеко идущие последствия для последующей философии, включая неокантианство.
Философские следствия анализа Когена значительны. Во-первых, его интерпретация Канта подчеркивает активную роль познающего субъекта в конституировании объекта, что предвосхищает центральные темы неокантианства (особенно Марбургской школы, к которой принадлежал сам Коген). Во-вторых, его акцент на методологической строгости и научности трансцендентального подхода повлиял на современную эпистемологию, включая дискуссии о природе априорного знания. В-третьих, его анализ синтетических суждений a priori и их роли в науке остается актуальным для философии математики и естествознания.
Таким образом, комментарий Когена не только проясняет кантовскую «Критику», но и раскрывает ее потенциал для дальнейшего развития философской мысли, демонстрируя, как трансцендентальный метод может быть применен к проблемам науки, метафизики и этики.
Трансцендентальная эстетика.
Герман Коген в своем комментарии к «Критике чистого разума» Канта предпринимает глубокий анализ трансцендентальной эстетики, раскрывая ее философские следствия для неокантианства и современной философии. Центральным для его интерпретации является понятие синтетического суждения a priori, которое у Канта выступает как условие возможности научного опыта. Коген подчеркивает, что это понятие указывает на активное полагание и вкладывание, посредством которых научный опыт конституирует свои объекты. Таким образом, трансцендентальное познание у Канта – это не пассивное отражение реальности, а активное структурирование опыта через априорные формы чувственности и рассудка.
Коген обращает внимание на двойственность кантовского подхода к чувственности: с одной стороны, Кант стремится согласовать свою теорию с обыденным эмпирическим опытом, а с другой – утверждает необходимость чистого созерцания как условия математического познания. Это приводит к сложному взаимодействию между эмпирическим и априорным, между ощущением и чистым созерцанием. Коген критически оценивает кантовское использование термина «созерцание» (Anschauung), отмечая его неоднозначность у предшественников (Платона, Декарта) и подчеркивая, что для Канта ключевым является именно чистое созерцание как условие синтетического познания a priori.
Важным моментом в интерпретации Когена является критика кантовского понятия «данности» (Gegebenheit). Кант, стремясь учесть эмпирический аспект познания, говорит о воздействии объекта на субъект, что создает видимое противоречие с идеей активного вкладывания форм чувственности. Коген, однако, утверждает, что это кажущееся противоречие разрешается, если понимать «воздействие» не как пассивное восприятие, а как корреляцию между активностью субъекта и структурой опыта. Таким образом, даже эмпирическое созерцание оказывается опосредованным априорными формами.
Анализируя кантовское учение о пространстве и времени, Коген акцентирует их роль не просто как субъективных форм, а как условий возможности научного познания. Пространство, будучи чистым созерцанием, является основой геометрии, а время – условием механики. При этом Коген подчеркивает, что Кант не сводит пространство и время к психологическим феноменам, а рассматривает их как трансцендентальные структуры, делающие возможным объективное знание. В этом контексте Коген критикует попытки интерпретировать кантовский трансцендентальный идеализм как субъективный идеализм в духе Беркли, указывая на то, что пространство и время у Канта обладают эмпирической реальностью, хотя и лишены абсолютного статуса вещей в себе.
Особое внимание Коген уделяет различию между чувственностью и рассудком, подчеркивая, что оно не просто логическое, а трансцендентальное, то есть касается самого способа конституирования опыта. Это различие становится ключевым для неокантианства, которое развивает кантовскую идею активности познания, отказываясь от любых наивно-реалистических трактовок опыта. В этом смысле Коген видит в Канте предтечу современной философии, которая отказывается от метафизических допущений о «вещах в себе» и сосредотачивается на анализе условий возможности познания.
Коген также обращает внимание на проблему внутреннего чувства и времени, отмечая, что время как форма внутреннего созерцания позволяет структурировать не только внешний опыт, но и самосознание. Однако, в отличие от интеллектуального созерцания, которое Кант приписывает только божественному разуму, человеческое созерцание всегда опосредовано чувственностью. Это ограничение, по Когену, не является недостатком, а, напротив, определяет специфику человеческого познания, которое всегда связано с формами пространства и времени.
В заключительных разделах Коген обсуждает значение кантовской философии для современной науки, особенно для математического естествознания. Он подчеркивает, что кантовский трансцендентальный метод позволяет обосновать объективность научного знания, не впадая ни в догматический реализм, ни в субъективный идеализм. Это делает кантовский подход особенно актуальным для философии науки XX века, которая сталкивается с проблемами обоснования математики и физики.
Трансцендентальная логика.
Комментарий Германа Когена к «Критике чистого разума» представляет собой глубокий и аналитический разбор раздела «Трансцендентальная логика». Коген стремится выявить методологические корни кантовской философии, проследить развитие ключевых понятий (таких как трансцендентальное, синтез, апперцепция, категория) и показать их взаимосвязь. Он обращает особое внимание на эволюцию кантовских идей между первым и вторым изданиями «Критики», подчеркивая изменения в акцентах и терминологии. Коген четко фокусируется на системном единстве кантовской философии и ее связи с наукой, особенно с математикой и физикой.
Структура и содержание:
Комментарий Когена можно разделить на следующие основные тематические блоки:
Введение: Коген начинает с методологического обоснования приоритета учения о чувственности и пространства в контексте связи Канта с Лейбницем и Декартом. Этот раздел закладывает основу для понимания генезиса кантовских идей.
Разграничение логики: Коген анализирует различение общей и трансцендентальной логики, подчеркивая, что последняя имеет дело с «источником нашего познания предметов». Это ключевой пункт для понимания трансцендентальности.
Введение понятия трансцендентального: Коген критически рассматривает определение трансцендентального, отмечая постепенную эволюцию этого понятия в кантовской мысли. Он выделяет роль синтеза и возможности познания.
Трансцендентальная аналитика и диалектика: Коген разделяет аналитику (логику истины) и диалектику (логику видимости). Он подчеркивает важность синтетического суждения и его отношения к предмету.
Таблица суждений и категорий: Коген подробно анализирует таблицы суждений и категорий, выявляя их внутреннюю методическую связь и критикуя возможные догматические элементы. Он отмечает важность систематического единства.
Трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий: Коген сосредотачивается на объяснении дедукции категорий и ее различии от эмпирической дедукции. Он показывает, как категории становятся «условиями априори возможности опытов» и связаны с наукой.
Второй вариант: трансцендентальной дедукции (второе издание): Коген тщательно анализирует изменения в переработанной дедукции, подчеркивая роль синтеза, соединения и апперцепции. Он показывает, как самосознание и суждение связаны с категориями.
Воображение и его роль: Коген исследует роль воображения как связующего звена между чувственностью и рассудком. Он подчеркивает его важность для синтеза и единства познания.
Наука и опыт (второе издание): Коген акцентирует внимание на том, как категории должны служить средством мышления научного опыта и взаимосвязи между «опытом вообще» и «частными законами опыта».
Первое издание дедукции (сравнение): Коген проводит сравнительный анализ первого и второго изданий «Критики», выявляя различия в подходе и акцентах. Он подчеркивает роли синтеза, репродукции, рекогниции, и апперцепции.
Заключение: Коген подчеркивает стремление Канта к идеалистической объективации, подчеркивая роль правил, синтеза и закона в научной картине мира.
Сильные стороны:
Глубокий анализ: Коген демонстрирует глубокое понимание кантовской философии, выявляя сложные взаимосвязи между понятиями и структурами.
Методологический подход: Коген уделяет большое внимание методологии Канта, показывая, как он выстраивает свои аргументы.
Внимание к деталям: Коген внимательно анализирует терминологию Канта, выявляя тонкости и изменения.
Аналитика основоположений.
Комментарий Германа Когена к «Аналитике основоположений» в «Критике чистого разума» Канта представляет собой глубокую интерпретацию трансцендентальной логики, сосредоточенную на проблеме синтетического познания и его условий. Коген подчеркивает, что основоположения – это не просто предпосылки, но активные структуры, организующие познание, и что вся предшествующая аналитика (эстетика и дедукция категорий) является лишь подготовкой к их раскрытию. Ключевой момент – переход от рассудка как источника категорий к способности суждения как механизму их применения к явлениям. Этот переход знаменует собой сдвиг от метафизического обоснования к трансцендентальному, где способность суждения выступает как «талант» подведения под правила, требующий критического руководства со стороны логики.
Центральной проблемой становится схематизм чистого рассудка, который Коген анализирует с пристальным вниманием к его двойственной природе. Схема – это «третье», опосредующее между категорией и созерцанием, интеллектуальное и чувственное одновременно. Коген отмечает, что Кант, вводя схему как «трансцендентальное определение времени», неявно опирается на уже задействованные в дедукции элементы – время и продуктивное воображение. Однако здесь возникает терминологическая напряженность: схема то отождествляется с временем как формой созерцания, то называется «продуктом воображения», что создает путаницу. Коген акцентирует, что схема – не образ, а правило синтеза, метод воображения, который структурирует созерцание согласно категориям. Это «скрытое искусство в глубинах души», но не психологический процесс, а трансцендентальный механизм, обеспечивающий объективность познания.
Особый интерес вызывает анализ схем для отдельных категорий. Например, схема количества – число – раскрывается как порождение времени через синтез однородного, что корректирует пробел эстетики, где время не было явно связано с числом. Схема реальности, связанная с ощущением, интерпретируется как «наполнение времени» градуированными степенями, что подчеркивает динамический аспект категорий: они не просто классифицируют, но конституируют интенсивность опыта. Схемы субстанции и причинности, в свою очередь, показывают, как время становится субстратом для устойчивости и последовательности явлений, а не просто формой их данности.
В системе основоположений Коген выделяет их роль как условий возможности опыта, которые одновременно являются условиями объектов опыта. Это ключевой тезис, преодолевающий субъективизм: объективность возникает не из соответствия «вещам в себе», а из структур самой познавательной деятельности. Математические основоположения (аксиомы созерцания и антиципации восприятия) обеспечивают количественную и качественную определенность явлений, тогда как динамические (аналогии опыта) – их существование во времени. Коген обращает внимание на тонкие изменения в формулировках между изданиями «Критики», например, смещение акцента с «ощущения» на «реальное» в антиципациях, что отражает борьбу Канта с психологизмом.
Коген, как основатель марбургской школы, развивает кантовский трансцендентализм в сторону логизации познания: схематизм становится прообразом логического конструирования объекта, а не психологического процесса. Это предвосхищает later developments в философии науки, где a priori structures заменяются исторически изменчивыми conceptual frameworks (как у Куна или Кассирера). Кроме того, акцент на активности рассудка и воображения повлиял на феноменологию (Гуссерль) и герменевтику (Хайдеггер), которые, однако, критиковали Канта за «забытие» временности Dasein или жизненного мира.
Коген также подчеркивает, что кантовский схематизм – это не статичная данность, а динамический процесс «порождения» времени и его содержания, что созвучно современным теориям перформативности и энактивизма в когнитивной науке. Проблема применения категорий к чувственности трансформируется в вопрос о том, как концептуальные схемы «схватывают» опыт, – центральный для аналитической философии (Куайн, Селларс).
Таким образом, комментарий Когена не только проясняет кантовскую теорию познания, но и открывает пути для ее критического переосмысления в XX веке, показывая, что трансцендентальный метод – это не догма, а живая традиция, ставящая под вопрос границы между логикой, онтологией и антропологией.