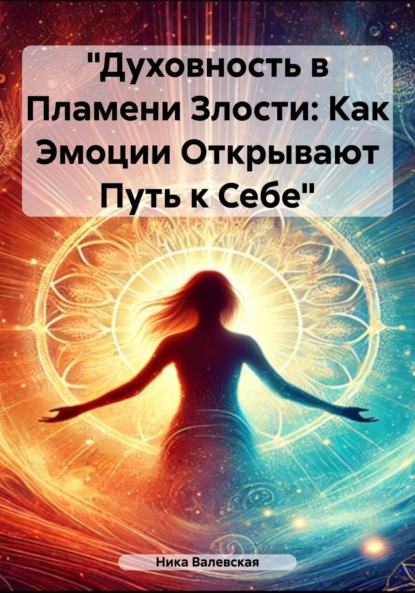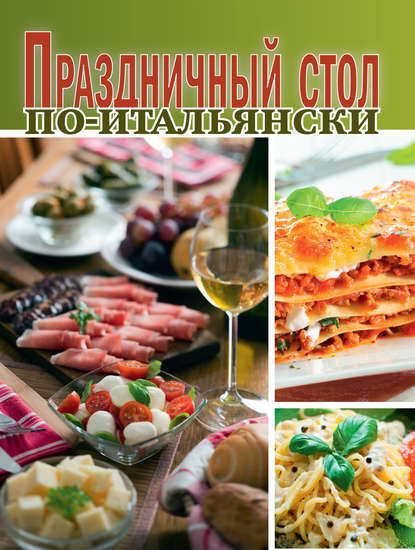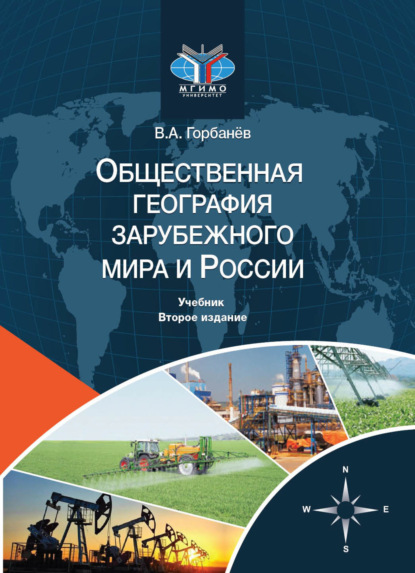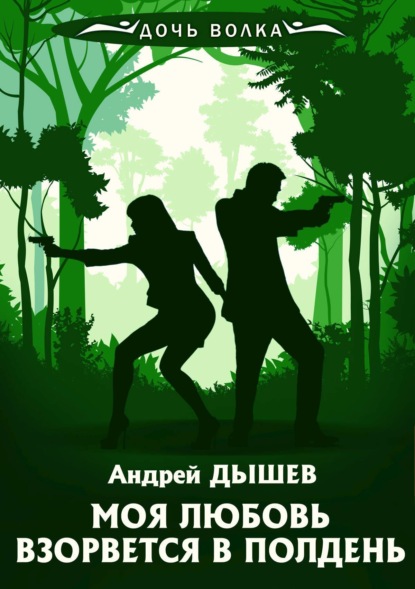Этика Канта
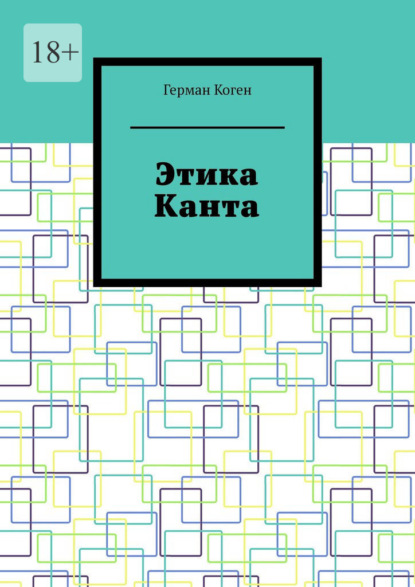
- -
- 100%
- +

Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Герман Коген, 2025
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0067-4678-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Обоснование этики канта вместе с её применением в праве, религии и истории
Герман Коген, основатель марбургской школы неокантианства, в своей работе «Kants Begründung der Ethik nebst ihren Anwendungen auf Recht, Religion und Geschichte» («Обоснование этики Канта вместе с её применениями к праву, религии и истории») предпринимает глубокий анализ кантовской этики, раскрывая её систематическую связь с другими сферами философского знания. Коген не просто интерпретирует учение Канта, но и развивает его, демонстрируя, как категорический императив может быть применён к правовым, религиозным и историческим вопросам.
Центральное место в исследовании занимает кантовское понятие автономии воли, которое Коген рассматривает как основу этики. Он подчёркивает, что моральный закон у Канта не является внешним предписанием, а вытекает из разумной природы самого человека. Это позволяет Когену утверждать, что этика Канта – это этика свободы, где долг и автономия не противоречат друг другу, а взаимно обусловливают друг друга.
Особое внимание Коген уделяет связи этики с правом. Он показывает, что кантовская идея правового государства коренится в моральном законе: право должно быть организовано так, чтобы максимально соответствовать принципам автономии и универсализуемости. При этом Коген критически переосмысляет кантовский дуализм морали и права, стремясь к их более глубокому синтезу в рамках систематической философии.
В разделе, посвящённом религии, Коген интерпретирует кантовскую «Религию в пределах только разума» как продолжение его этики. Он утверждает, что религия у Канта не противоречит разуму, а является его практическим применением, поскольку нравственный закон требует постулирования высшего блага и морального миропорядка. Таким образом, религия становится этикой в её историческом и социальном измерении.
Наконец, Коген рассматривает применение кантовской этики к философии истории. Он доказывает, что идея прогресса у Канта основана на моральном требовании реализации свободы в истории. История, по Когену, должна пониматься как процесс постепенного воплощения этических принципов в социальных и политических институтах.
В целом, работа Когена представляет собой не только глубокий анализ кантовской этики, но и её творческое развитие, демонстрирующее универсальность моральной философии Канта. Коген показывает, что этические принципы не ограничиваются индивидуальной совестью, а пронизывают все сферы человеческого существования – право, религию и историю, – что делает их фундаментом для систематической философии.
Предисловие к первому изданию
Настоящая книга является продолжением моих усилий по восстановлению кантовской философии. В этом смысле я предпринял интерпретацию учения Канта об опыте; и в том же направлении теперь пытаюсь разъяснить его этику.
Не только для собственного оправдания, но и как методологическую позицию я осмелился высказать тезис о том, что углубление в труды критического идеализма и самостоятельное продвижение систематической философии взаимно требуют и обусловливают друг друга. И эта позиция была выражена точнее и определённее, чем просто утверждение, что любая новая попытка, как гласит формулировка, должна «разбираться с Кантом».
Эти исследования поэтому удостоились названия «филологических»; тем самым, однако, сместился смысл той позиции о единой двойной задаче, и вновь была поддержана иллюзия неметодической самостоятельности. Насколько до сих пор успех исследований, посвящённых более точному пониманию Канта, был исключительно или преимущественно на пользу литературному интересу «кантовской филологии»; или же затронули ли они прояснение и дальнейшее развитие философских проблем – решать не моя задача. Само это различение, поскольку речь идёт о главных пунктах, основывается на том ложном представлении об историческом Канте прошлого. Для меня же кантовская философия означает не что иное, как философию как науку. А наука, конечно, должна быть догматикой, но не догмой и не остаётся чтением документов. Наука есть идеал системы, основанный на последовательной методической работе.
Тот же, кто оспаривает у наук их собственную научную ценность; кто допускает, чтобы классический вопрос критицизма решался в том смысле, что науки являются науками лишь не через, а как философия, – для эмпиристов такого рода кантовская философия, конечно, покажется догматической; ибо для этих извращений, которые не раз и в различных выражениях подкупали философский пыл, критический метод абсолютно не терпит ни снисхождения, ни укрытия.
Как научная истина, равная по значению одному из логических основоположений – чья формулировка остаётся открытой для науки формальной логики – для меня значим принцип трансцендентального метода. Однако относительно него до сих пор не достигнуто согласия: и подобно тому, как у учёных мужей «трансцендентальное» всё ещё сохраняет душок «трансцендентного», так и среди специалистов нет общеизвестного точного взгляда на значение и содержание этого основоположения. Пока же не достигнуто понимание этого ключевого пункта, меня нисколько не удивляет, что развитие и обсуждение кантовских идей рассматривается не как философия, основанная на установленном методе, а как филологическая работа, рядом с которой, в лучшем случае, должна идти самостоятельная разработка проблем. Пока не понято, что лишь трансцендентальная постановка вопроса способна привести философию в последовательное движение науки, защиту Канта неизбежно будут считать догматической. Меня столь же мало удивило бы, если бы в литературе споров о «Philosophiae naturalis principia mathematica» встретилось утверждение, что их защитники занимаются ньютоновской филологией.
Конечно, флюксионное исчисление было подготовлено открытиями той эпохи настолько энергично и освещено всесторонне, что критика Беркли не могла его поколебать.
Трансцендентальный же вопрос, напротив, даже в отношении Ньютона должен казаться предвосхищением, хотя он лишь выражает то, как до сих поступал человеческий разум. Состояние наук, особенно общей литературы, даже после ухода Канта не было таково, чтобы этот трезвый вопрос, как его понял Шиллер, мог стать очевидным и побудить к последованию.
Обладают ли наши дни терпеливой осмотрительностью, научной скромностью и твёрдой силой, которая смело берётся за поворотный пункт, от которого, однако, должно исходить всякое новое движение?
Без основательной ориентации в исследованиях, которые содержит насчитывающая тысячелетия история глубочайших, самовоспроизводящихся идей, без точного, а порой и вовсе без знания кантовской системы, чью эпохальную значимость всё же знают понаслышке, ныне даже серьёзные исследователи занимаются философствованием. С этим самодеятельным философствованием должно быть покончено: мир, заключённый в отношении метода, должен установить закономерный порядок, в котором самостоятельность найдёт своё общезначимое и самоочевидное ограничение, как во всех науках. Нужно перестать бояться подражания в следовании; из страха быть чернорабочим – строить карточные домики; нужно презирать собирание плевел и жнивья чужих мыслей в стремлении к собственному; ибо таковыми становятся лучшие идеи, вырванные из своей почвы.
Как только будет понято, что философия может овладеть вечно значимым методом столь же бесспорно, как математика овладела им, тогда исчезнет это вводящее в заблуждение смешение метода и догмы; и единство, которое существует в методе между кантовской философией и философией вообще, станет достоянием знания.
Тогда же можно будет с должным успехом обсуждать и детально устанавливать вопрос: в каких понятиях, какими средствами и вспомогательными приёмами должно осуществляться применение этого всеобщего метода; равно как и какие результаты и в каких выражениях утверждаются системой критического идеализма, какие понятия, напротив, отбрасываются, а какие должны быть заменены другими.
А пока я, не смущаясь подозрением в самовольном присвоении имени Канта своим трудам, пытаюсь изложить учение Канта; пытаюсь в соответствии с критическим методом и в связи с кантовскими словами самостоятельно разрабатывать философские проблемы. Форма этой связи может быть, на мой взгляд, более свободной: будь то, как удачно пробовал А. Штадлер; будь то, как предпочёл Апельт, говоря кантовскими словами, не обозначая их как таковые. Ведь не говорят же: А = А по Аристотелю.
Не случайным симптомом правильности критического метода является то, что он в учении об опыте одновременно обосновывает возможность этики. Поскольку настоящая книга берётся изложить, защитить и отстоять кантовское, то есть теоретико-познавательное обоснование этики, то с психологической самоочевидностью в ней присутствует движение собственных разработок. Плох был бы метод, который лишь можно переписывать; который не допускает более точного уточнения самого себя и более изящного исполнения в применении. Отклонения от автора метода, предпринятые здесь в мыслях и словах, указаны в соответствующих местах, как того требует связанная с систематической задачей филологическая работа.
Я не сопровождаю книгу пожеланием; ведь и так, кажется, морали подобает место благочестивым желаниям. Следовало бы требовать и вправе ожидать, что эпоха, которая из лабораторий рассуждает о теории познания и этике, проявит к попытке реконструкции кантовского обоснования этики тот интерес, который все времена обязаны Канту.
Марбург, сентябрь 1877 г.
Автор.
Предисловие ко второму изданию
После того как более тридцати двух лет назад вышло первое издание этой книги, теперь она появляется во второй раз и в расширенном виде. Этому факту мы можем радоваться не только в отношении данной книги, но не в меньшей степени и в отношении всего направления, которое стремится к восстановлению кантовской философии на основе трансцендентальной методологии. В последней мы видим вечную ценность кантовского духа. Всё остальное может быть суетным делом рук человеческих, подверженным историческим изменениям. Лишь истинный метод, подтверждённый историей, является свидетельством человеческого разума, который вечен и который делает бессмертными и неисчерпаемыми также и тех индивидов, которые его возвышают.
Если уже в отношении отдельных понятий и положений в учении Канта действует приговор истории, то не может вызывать удивления, что его переход от принципов к их применению в исторической действительности нравственного мира должен был столкнуться с серьёзными сомнениями и затруднениями. Ведь это самые сложные проблемы человеческой культуры, которые здесь встают перед этической теорией. И именно в этом заключается глубочайшая и яснейшая культурная ценность трансцендентальной методологии: она устанавливает свою непосредственную связь с фактом математического естествознания, тогда как для всех других видов духовной культуры она в методологической ясности и рациональной добросовестности осознаёт отсутствие аналогичного, равноценного факта.
Тем не менее, этика должна была быть построена, и её учение изложено в открытой, ясной систематике. Все основные принципы были оценены в ней с тщательной проверкой их познавательной ценности, а также их вклада в единство этики, везде восходя к последнему основанию. Однако Кант, после чистого полёта теории, хотя и она сама мощно устремлялась к применению, тем не менее, сам желал провести смотр важнейших эмпирических фактов нравственного духа, определить и прояснить меру значимости принципов в них. Здесь, конечно, стало слишком очевидно, что означает различие в факте наук и, тем более, в фактах духовных проблем вообще при оценке их познавательной ценности. И опасность стала ещё более запутанной из-за того, что этот смотр не остался чисто теоретическим, но смешался, как особенно в случае религии, с политической целью.
Теперь я должен был взять на себя задачу исследовать и эту работу его поздних лет. В более раннем возрасте я сам не осмелился бы взяться за это. Но так же, как и в первом издании я не мог удержаться от предложения исправлений в важных местах, так и здесь читатель найдёт ещё меньше нарушений единства стиля, поскольку в этой новой части изложение и критика стали свободнее и острее. Как тогда, так и теперь, по крайней мере, преобладало стремление к тому, чтобы благодаря беспощадной критике выводов понимание и защита основ становились всё более ясными и убедительными.
Что касается прочих улучшений, то они частично состоят в стилистических изменениях, в которых я стремился к более лёгкому пониманию и точной чёткости, частично – в более значительных дополнениях, которые стали необходимыми после второго издания «Теории опыта Канта», особенно в учении о вещи в себе для области телеологии. Я также не упустил возможности указать на связанные с этим проблемы в моей «Логике чистого познания», а также в «Этике чистой воли».
Пусть же эта книга в новом виде привлечёт новых последователей духу Канта. Мировая ситуация не может вечно уклоняться от этого влияния; ведь научный разум и вера в его суверенность, которые едины с ним, не угасают в человечестве. Нынешнее время остро нуждается в этом фундаментальном воздействии во всех областях и для всех вопросов культуры.
Поэтому со всей подобающей скромностью, но и с твёрдой уверенностью, можно сказать для укрепления мужества среди молодых сотрудников: прогресс научного идеализма неостановим. Будем же сохранять нравственное мужество и подлинное историческое терпение. Будем, не сбиваясь с пути ослепляющим искушением оппортунизма, угождающего современности, всегда устремлять взгляд вверх, на уверенный и неуклонный ход истории, как Кант выразил это во втором предисловии. Будем хранить нерушимым и как высшую святыню ясную веру в научную истину и в единственную надёжность её методологии для всех вопросов человеческого духа и человеческого сердца. И докажем силу этого систематического убеждения в единой работе над культурой. Будем искать и содействовать в этой всесторонней однородности популяризации нашей философии. Но прежде всего сделаем её плодотворной в основательной работе над проблемами системы и в глубоком исследовании её истории. Тогда наука во всех её отраслях и общая культура в целом постепенно сами придут к пониманию того, какую незаменимую ценность способна принести научная философия, обладающая своей неоспоримой методологией, для всех наук и для всей культуры в целом.
Науки и общая культура, как бы близоруко они ни относились к всемирно-исторической философии, в силу собственного хода своей истории будут вынуждены вновь и вновь задумываться над своими принципами: от зрелости, с которой это произойдёт, в конечном счёте зависит решение о том, когда трансцендентальная методология будет признана единой основой всей философской работы над всеми проблемами культуры. Непревзойдённым остаётся то, что Шиллер говорит об основах Канта: «Сколько существует человеческий род и сколько существует разум, его молчаливо признавали и в целом действовали согласно ему».
Относительно цитат следует сказать, что, как и в первом издании, «Критику чистого разума» я цитировал по изданию Гартенштейна 1868 года, остальные же произведения Канта – по изданию Розенкранца. Однако при любезно предоставленной мне помощи я везде добавил пагинацию издания Дюрра.
Марбург, февраль 1910 года.
Герман Коген.
Введение
Разделение задачи
Кант утверждал, что логика со времен Аристотеля не сделала ни шага назад, – тезис, вызвавший множество споров. С большим правом он мог бы сказать, что этика со времен Платона не продвинулась вперед.
В этом высказывании Канта отражается как двусмысленная самостоятельность логики, так и ее скудное содержание, которое должно подробно излагать и строго доказывать лишь «формальные правила всякого мышления», но зато противопоставляется «наукам, собственно и объективно так называемым» [1]. Однако как обстоит дело с отношением логики не столько к наукам, сколько к метафизике, поскольку последняя исследует «происхождение» и «значимость» познания, и прежде всего познания в науках? Здесь возникает великий вопрос, от которого не могут уклониться даже высшие законы мышления: или, быть может, они уже содержатся в тех «правилах всякого мышления»? Кант решает этот вопрос своим разделением «трансцендентальной» логики и «общей». Соответственно, для Канта логика отныне принадлежит к сфере метафизики.
Напротив, между метафизикой и моральной философией с самого начала существовала глубокая, хотя и всегда оспариваемая связь. Установить это отношение – высшая заслуга Платона; и идея блага (ιδέα τού αγαθού) является столь же глубоким выражением критического ядра учения об идеях, сколь и точным следствием этого учения для обоснования этики. Смелое и многозначное выражение «по ту сторону сущего» (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας) обозначает проблему этики в ее связи с исследованиями о понятии бытия. Одним словом ἐπέκειна систематическая проблема формулируется в самом уязвимом пункте: отношение реальности опыта к тому виду значимости, который присущ сверхчувственному.
Это и остается вопросом этики. И тот, кто решает его в том смысле, что отвергает для этики проблему сверхчувственного, именно в этом противопоставлении признает неотвратимую связь моральной философии с метафизикой. Даже Юм не избегает этого, связывая свой трактат о принципах морали с вопросом, основывается ли наше нравственное суждение на разуме (reason) или на чувстве (sentiment).
Однако в этих выражениях уже заметно отклонение, ослабление и смещение вопроса. Этот пункт требует предварительного обсуждения даже в этом введении.
Конечно, не случайно, что эмпиристы и спиритуалисты и поныне, как во времена Платона, спорят о происхождении познания. Тот, кто признает чувственность единственным корнем познания, ставит под угрозу значимость тех идей, которые лишь с помощью рискованных посредств могут быть истолкованы как порождения опыта. А тот, кто учит о разуме, не всегда связанном с чувственностью и не сохраняющем методической связи с ее законами даже там, где она идет своим путем или, быть может, совершает свой полет, – подрывает основу всякого познания, фундамент опыта.
Обнаружив в самой чувственности априорное, Кант осознал, что тем самым лишил силы догматический идеализм. «Тем самым рушится весь мечтательный идеализм, который (как это уже видно у Платона) всегда выводил из нашего априорного познания (даже геометрического) другую (а именно интеллектуальную) интуицию, отличную от чувственной, потому что никому не приходило в голову, что и чувства могут созерцать a priori» [2]. Следовательно, под критическим знаменем лозунг уже не может звучать: «разум или чувственность». Ибо априорное, присущее обоим, означает общий для них закон и общий для них метод – метод чистоты, но не свидетельство о рождении. Вопрос будет скорее касаться реальности, которая и каким образом может быть объективирована из обоих источников посредством того же самого закона и того же самого метода.
Спор об источниках познания вращается вокруг понятия бытия, понятия реальности. На языке Платона можно было бы сказать: проблема субстанции (οὐσία) – это проблема познания (ἐπιστήμη); и отнюдь не в глубочайшей и последней основе вопрос о связи или даже тождестве последнего с восприятием (αἴσθησις).
Применительно к этике вопрос звучал бы так: идея (ἰδέα), и только она, есть οὐσία, образы которой мы обычно называем ὄντα: следует ли и идею блага (ἰδέα τού ἀγαθού) мыслить как οὐσία, хотя на земле видны лишь ее тусклые отражения?
Платоновское решение содержится в загадочных словах: истина (ἀλήθεια) идеи блага лежит по ту сторону (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας); и все же, поскольку она есть идея и поскольку она как идея – ведь существует восхождение от бытия к истине – «превосходит достоинством и силой» (δυνάμει καί πρεσβεία ὑπερέχουσα), она есть высшее, подлиннейшее бытие. То, как точнее определить эту гиперболу, мы и ставим здесь своей задачей.
Для Аристотеля идея была безумием. Проблема его этики далека, как отделенная веками, от вопроса о реальности идеи блага. Его мир нравственного полностью лежит в горизонте его опыта. Там уже нет общечеловеческого требования, перед которым человеческое понимание чувствует себя едва ли способным устоять и все же вынуждено дать ему услышать себя, исполнить его. Задача этики стала иной. При всем признании точности, основанной на знании людей и мира, которая сделала морально-философские рассуждения Аристотеля полезной эмпирической опорой Средневековья, все же следует понимать, что он отбросил этическую проблему назад, за платоновского Сократа. Ведь он сам признает, что предпринял свои этические исследования не «ради теории»: «Мы ведем исследование не для того, чтобы знать, что такое добродетель (τί ἐστιν), а чтобы стать добрыми, иначе от нее не было бы никакой пользы» (ἐπεί οὐδὲν ἂν ὄφελος αὐτῆς) [3]. Для Аристотеля этика – это дисциплина прагматической психологии; на его языке – политики (πολιτική τις οὖσα) [4]. И с задачей изменился объект: у Платона это было благо, у Аристотеля – добрый человек; или, вернее, блага доброго человека.
Этот столь предметный состав этики сохранился, переданный угасающей древностью новому времени.
Старая ошибка, укорененная в одной из тенденций Просвещения, состоит в том, что Спиноза заново обосновал этику. Однако его заслуги перед этикой заключаются главным образом в описании нравственных аффектов и представлений, направляемом его монизмом. Вопрос о реальности нравственной идеи затрагивается им лишь в той мере, в какой он мог возникнуть у догматика, которому достаточно, для которого высшее – указать место модусу, оставшемуся для него во вселенной единой, вечной субстанции. Всегда лишь в «свете вечного» явление нравственного в человеческом мышлении, в человеческом чувстве, в человеческом действии, в которое исключительно и всецело вкладывается гарантия нравственного. Но вопрос не ставится: если материальный мир, хотя и является лишь атрибутом, но как таковой – равноправным выражением субстанции, то не означает ли аналогичным образом и нравственное бытие, которое, подобно тому, как материя проявляется в телах, также лишь является в человеческом хотении, в действии, как и в страдании. Пантеистический монизм должен был исключить возможность самостоятельной и особой значимости нравственного.
И все же, как бы просвещенный ум ни противился этому, только это и есть вопрос этики: возможность иного рода реальности, чем та, которую природа в силу своей научной значимости в состоянии представить.
В такой постановке проблемы основатель трансцендентальных идей стоит рядом с творцом учения об идеях: со времен Платона Кант – первый, кто поставил задачу этики.
Этика, согласно Канту, должна учить не тому, что есть, а тому, что должно быть.
Против этого определения, против этого «долженствования» поднимается поток вопросов.
Ведь «долженствование» в конечном счете есть «хотение». Откуда происходит и какова же та необходимость хотения, которая образует предполагаемое содержание этики? Чем отличается это «долженствование» от антропоморфного принуждения, которое мы уже по крайней мере исключили из закона природы?
Станет ясно, насколько плачевна путаница между этим «должен» и «вынужден», в которую впал Шопенгауэр. И эта путаница – самый весомый упрёк, который он выдвигает против значения кантовской этики в своих пространных тирадах: «Кто сказал вам, что существуют законы, которым наше действие должно подчиняться?» Кантово πρῶτον ψεῦδος заключается, по его мнению, «в самом понятии этики»*4. Это, несомненно, petitio principii. Кроме того, человеческий разум уже давно вышел из детских пелёнок и не нуждается в предписаниях, которые философ даёт ему как некая тёмная сила.
Однако вводящим в заблуждение в этих возражениях является не столько предположение, будто это «должен» подчиняет человеческую волю тёмному принуждению – ведь различие между «должен» и «вынужден» должно стать ясным даже самому тупому при простом чтении кантовских этических сочинений. Но разъедающий яд этой полемики кроется в представлении, будто задача этики состоит и исчерпывается тем, чтобы устанавливать моральные предписания. Следовательно, так называемая этика совпадает с религией и теологией. Или же, если она, благодаря строгости вывода из морального принципа, создаёт видимость отличия от них, то следует нечто ещё худшее: она уже давно устранена множеством попыток, постоянно повторяющихся в истории человеческой мысли.
Таким образом, при каждой новой попытке моральная философия создаёт впечатление бесплодного повторения давно пройденных умозрений. Различие в методах, конечно, может представлять некоторый диалектический интерес и потому заслуживать в лучшем случае похвалы как изящное представление; но поскольку главное – в содержании предписаний, то одна этика ровно столько же стоит, сколько и другая, ибо содержание это во всех них остаётся одним и тем же.