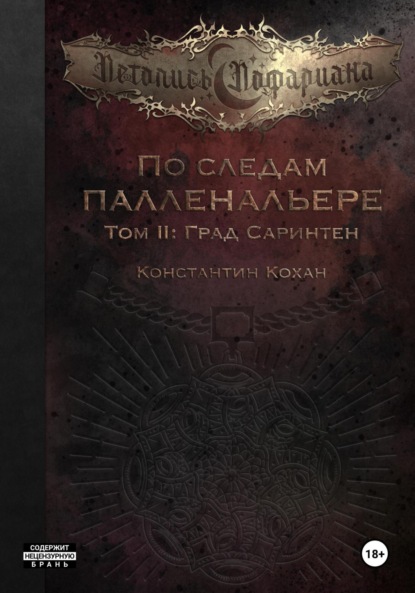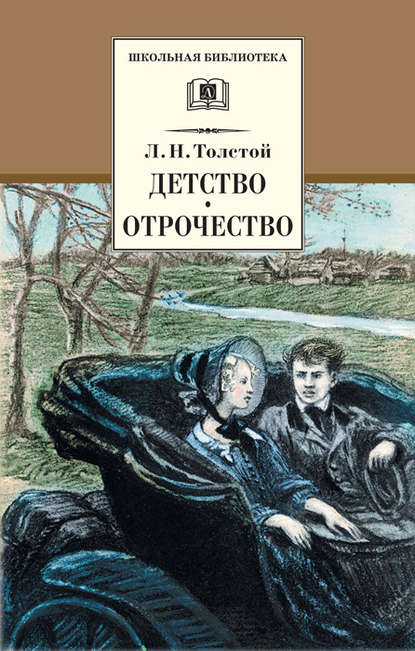По следам Палленальере. Том III. Пяст Перволюдей

- -
- 100%
- +
– Да, всё верно.
Снег падал. Но это был не тот снег, что лениво кружится над озёрами у подножий гор Авортура, не тот, что танцует над лесами, лаская иглы елей. Нет. Здесь он был другим. Был вязким, настырным, будто обладающим волей. Он лип ко всему, к пальцам, к щекам, к ресницам, как будто хотел остаться, намеренно. Остаться, как рана, что не заживает. Он не просто холодил, он обжигал – тонкими кристалликами холода, впивавшимися в кожу, как крошечные иглы из безмолвия. Каждое прикосновение его было проклятием – не боли, но памяти.
С палубы спустились первые. Лестница, с грохотом сброшенная матросами, скрипела, будто её кости хрустели от стужи. Герои ступали осторожно, сдерживая дыхание, как будто каждый шаг мог потревожить что-то, затаившееся подо льдом. Снег, шепча, оседал им на плечи, таял и снова рождался, вгрызаясь в одежду, проникая под меха. Воздух был неподвижен. Он был застывший, будто сама зима затаила дыхание, наблюдая.
Команда Кингарда, чьи лица были слишком бледны, а движения всеобъемлюще безмолвны, как у рыб в глубокой воде, не чувствовала холода. И не могла – ведь большая часть из них давно оставила позади ту зыбкую границу, которую живые зовут жизнью. Они шли, будто призраки корабля, влекомые долгом и морской солью.
Ступив на землю, Варатрасс ощутил, как под ногами хрустнул лёд – не тонкий и звонкий, а исполинский, многовековой, скрывающий под собой целые эпохи. Лёд был твёрд, как древний камень, покрытый барельефами. Не вырезанными, но выточенными временем и безмолвием. И всё же каким-то чудом, словно подчиняясь одной лишь воле «Пожинателя Дасантия», этот лёд раскололся, позволил пройти. Признал. Или… просто позволил умереть позже.
Ветер, будто ожив, прошёлся по меховым воротникам, развевая полы плащей. Он приносил с собой голоса – чужие, приглушённые, как будто из воды. Словно где-то в толще этого льда всё ещё кричали затонувшие.
Прошло несколько минут. Транг, уже потирая руки и бормоча проклятья под нос, отогревался своими фирменными жестами. Он топтался на месте, будто пытаясь втоптать стужу обратно в землю.
И тогда, наконец, спустились остальные: король Торальдус – величественный и молчаливый, как меч, забытый в алтаре; Джерум, с налётом усталости, словно каждый шаг его был согласием на ещё один бой; сир Антариус, каменный в лице, но острый во взгляде; Энлиссарин – тихий, как лунный призрак, и Сантор, чьё молчание весило больше, чем слова.
За ними трое из свиты короля аккуратно передавали вниз припасы – небрежно упакованные, но тщательно проверенные. Пять рюкзаков были не просто большие, а непомерно громадные, будто внутри каждого скрывалась судьба ещё одного похода. Они были погружены на узкие, но прочные, сани, связанные верёвками, закопчённые, испачканные солью и чьей-то кровью.
Джерум с привычной сосредоточенностью затягивал верёвки, не думая, не глядя на руки, просто делая. Узлы легли крепко, надёжно, будто каждая петля была молитвой. Мороз сковал дышащую кожу, и пар, вырывавшийся изо рта, застилал лицо, словно облако.
Соратники Торальдуса, отправленные в замок ещё в порту, остались позади. Здесь была лишь та группа, что шла за Палленальере. Те, кто согласились заглянуть в белое горло неизвестности. Те, кого звали смерть и свет.
– Вам туда, Джерум! – вдруг прорезал воздух голос Соломона, громкий, как удар в бронзу.
Он указал рукой – в сторону горизонта, туда, где небо теряло границы и становилось продолжением земли:
– Диккатли олун достум. Дон Архакинс Донсор öлимден ок даха коркунçтур. 2
Их взгляды повернулись, как будто рука Соломона обладала магией. Там, за белизной, начиналось всё. Или кончалось.
Джерум кивнул. Не говоря ни слова, махнул рукой. Простым, человечным движением – не прощание, а подтверждение. Он всё понял. Всё принял.
Сир Равенхей и его соратники наблюдали в молчании, как «Пожинатель Дасантия», подняв тяжёлый якорь, тронулся. Корабль уходил медленно, с достоинством, словно зверь, что не оглядывается на охотников. Он плыл в сторону тёплых берегов Водамина, оставляя за собой тень, пар и эхо.
Море за кормой быстро покрывалось коркой льда. Его поверхность лопалась, затягивалась, замерзала вновь, будто корабль вырывался из пасти, но пасть тут же смыкалась.
– Туда… – пробормотал Транг, поднимая взгляд к этому беспредельному белому безмолвию. – Туда – это куда, Джерум?
Фар’Алион не оборачивался. Ветер расчёсывал его волосы, выпадающие прочь из-под меховой шапки. Взгляд – за горизонт.
– Туда – это туда, Транг. – вместо него отозвался Варатрасс, не глядя ни на кого. Он просто поднял руку. – Всё просто. Да и больше идти-то и некуда, если здраво прикинуть.
Сантор стоял в тишине, погружённый в свои мысли, и взгляд его, хмурый и прищуренный, скользил по ледяному полю, где ещё недавно шумел корабль. Там, вдалеке, на краю застывшего мира, дымились белёсые следы, оставленные отплывшим «Пожинателем Дасантия». Но даже они, как и всё живое, начали подчиняться власти этой земли – земли мёрзлой, чуждой, древней, ускользающей из-под логики и карт. Снег уже принялся слизывать рытвины, выравнивая поверхность, как если бы сам воздух хотел забыть, что кто-то когда-либо ступал здесь.
Он медленно перевёл дыхание… не от холода, но от ощущения предельной хрупкости реальности. Лёд под ногами, казалось, не трескался, но вздыхал, как что-то живое, как нечто, проснувшееся от многовекового сна.
Рядом стоящий сир Равенхей молча постучал подошвой сапога по снежной корке. Не для того, чтобы убедиться в прочности – нет, скорее по привычке: жест, как молитва перед боем. Лёд отозвался глухим, насыщенным звуком, в котором можно было бы, при желании, различить эхо глубины. Его меховая накидка, украшенная сдержанными узорами старой работы, колыхалась под ветром, и каждый волосок на ней извивался, будто тянулся прочь от этого места, к свету, к теплу, к миру, которого здесь больше не было. Она шевелилась, как высокая дикая трава, гнущаяся при первом порыве летнего урагана – не от боли, а от трепета.
– Да ты чо! – раздался хрипловатый голос. Транг мрачно озирался, кутаясь в собственные плечи, и указал коротким, но резким движением руки сперва на восток, затем на запад, будто хотел сдуть туман с карты. – С чего вы вообще уверены, чо нам именно туда? Иль, скажем, не туда? Иль, мож, вовсе туда?
Он говорил грубо, с раздражением, но в его тоне слышалась усталость – не от пути, а от постоянного хождения вслепую, в вечной игре чужих решений.
Энлиссарин тихо повёл рукой, будто бы чертя в воздухе невидимые знаки, и, прищурившись от света, промолвил почти шёпотом, словно вспоминая забытый стих:
– Shreai'ish hij cirry.3
Он протёр глаза. Не от сна, а от света Суур, отражённого белизной так ярко, что даже тени казались прозрачными. Здесь, среди бескрайнего холода, сам свет казался враждебным – не холодом, а жгучей ясностью, разоблачающей каждую складку, каждый вздох.
– Нам нужно на север, малыш. – отрешённо добавила Амори Дарт, шагнув вперёд и поправляя воротник так, чтобы крупинки снега не падали ей за шиворот. Её пальцы были тонки, но уверены, и каждое движение напоминало о выучке, о дисциплине, вбитой кровью и временем. – А север находится ровно в том направлении, куда нам показал Соломон.
– Следи за языком, барышня! – резко вскинулся Транг, нахмурившись так, будто само обращение задело что-то внутри. – Команда пиратов могла и ошибиться, между прочим!
Он фыркнул, отплёвываясь, будто из слов её исходил холод, резавший острее снега.
– На каждом корабле есть человек, отвечающий за правильность пути, друг мой. – наконец обернулся Джерум. Его голос был ровен, но в нём чувствовалась усталость тех, кто уже не спорит – потому что спор давно выигран. – А на этом – уж подавно он от и до знает приёмы лоции.
– Приёмы… кого? Прокляни меня таахар! Что вы несёте?! – дварф размахнул рукой, отбрасывая невидимую нить доверия, как надоевшую паутину.
Но никто не ответил. Ветер, как будто поняв, что разговор завершён, снова зашуршал снегом, заглушая шаги.
– Пойдём, Транг. – глухо бросил Варатрасс, наклонившись и крепко ухватив верёвку, что тянулась к саням. – Бери верёвку и просто… пойдём.
Слово это прозвучало как приговор. Как скрежет меча, вытянутого из ножен. Как шаг за грань.
И они пошли.
Плотный наст хрустел под сапогами, будто жалуясь. Снег, поддавшись весу людей, вздыхал, и каждый шаг отдавало эхом, тонущим в тишине. Следы вытоптанных подошв были размыты ветром быстрее, чем они успевали оформиться. Казалось, сама земля не хотела помнить их присутствия – стирала всё, что могло бы напомнить о шагах, о решениях, о надежде.
За плечами отряда волочились сани, и звук их полозьев – столь глухой, обволакивающий – перекликался с дыханием. Воздух стал тягучим, словно время замедлилось. На горизонте, за дымкой морозного света, прятались вершины континентальных гор – тех, что будто замерли в своей вечности, не желая показываться сразу. Им предстояло пройти не десять тарр, как надеялись они раньше, а скорее тридцать – и это был путь не по земле, но по чужому сну, по миру, где шаги звучат глухо, а мысли возвращаются эхом.
Это был не просто путь. Это было забывание. Испытание. Зимняя притча, рассказанная без слов.
И впереди была только белизна, молчание, и тени, что не отбрасывают тел.
***Минул день. Тихо, почти неслышно, он просочился сквозь ледяные кромки времени, утёк в зыбкую дымку небытия, оставив за собой только слабый привкус усталости да белёсый след между зыбких теней. Привал же – тот, что казался спасением – пролетел мимолётно, не оставив ни тепла, ни покоя, ни настоящего отдыха. Они остановились, они разожгли слабый огонь, они сделали всё, что должны были – и всё же казалось, что не было ничего, кроме истерзанного дыхания и звона ветра, бьющего в кромки палаток и мехов, будто в кузнечные щиты.
Снежная пустошь, эта исполинская равнина без начала и без конца, сменялась лишь угрюмой поступью ледников, громоздящихся на горизонте, словно замёрзшие титаны, воткнувшиеся в небеса своими вековыми лбами. Некоторые из них были высотою в десятки фэрнов, безмолвные исполины, пронзающие небо так, словно желали отринуть его и стереть с карты мира. Они были неподвижны, как память, как вина, как всё то, что не сотрёшь ни огнём, ни временем. И шли они – герои, путники, странники – по этой земле, что дышала только морозом, шли, сжав зубы, вцепившись в волю, как в последний щит.
Холод царствовал не как враг, но как бог. Неизбежный, величественный, слепой. Он не бил в лицо, он вползал в кровь, просачивался под ногти, в суставы, в мысли. Он оседал на веках, и их приходилось разлеплять не ради зрения, а чтобы не забыть, кто ты. Он щёлкал в костях, как лёд на пруду в полночь. Чертовски холодно – не просто в цифрах, не в шкале, но в самой сути: воздух ломал дыхание, каждая тень под курткой становилась словно лишним телом.
Никто не знал, что помогает им больше – то ли скромные, быстро гаснущие факелы, что вздрагивали при первых порывах пурги, будто мольбы, что теряются в небесной трубе; то ли свитки, волшебные и тлеющие изнутри, оставленные Адультаром для Джерума – и лишь тот, казалось, ещё мог извлечь из них тепло, не выжигая смысл. И всё же пламя в этих местах казалось крохотной насмешкой над сущностью мира: огонь был здесь слаб, как воспоминание о любви среди руин. Его свет не столько грел, сколько напоминал о тепле, которое осталось за десятками переходов, и потому многие уже начали поглядывать на свитки не как на волшбу, а как на хворост.
Окружала их тишина. Но не та, что бывает ночью в родных краях, и не та, что следует за речью. Это была тишина первородная, густая, как кровь древнего зверя. Единственный звук, сопровождавший их, – это равномерный, почти механический скрип сапог, пробивающих смёрзшийся снег. Он не скрипел, он сжимался. Он принимал их, но не звал. В некоторых местах сугробы доходили до пояса, а то и выше – приходилось переламывать себя, выкарабкиваться, сквозь вязкость, сквозь мерзость. Но чаще всего, благодаря давлению и ветру, снег был настовым, тугим, и уступал лишь по голени, как будто сама пустошь не позволяла утонуть в себе, но и не давала шагать вольно.
Вид же вокруг… был ужасающе красив.
Необычайно, болезненно, пронзительно прекрасен. Эти пейзажи не принадлежали ни человеку, ни зверю, ни даже богу. Они были из той самой породы, что могла бы быть вырезана на стенах забытых храмов или витала бы в памяти звёзд. Всё вокруг – белое, синее, мерцающее – было как полотно, написанное холодом, на котором не было ни одной лишней черты. Невозможно было не остановиться хоть на мгновение и не подумать: быть может, хорошо, что жизнь сюда не добралась? Что всё здесь нетронуто, чисто, как в первые дни мира…
Это не пустота. Это пир природы. Месть природы. Слишком долгая, слишком холодная, слишком красивая.
А ночи… Ночь началась внезапно, без заката, без предупреждения. Суур исчезало, словно вырезанное, и небо вспыхивало – не ярко, но величественно. Небо над севером, над этой безымянной равниной, было другим. Оно не просто нависало, оно дышало, переливалось, меняло форму. Луэкворан… Мару и Кросис, две луны, танцующие в вечной пляске, вступали в свой причудливый симбиоз с северным сиянием, и от этого танца рождалось зрелище, что могло свести с ума поэта.
Бирюзовые, фиолетовые, розовые пряди сходили с небес мягким шелком. Они текли и переливались, изгибаясь, будто гигантская скатерть, брошенная на шумное поле ветров богами, играющими в вечность. Каждый порыв расправлял их и заново складывал, и небо дрожало, как дыхание… бесконечно и безмолвно.
Свет был мягок, но точен.
Он не освещал путь – нет, он только подчёркивал, насколько путь этот остаётся во мраке.
В моменты наивысшего сияния казалось, что небо звучит… издаёт почти неслышный, еле уловимый писк, напоминающий симфонию из хрусталя, который звенит не разбиваясь. Музыка эта была неземной, неуловимой, на грани слуха и воображения. Она пронизывала грудь, отзывалась в рёбрах, делала дыхание чуть тяжелее, словно бы мир вокруг хотел заговорить с тобой, но слишком древен, чтобы говорить словами.
И всё же, несмотря на эту божественность, несмотря на игру света и звука, путь оставался тьмой. Свет лун и сияний не пробивал снежную мглу под ногами. Земля под ними оставалась чёрной, ледяной, невидимой.
Ночь была чудесной. И мучительной.
И каждый, кто поднимал голову, видел: да, это самое прекрасное небо, что только можно узреть. Но никто не мог отогреться под ним. Никто не мог спрятаться. Небо видело всё. А путь – всё равно терялся в темноте.
***Глава II: Порт мёрзлого города Нараксортракс
«Уж что-то мне тревожит ум который по счёту день один вопрос…»
Варатрасс медленно поднял голову, всматриваясь в высокое, плещущее над ним небо – серое, колючее, расчерченное упругими потоками снега, что будто старались пробиться сквозь ткань мира, чтобы пробудить что-то глубоко внутри.
«Почему тебя здесь нет, Эйстеннерус Арбаль Сиренсен? Фактически став началом пути Торальдуса, ты потерялся среди тысячи других лиц и отстранился от него? Не поверю. Сила твоя – велика. Ты ходишь через Водамин так, словно он прошит дверьми. То, что тебя здесь нет, и то, почему ты отказался участвовать в столь непростой судьбе, очень странно. Ты больше других знаешь о том, что скрывает в себе Палленальере…»
Мысль сжалась в сердце, как чёрная капля в воде. Он хотел бы смахнуть её, стряхнуть, но она оставалась, растворяясь в крови.
– Чё эт там такое? – донёсся до него глуховатый голос Транга, откуда-то сбоку, как будто сквозь толщу льда.
Варатрасс отвлёкся от своих мыслей. Повернул голову. Остальные тоже насторожились, явно решив, что дварф снова углядел в метелевом мареве свои любимые кошмары. Но, проследив за его указующим пальцем, замерли.
Там действительно что-то было.
Большое. Возвышающееся. Несвоевременное.
– Мне кажется, или это… – Сантор Кварнийский прищурился, пряча лицо от ветра. Слова его терялись в вьюге, но в голосе звучало искреннее удивление. – Анайрагские руины? Хм-м-м…
– Мы не могли сбиться с пути. – добавил сир Равенхей. Его голос был, как обычно, бесстрастен, но за ним чувствовалась трещина сомнения. – До земель Драконьей Мерзлоты ещё полдюжины тарр, если не больше. Здесь ещё не должно быть следов цивилизации.
– Говорил-жъ что не туда пошли мы! – мрачно пробурчал Транг, но глаз от руин не отводил.
Они подошли ближе и руины раскрылись перед ними, как рассечённый череп исполина. Из глубин ледника, будто пробив лёд изнутри, вырастали обломки древнего города – мёртвого, но не сломленного. Башни, исковерканные тысячелетиями, возвышались, словно когти, застывшие в последнем, обречённом жесте. На их стенах всё ещё угадывались резьбы: сражающиеся воины, звери с пастями, полными клинков, древние символы, змеящиеся в камне, как высохшие вены.
Над всем этим был лёд.
Лёд, как застылая завеса времени. Он то сползал с карнизов и парапетов, как застывший водопад, то нависал с зубцов, напоминая тронные балдахины для мёртвых королей. Где-то под ним угадывались ниши, разрушенные своды, лестницы, ведущие в никуда. Всё погребено, всё сломано, всё запечатано.
В склонах ледяного ущелья зияли проёмы арок – когда-то, вероятно, ворота. Теперь же они были заткнуты снегом, и напоминали рты древних чудовищ, готовых заглотить непрошеных гостей.
Впереди поднимался исполинский вестибюль – то ли храм, то ли цитадель. Его портики всё ещё держались на чёрных колоннах с изогнутыми капителями. Камень, что служил основанием, давно выцвел и покрыт трещинами, но остался монолитным, пугающе выносливым. Местами сквозь лёд проглядывали бронзовые вставки и якорные пластины. Проглядывало всё то, что, по всей вероятности, удерживало конструкции от падения. Они не подвели. Всё ещё стояли. Как будто сами боги не решались разрушить это место до конца.
Они шли вдоль остатков моста – арочные пролёты которого были наполовину погребены, а на опорах местами красовались глыбы льда, где запеклись, как в янтаре, обломки доспехов и человеческие кости. Неясно… чьи. И всё это – среди полной, вязкой, мёртвой тишины, лишь изредка нарушаемой тонким звоном, будто по сводам гулял ветер, прошивающий льды, как струны забытой арфы.
Над всей этой сценой возвышался накренившийся, рассечённый надвое, но не рухнувший, главный шпиль. Вершина его скрывалась в метельной пелене, и казалось, что она подрагивает, будто город, несмотря на всё, ещё дышит. Что-то внутри работало. Что-то смотрело в их сторону.
А по краям, словно часовые, стояли выветренные статуи. Одни – с крыльями, другие – с боевыми секирами, третьи – с закрытыми лицами. Каменные глаза были выдолблены, но ощущение взгляда оставалось. Эти изваяния, выросшие из горы и холода, казались живыми. Ветры скользили мимо, как будто опасаясь потревожить их.
И всё это – не под небом, но под сводами самого льда. Лёд покрывал руины, как броня древнего зверя. Он светился изнутри то голубым, то тускло-белым, то фиолетовым, в такт невидимому дыханию. Где-то под ним будто двигались тени. Неуловимые. Живые?
– Множество островов Драконьего моря сгинуло под толщей льда вместе с ним. – медленно, словно смахивая наледь с мыслей, произнёс Торальдус, не оборачиваясь. Его голос звучал приглушённо, будто сам воздух здесь неохотно пропускал слова. – Это… самый верх города. Один из тех, что когда-то стояли на плечах каменных гигантов. Один из утонувших.
Снег трещал под ногами всё глуше. Ветер переменился. Он будто стал ползучим и обволакивающим, как дыхание чего-то невидимого, скользящего между тенями ледяных глыб. В этом почти осязаемом безмолвии Транг внезапно заметил, что отстал. Их силуэты постепенно удалялись, растворяясь в бледной мутности метели, и лишь слабое зарево ещё маячило где-то впереди.
– Мы… мы действительно туда пойдём?.. – раздалось сзади, неровно, с еле заметной дрожью в голосе.
В словах не было страха – скорее настороженное недоумение, будто сама интуиция пыталась предостеречь.
Варатрасс остановился, взглянул через плечо. В его глазах, под густыми надбровьями, плескалась насмешка.
– Струсил? – ухмыльнулся он. – Да брось ты эту глупость проворачивать в голове, Транг!
– Ей-ей-ей! – захлебнулся возмущением Транг. – Держи свой гнилой язык за зубами, мальчишка! Не подумай, что…
Он осёкся. Слова остались в снегу. Следопыт, не дождавшись ответа, повернулся лицом вперёд.
Остальные уже спускались по краю ледяного уступа к воротам.
Транг не двинулся.
Он стоял неподвижно, будто его ступни примёрзли к земле. Ветер, стягивая на его лице морщины, трепал бороду, залипал в ресницах. Из-под снега поднимался холод – не телесный, а древний, из прошлого, что не желало быть потревоженным.
– Погреешься хоть немного. Ну же! – окликнул его Варатрасс, обернувшись и маша рукой, будто подзывая сбившуюся с пути собаку. – Пойдём!
– Чтоб вас всех… чтоб вы… идиоты… – пробубнил дварф, сгорбившись и поднатужившись.
Сквозь ворчание он всё же двинулся вперёд, ноги скрипели по слежавшемуся снегу. С каждым шагом он казался всё ниже, как будто бы сам проваливался в это проклятое место.
И именно в этот момент он увидел.
Пятно дыма.
Чёрное, как сажа, но без пепла. Оно возникло позади Варатрасса – всплыло, будто из-под кожи реальности, и, колыхаясь, двинулось за ним. Оно не имело формы, не имело запаха, но в нём было что-то чудовищно живое.
Транг застыл. Хрипло втянул воздух. Ощутил, как его сердце сжалось в сухой ком.
Он попытался обернуться, но не успел.
Кто-то резко толкнул его в спину. Он не успел даже выругаться.
– А-А-А-А! – истошный, почти детский крик вырвался из груди, когда он рухнул в снег, сбив снежную взвесь.
Снег облепил ему лицо, зашёл за ворот. И тут над ним возникла фигура. Из ниоткуда. Плавно, как тень.
– Давай, Транг! – с добродушным акцентом промолвила Амори Дарт, ухмыляясь. – Смелее!
Он вскинул взгляд. Она стояла, слегка наклонившись, с протянутой рукой. Метель щадила её. Словно не смела касаться.
Все уже обернулись. Несколько секунд смотрели на валяющегося Транга, на её бледную фигуру и, молча, пошли дальше. Как будто ничего не произошло.
Варатрасс подошёл. Транг, с трудом разлепив веки, с досадой схватился за протянутую руку девушки. Снег хрустел в его перчатках, как крошёный лёд.
Он резко встал. Выдернул руку из её ладони, как из капкана.
– Не делай больше так! – прошипел он и отшатнулся.
Амори рассмеялась тихо, едва слышно, словно ветер прошелестел по старым свиткам.
И тут же…
– Транг… – Варатрасс, подойдя ближе, крепко сжал его за плечо.
Резкое движение. Дварф вздрогнул всем телом. Выдернулся, как укушенный.
– Вы… Вы! – он перевёл дыхание, борода его дрожала. – Вы идиоты, чтоб вас пивом облили!
Варатрасс, не отпуская его взглядом, лишь медленно выдохнул:
– Впереди будут вещи куда более страшные, чем нордские гробницы, морозные приведения или же вампиры, появляющиеся за твоей спиной, дружище.
Мрангброн неотрывно смотрел на девушку. Её лицо оставалось неподвижным, как маска, а глаза спокойными, бездонными, словно затянутыми лёгким инейным туманом. Она стояла в полном умиротворении, будто её не трогал ни этот пронизывающий холод, ни следы смерти, что вились повсюду. На фоне остального мира, дрожащего от напряжения и ветра, она была неподвижной тенью, частью этого места. И в эти минуты, такие неудачные для него самого, Транг Мрангброн в который раз с досадой признал: она и правда вампир. Не позёрка. Не ведьма. Не выскочка. А древняя, как голод, как забвение.
– Надо держаться вместе, малыш. – негромко произнесла она, встав рядом с Валирно’орда, даже не глядя.
– Не называй ты меня так! – раздражённо отозвался он и резко отряхнулся от снега, смахивая ледяную пыль с бороды и лица.
Кожа на щеках пылала – от холода или от досады, он бы и сам не понял.
Следопыт уже уходил вперёд.
– Не отставай впредь, – бросил он, даже не оборачиваясь. – иначе тебя снегом заметёт. Пойдём.
Они направились к древним вратам, где уже собрались остальные.
Дверь… если это вообще ещё можно было назвать дверью…
Она когда-то служила печатью.
Запором.
Рубежом, который отделял вечный холод безмолвия от того, что должно было остаться за гранью. Теперь же, пробитая льдом, словно пробудившимся изнутри, она рухнула навзничь, как палец мертвеца. Створки, некогда инкрустированные металлическими вставками, были разорваны ледяными наростами. Их вывернуло, изломало, выбросило прочь, будто руины сопротивлялись последнему усилию удерживать свою тайну.