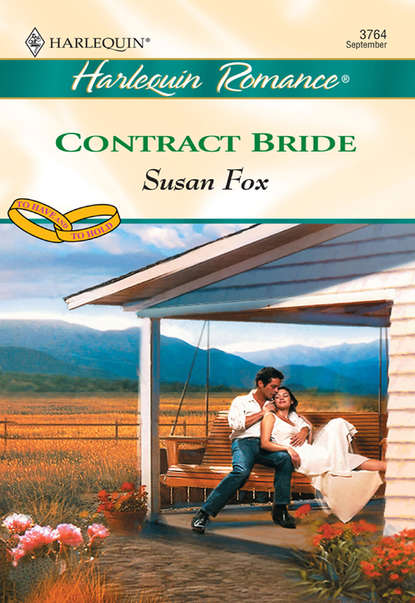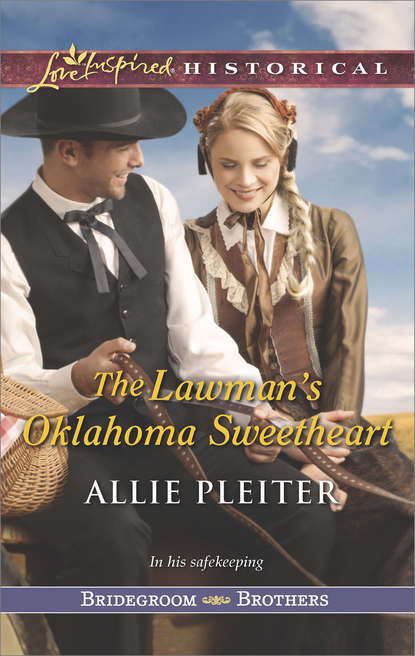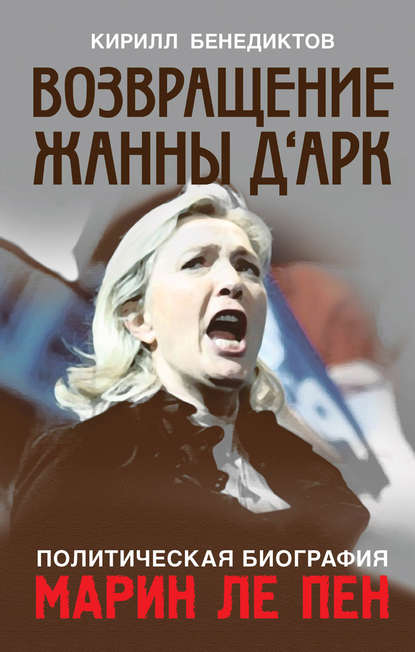Сложные люди. Все время кто-нибудь подросток
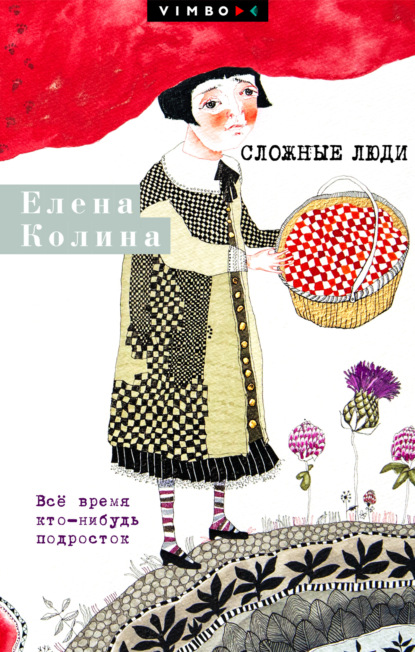
- -
- 100%
- +
Только дома, оказавшись в безопасности, в маленьком тамбуре между входной дверью и прихожей, где всё было ее, родное – мешок с картошкой, банки с вареньем, – Соня из маленького оловянного солдатика стала собой. Спокойный мамин голос из комнаты «ну где ты ходишь?» вернул ее в реальность. А в реальности всё же был подвал. Соня не вообразила, а по-настоящему ощутила, как он хватает ее за шею и тянет в подвал. Захлебнулась ужасом, всхлипнула, опустила глаза и – ой, откуда липкое пятно? – ее платье выпачкано чем-то гадким липким. Запаниковала, заметалась мысленно, что это, откуда, она была страшная аккуратистка. И тут же догадалась: это Он. Он был таким грязным, что, прижав к себе, испачкал и ее. И поползли слезинки, оставляя грязные бороздки на покрытых подвальной пылью румяных щеках.
Растерев грязь по щекам, Соня шагнула к маме. Прижала к себе портфель, чтобы мама не увидела грязное платье. Рассказать маме означает отдать ей свой страх. Мама могла бы снять с нее грязное платье, забрать вместе с грязным платьем всё плохое и ласково, как своим пациенткам, сказать: «Не плачь, девочка, всё будет хорошо» или, – может быть, – она прижмёт Соню к себе, обнимет крепко, скажет… ну, например, она скажет: «Сонечка».
– У меня температура под сорок, – озабоченно сказала мама. – А почему лицо всё грязное?.. И коленки черные… Где ты ползала по грязи? Иди умойся.
Температура под сорок, конечно, не у мамы, у мамы – «девочка в родах» с температурой под сорок. Мама торопится в больницу, ей не до Сони.
Соня молчит, в горле комок, все силы уходят на то, чтобы мама не увидела грязное платье. Соня вот-вот скажет «подвал… страшно… думала, что умру», но язык ее не слушается, она пытается помочь себе и – пусть случай решит за нее, – чуть отодвигает от себя портфель, чтобы мама увидела грязное платье. Мама не видит, но Соня все-таки решается. Начинает издалека.
– Я… один человек запачкал мне платье…
– Запачкал, так постирай, – бросила мама, проходя мимо Сони. – Обед на столе, суп – обязательно. Музыку не забудь сделать.
Хлопнула входная дверь. Мама помчалась спасать «девочку в родах».
Соня не обижалась, не задавала себе возмущённого вопроса «неужели я неважна для мамы?», не думала, что мама ее отвергает, не удивлялась, что мама к ней не добра или не так добра… она твёрдо знала: мама сделает для нее всё… всё, что нужно. Соня, разумный семилетний человек, знает: мама – хороший человек, хороший человек исполняет свой долг. Соня свой долг понимала так: признать, что трудные роды важнее, чем она, важнее, чем ее так и не рожденная откровенность.
От учительницы в школе Соня слышала смешное выражение «это даже рядом не лежало». Мама с папой так не говорят, они всегда выражаются культурно, они же из Ленинграда, и Соне велят говорить культурно: хоть она и родилась здесь, в маленьком уральском городке, но она тоже «из Ленинграда». Но суть не в том, культурное это выражение или нет. Бывают ситуации, которые невозможно сравнивать, настолько они разные по важности: Соня, ее жизнь, ее заботы, ее подвал со страшным человеком… всё это по важности даже рядом не лежало с трудными родами.
Можно было бы подумать: «Да просто неудачно вышло, случайно совпало, Берта была так нужна Соне, и вот незадача – трудные роды, заторопилась, убежала в больницу». Но нет. Не так всё было. На самом деле Соня не хотела рассказывать. Так бывает, что всей душой к чему-то стремишься, к теплу, помощи, но на самом деле не хочешь. Даже лучше, что она не рассказала маме. Мама бы не поверила, сказала: «Не выдумывай». Или: «Да ладно, это ерунда». Или: «Ты сама виновата, что тебя затащили в подвал. Надо быть внимательней. Ты не заметила, что кто-то идёт сзади, не услышала, как он к тебе подошёл, ты громко пела, а ведь я тебе говорила – не пой, у тебя нет голоса…», или: «Ты трусиха, нужно было убежать». Или еще хуже – мама подумает, что она сама сделала что-то плохое, раз это с ней случилось.
Уж лучше остаться одной со своим страхом. …Но ничего. Ничего-ничего!.. Когда-нибудь, когда она будет рожать, у нее будет температура под сорок, и мама скажет ласково: «Потерпи, девочка». А сейчас придётся справляться самой. Сейчас нужно выстирать платье.
Пятно на платье Соня, корчась от отвращения, застирала. Платье повесила на батарею, к батарее приставила стул, чтобы не видеть платье, не думать про подвал. Не думать про подвал получалось плохо… и она стала думать про маму.
…И тут произошло страшное… Внезапно Соню бросило в жар – утёнок! Где утёнок?! Она побежала в прихожую, сунула руку в карман пальто, – утёнка нет!.. …Утёнок выпал… Когда? Когда он расстегнул ей пальто? Когда прижимал ее к себе? Когда она ползла по подвалу?.. Но ведь утёнка нужно вернуть!.. Если не вернуть, получится, что она воровка?! Ой, ма-амочки!..
Если мама узнает, что Соня украла утёнка, она от нее откажется. И правильно сделает. Люди любят своих детей не просто так, а за дело. За то, что они самостоятельные и не обуза, не создают проблем. Нельзя любить дочку, укравшую утёнка, воровку, самого плохого человека на свете. …Ой, а папа? Может быть, папе рассказать про утёнка? Папа ее спасёт!..
Но это были бесплодные метания от ужаса, как у зверька, который бьётся о прутья клетки, зная, что выхода нет. Папа так много работает, мама так много работает, мама вся светится, когда смотрит на папу… Соня не может признаться маме, что она, папина дочь, – воровка, не может привнести тень в этот свет. Да и вообще, привлекать к себе внимание, заставлять решать свои проблемы – неуместно. Соня не знала слова «неуместно», но безошибочно чувствовала, что именно уместно – справляться самой. Ребёнок знает, целый ли мир он для мамы, или часть мира, или не самая значимая часть…
Утром Соня пошла к этой улице, к этому дому, замирая от ужаса, – ее тело словно было берегами, и по ней рекой тёк ужас, – вошла в подвал, повернулась, выбежала… ужас внутри нее заледенел, когда она представила себя в пустом подвале одну… Вернулась. Ползала по грязному полу, мысленно разделив пол на квадраты, старалась нащупать рукой резинового утёнка, надеясь, что вот сейчас услышит «пик-пик». Но в руке оказывались то камни, то скомканные бумаги, то какие-то сдувшиеся шарики. Даже с тем человеком ей не было так страшно, как одной в темноте искать утёнка. …Где-то ведь он был, желтый резиновый утёнок, воплощение тепла и веселья, но Соня его так и не нашла.
В тот день произошёл странный незначительный инцидент: в ответ на мамино раздражённо-удивлённое: «Почему ты опять такая грязная? Стирай всё сама, будет тебе урок» Соня покраснела и во всю силу закричала: «А-а-а-а! Почему? Нипочему! Нипочему, нипочему!». Берта взглянула на Соню холодно и чуть брезгливо – что это с ней? Ну, врёт иногда, но врёт спокойно, а сейчас – кричит, вся красная, в глазах слезы! Вот только истерик и не хватало! И повод-то такой ничтожный. Берта на секунду удивилась: странно всё же, Соня ни разу в жизни не кричала, не плакала… и почему сейчас перед ней не рассудительная удобная Соня, а как будто совсем другой, неудобный, ребёнок. Берта даже подумала, не дать ли Соне градусник. …До измерения температуры дело не дошло. Берта убежала на работу.
Городок стал городом, папа построил завод, мама, как говорили, «приняла весь город». Берта Соню очень ценила, – она выросла хорошим человеком. Соня маму безмерно уважала, но вот прибежать, уткнуться в колени, сказать «мама, мне плохо…» – такого не могло быть, потому что не могло быть никогда.
Берта была другом всем, кто ее знал. Всем Сониным подружкам хотелось положить ей, беспредельно уважаемой, горячо любимой, голову на колени, сказать: «Мне плохо, что мне делать?»… Добрые глаза, которые тебя видят, – это редкость, голос, идущий от души, – «ну что ты, девочка…» – это редкость, помогает справиться… А Соня, идеальный ребёнок, убеждена, что должна справляться сама.
…Возможно, другом быть легче, чем мамой. Но ведь Берта уже была мамой!.. Холод-голод-бомбёжки, насильственно возникший материнский долг, непосильная ответственность… ее материнство скиталось по дорогам войны, плыло на военном кораблике под бомбами, отвечало «да, это Серый волк, Кларуся». Ее вечным метафизическим ребёнком была Кларуся. Можно ли растратить материнство, словно это лимитированный запас? Точный ответ науке неизвестен, однако человек – такое сложное существо, что может быть и так. Нет сомнений, что Берта отдала бы жизнь, чтобы спасти Соню. Но в обычной, мирной жизни, когда еще одно беспомощное существо потребовало ее полностью, всё в ней закричало: «Опять материнство?! Опять теплоту? Опять участие? Не-ет!»
Мамой Берта уже была, а подростком никогда не была. Можно ли, пропустив подростковый возраст, став взрослым, неосознанно взбунтоваться – а теперь, когда больше нет блокады, когда мир, свобода, любовь, я буду вести себя как хочу, и всё тут! Это было совершенно подростковое поведение, подростковый бунт, – ах так, вы все говорите, что я должна, а я не буду! Как если бы подростка Берту мама не пускала на свидание, а она бы вскричала «а-а, гори всё огнём, а я пойду, пойду!» и убежала бы назло маме на свидание к мальчику, тому самому, растворившемуся в окне блокадной комнаты Мальчику. Если бы он был жив, если бы мама была жива, если бы история позволила Берте быть подростком.
Она выполняет свой долг, у нее есть для Сони всё, что требуется, – и любовь, и преданность, и суп, и музыкальная школа… Отдавать всю себя ребёнку? Интересоваться детскими переживаниями? Разговаривать? Обнимать? Заглядывать в глаза, смотреть, о чем печалится? Ну нет, с нее хватит. У нее – любовь, у нее – работа. К тому же это примета тех лет, общество полностью на ее стороне: дети пусть сами себя растят, главное для настоящего человека – работа.
Вот так они и жили: друг другу безусловно преданы и бесконечно далеки друг от друга, не докричаться. …Кто виноват в таких отстранённых отношениях? Кто первый начал? Очевидно, Берта первая начала: она мама, Соня ее ребёнок. Но кто виноват, что Берта в тринадцать лет услышала «теперь ты за маму»?
…Сначала мама исполняла долг перед Соней, потом Соня перед мамой. Между Бертой и Соней была зона молчания – никогда ни о чем душевном, ни о чем действительно важном. Через эту привычную застывшую зону молчания невозможно было пробиться. И только через много-много-много лет, когда поговорить уже можно только мысленно, возникла зона кричания – как же так!.. мы с тобой!.. ни разу в жизни!.. ведь мы так сильно любили друг друга!.. Нет, не любили, мы так сильно любим друг друга, ведь любовь к маме никуда не девается, а уж любовь мамы и подавно – вот она, всегда тут.
…Человек, даже такой маленький, румяный и щекастый, как Соня, слышит, что ему нашёптывает бог.
Соня слышит: «Мир опасен, мир ненадёжен, ты только посмотри, что может случиться с твоей жизнью!» Соня кивает: «Ты, безусловно, прав, я и вообразить не могла, что на свете существует такое…» Но что Соне с этим новым знанием делать? Бог говорит: «Человека может повести к силе или к слабости. Решай сама, куда тебе». Маленькая Соня – она ведь, в конце концов, дочь своей мамы, выбирает быть сильной. Ей нравится «решай сама», ей подходит «решать самой», она и решает сама: утраченную власть над своей жизнью можно вернуть себе только контролем, всё – всё! – нужно контролировать самой.
Словарь неизвестных в то время понятий, а если и известных, то ненужных
Травма поколений: человек сам не переживал травмирующее событие, но психологическая травма, пережитая предыдущими поколениями, влияет на его жизнь.
Избегающий тип привязанности. Формируется у ребёнка отстранённой матери. Ребёнок рано становится независимым, учится управлять поведением, сам себя растит. Став взрослым, предпочитает всё контролировать, избегать эмоциональной близости.
У силы – если выбираешь быть по-настоящему сильным, всегда ведёшь себя правильно и всё контролируешь, – есть ого-го какое неожиданное последствие – искушение всё делить на силу и слабость. Считаешь силой своё нежелание проявить нежность. Не помнишь, что сила не только долг, но и внезапная беспечность. Совсем не можешь быть слабым, растерянным, смешным, беспомощным. Не умеешь сказать о своей боли, не закрываясь. Думаешь, что всеобъемлющий контроль гарантирует безопасность, и забываешь напомнить себе – разве безопасность вообще возможна, как бы правильно мы себя ни вели?
Три встречи перед началом репетиций
Марина – актриса, живёт в Тель-Авиве, Ляля – писатель, живёт в Санкт-Петербурге.
Марина и Ляля дважды близкие, близкие подруги и близкие родственницы. Помните, сестры, Берта и Клара, помните, блокада? Помните, девочки плыли на барже за «военным корабликом» из блокадного Ленинграда от смерти к жизни? Вот это и есть жизнь – Марина и Ляля. …Поскольку я сама – невнимательный читатель, на всякий случай объясню, чтобы не было путаницы и читателю не нужно было думать, кто тут кому кто. Две сестры, две линии семьи. Марина – внучка Берты, дочка румяной щекастой девочки Сони из предыдущего рассказа. Ляля – дочка Клары. Между Мариной и Лялей значительная разница в возрасте, когда Марина лежала в пелёнках в маленьком уральском городке, Ляля ходила в БДТ и читала «Новый мир».
…Что еще важно? На самом деле важно, что Берта и Клара выжили в блокаду. И теперь совсем другая жизнь. Тогда всё было просто – жизнь или смерть. А сейчас всё сложно – жизнь. Марина – актриса, живёт в Тель-Авиве. Ляля – писатель, приехала из Петербурга в гости. В Тель-Авиве проходит ежегодный фестиваль монодрам, до финала конкурса удаётся дойти лишь нескольким моноактерам. Марина и Ляля работают над текстом монодрамы для Марины. Это биографический текст, Марине важно рассказать и сыграть. Ляле важно услышать и потом думать – почему так, откуда что взялось, и вообще… Ну, теперь, надеюсь, всё стало понятно.
Встреча первая. Подросток не знает, сколько нужно платить
Марина, как смущённая первоклассница, которой трудно начать. Для меня не имеет значения конкурс, дойти до финала, победить. Для меня очень важно рассказать. Я представляю себя на месте человека, которому, может быть, было бы важно это услышать… как я начала свой путь с ощущения полной никчёмности… Я думаю, что стоит рассказать. Если хотя бы один человек поймёт, что это возможно – найти в себе силы принять себя. Если бы я знала это раньше, у меня не ушли бы годы на то, чтобы думать «я какая-то неправильная».
Ляля. Мне трудно в это поверить. Ты такая красивая. И ты актриса, профессия у тебя вовсе не для неуверенного в себе человека.
Марина. У тебя так никогда не было. Когда думаешь, что разочаровываешь людей, просто входя в комнату. Входишь не с радостной уверенностью «ура, вот я!», а с робким чувством «извините, что я здесь, я не помешаю?». Когда все тебе всё время говорят, что с тобой что-то не так, ты думаешь: «Ну, они же знают». Думаешь, что люди знают о тебе больше, чем ты сама. И мгновенно теряешь веру в себя, ведёшь себя как жертва. Говоришь как жертва, думаешь как жертва. Становишься жертвой.
Ляля. Давай договоримся обойтись без слов «жертва», «нарцисс», «токсичные отношения», «осознанность», «обесценивание». Все эти слова от частого повторения уже сами обесценились. И чур, не говорим «абьюз». Ты просто расскажи. Как будто рассказываешь историю. Это же я. Ты ведь можешь мне рассказать?
Марина. Ну… да. Мне двадцать лет, я хочу стать актрисой.
Меня прослушали в двух театральных школах. В одну не взяли, в другую взяли. В первой на экзамене сказали: «Ты очень красивая, но этого недостаточно», во второй: «Ты очень красивая, может быть, этого тебе будет достаточно».
В первый день учёбы режиссёр собрал весь курс. Каждый должен был прочитать монолог, который читал на экзамене. Я села с краю, как нежеланный гость, понимая: я не справлюсь.
Почему я такая – всегда думаю, что не справлюсь, что я неудачная, неправильная, никчёмная? Это легко объяснить: так мне говорили все.
Моя фамилия в конце списка, до меня тридцать девять человек. Как только начну, все поймут, что я не должна тут быть, я не подхожу. Чтобы прочитать монолог перед всем курсом и не опозориться, недостаточно быть красивой. Всё это время, что я слушала тридцать девять человек, я думала: под каким предлогом сбежать. У меня заболел живот? Голова, ухо? Голова, ухо, живот… Нет, живот неприлично, лучше голова… или все-таки ухо? Когда меня наконец вызвали, я встала. Я забыла свой монолог!..
Можно было убежать… но я не убежала. Сила воли или умение идти к цели были здесь совершенно ни при чем: я не убежала от страха. Убежать страшней, чем остаться: все будут смотреть, как я в слезах бегу на своих высоких каблуках… Но что мне читать? Я напрочь забыла свой монолог. Я встала и начала говорить то, что пришло в голову, как на собеседовании. «Мне было пятнадцать лет, когда мы приехали в Израиль…»
После показа ко мне в туалете подошли девочки и сказали: «Как это ты так здорово умеешь плакать, ты ходила в театральную студию?» А я плакала, потому что рассказала со сцены свою историю. Я не ходила в театральную студию, я даже в театре никогда не была. Ты ведь знаешь, мы жили на окраине маленького уральского городка… Нет, была один раз. Один раз наш класс возили на «Карлсона».
В детстве мне было совершенно понятно, что я не могу стать актрисой. Мамина подруга спросила меня, кем я хочу быть, я сказала «актрисой». Мама сказала: «Ну, это же понятно, что у тебя ничего не получится… будешь старухой-снегурочкой». Я представила себя из года в год играющей Снегурочку… вот я в шапочке Снегурочки, седая и беззубая. Поняла, что мне нельзя думать, что я могу стать актрисой. Но не удивилась. …Я всегда думала, что разочаровываю людей, просто входя в комнату. Думала, я «какая-то неправильная». Я уже это говорила… не знаю, с чего начать…
Ляля, угрожающе. Начни уже с чего-нибудь, а то я тебя ущипну. Не думай о сюжете, потом посмотрим, куда выведет. Просто поговорим о тебе. Ну что ты вся сжалась, как ребёнок в кресле стоматолога?..
Марина. Когда я училась в первом классе, я больше всего любила ходить к стоматологу. Весь год ходила к зубному врачу – сама, одна, без мамы.
Ляля, осторожно. Это… необычно… там же бормашина и всё такое.
Марина. В поликлинике работала доктор Лидия Павловна, тёплая, с сияющими глазами. Когда я первый раз села в кресло, она спросила: «Сделать тебе укол или ты можешь немного потерпеть? Расскажи мне сначала, как твои дела?» И посмотрела мне в глаза. Я была счастлива: ко мне впервые проявили интерес! До этого никто не спрашивал, как мои дела, все всегда были заняты, и я, как детдомовский ребёнок, откликалась на любое эмоциональное участие. Я выбрала потерпеть, она удивлённо сказала: «Ты уверена?» и еще раз посмотрела на меня внимательно. …У меня болевой порог очень низкий, теперь, когда я лечу зубы, я даже с наркозом не могу терпеть, одно прикосновение инструмента приводит меня в ужас!.. Но тогда я готова была терпеть боль. Это был диссонанс между болью и счастьем, что мной интересуются. …Я была в тот день последним пациентом на приёме, и после того, как всё закончилось, доктор предложила мне чай, сказала, что хочет поболтать со мной. Со мной! Мне было очень неловко: а вдруг ей будет скучно пить со мной чай?.. Она сказала: «Ты похожа на испуганного оленёнка».
Я весь год специально грызла леденцы, чтобы зубы испортились. Доктор в поликлинике была единственным человеком, кто смотрел мне в глаза и спрашивал, как мои дела. Мама говорила: «Какой странный ребёнок, любит ходить одна к зубному врачу».
Ляля, немного ошарашенно. Как в кино. Ребёнок бредёт по серым улицам маленького городка к зубному врачу, потому что только врач спрашивает у него, как дела… Ну ладно, пусть мама была занята, но есть же папа… У тебя чудесный папа.
Марина. В семье считали, что воспитание детей не мужское дело. Мужчины много работают и отвечают за семью… в целом. А готовить, стирать, убирать, воспитывать детей – это женская обязанность. Готовка, уборка, воспитание детей – это одна обязанность, одно и то же, понимаешь?..
…Когда мне исполнилось пятнадцать, мы уехали в Израиль.
О том, что мы уезжаем в Израиль, я узнала не от мамы. Мама скрывала это от меня до последней минуты. Чего она боялась? Что я захочу остаться дома? Сбегу? Но, может быть, она ничего не боялась, а это была просто привычка – ничего со мной не обсуждать, ни о чем не разговаривать. Я – это же просто чемодан, зачем тратить на меня слова? С чемоданами не разговаривают. Чемодану не рассказывают, что он уезжает в Израиль. Если бы мама могла сдать меня в багаж, она бы скрыла это от меня до того момента, когда я выкачусь на багажной ленте в аэропорту Бен-Гурион.
Мне сказал мальчик-одноклассник: «Говорят, ты уезжаешь в Израиль. Ты еврейка». Это был шок: почему я еврейка, что это – еврейка? Я посмотрела в классном журнале – на последней странице, где записывали национальность учеников, стояло: «Марина Каплан – еврейка». Я еврейка. Значит, правда и то, что мы уезжаем в Израиль? Я еврейка, мы уезжаем в Израиль… А что это – еврейка, а где Израиль?
Ляля. Я не понимаю. Тебе было пятнадцать, и ты не знала, что ты еврейка?
Марина. Когда я спросила маму, почему она не сказала мне, что мы уезжаем в Израиль, она ответила: «Мне некогда разговаривать». А вопросу «что означает быть еврейкой?» страшно удивилась: «Ты что, правда не знала, что ты еврейка?» Но откуда я могла знать? Мама не говорила со мной на «взрослые темы». Что-то считалось стыдным, например, что начнутся месячные. Мама не рассказала мне, что у меня начнутся месячные. Увидев кровь, я решила, что заболела страшной болезнью. Я полгода ела из отдельной посуды, чтобы не заразить этой страшной болезнью маму, пока мне не попалась под руку медицинская энциклопедия. Уверена, что мама не мучилась, не думала: «Бедная девочка, она удивится или будет шокирована, когда узнает». Ей просто было всё равно. Не рассказывать, молчать, а ты потом делай с этим что хочешь… Что-то считалось стыдным, а что-то двусмысленным и опасным, к примеру, иметь репрессированных родственников или быть еврейкой. Объяснять мама не стала, сказала: «Ну хорошо, приедешь в Израиль, всё узнаешь, сейчас мне некогда».
…Я больше никогда не увижу снег? Я обожала снег. Мамин день рождения зимой. В доме мама с гостями весёлая, смеётся, подруги обнимают ее. Если бы мама была с ними такой же, как со мной, мне не было бы так обидно. Для папы, подруг и учеников, для всех, кроме меня, мама совсем другая. Если есть на свете безупречный человек, то это моя мама, лучший в городе учитель. …Любимая учениками и коллегами, у нее нет любимчиков, она никогда не участвует в обычных для женского коллектива склоках.
…На улице еще темно, и под светом фонарей только-только выпавший снег сверкает, как будто кто-то осыпал всё вокруг бриллиантами. Волшебство… Я ходила по свежим сугробам, смотрела, как в них остаются ямки от моих валенок, и думала: «Люди не всегда могут дать то, что нам нужно. Для других – для папы, для всего мира, кроме меня, – она совсем другая – весёлая, открытая, а для меня нет. Это потому, что я плохая, такая плохая, что она просто не может быть со мной весёлой и тёплой, не может дать мне то, что даёт всем». …Однажды я спросила маму, какой я была, когда родилась. Все дети спрашивают. Мама ответила: «Да никакая. Я не помню. Помню, что мне не нравился младенческий запах. Я тебя кормила из бутылочки, тебя рвало, я опять кормила». Получается, что с самого рождения я была не очень.
Мне было любопытно уехать. Ничего волнующего в моей жизни в нашем городке не было. Я откуда-то знала, что в Тель-Авиве резко темнеет. Это все, что я знала об Израиле.
Когда я сошла с трапа самолёта, мне по ногам ударил жаркий воздух. Внизу у трапа стоял фотокорреспондент. Он сказал мне: «Ты самая красивая новая репатриантка в этом году». Я?.. Я красивая?.. Красивая?! Я была неуклюжая, как жирафёнок, застенчивая. Дома, в городке, я не пользовалась успехом у мальчиков. У меня не было «первой любви», ухаживаний, цветов, провожаний, я ни разу не целовалась. Я даже не задавалась вопросом – почему так? Я знала ответ. Я точно знала одно: я всё всегда делаю не так.
– Мар-рина! Когда к тебе обращаются, смотри в глаза, а не в сторону, – сказала мама.
Господи, ну почему я всегда всё делаю не так… Я всё делаю недостаточно хорошо, и сама я недостаточно хороша, сколько ни старайся. Когда ты маленький и с тобой всегда строго обращаются, ты не перестаёшь любить родителей. Ты перестаёшь любить себя. От этого ощущения собственной малой ценности я была страшно не уверена в себе. Стеснялась, даже когда со мной просто здоровались. Я всегда думала, что меня не хотят. Боялась, что меня не примут, что я не понравлюсь…