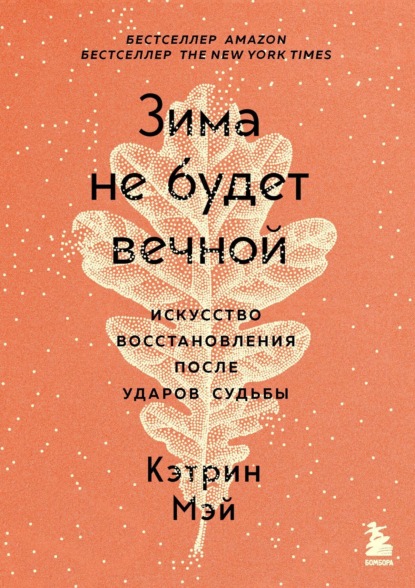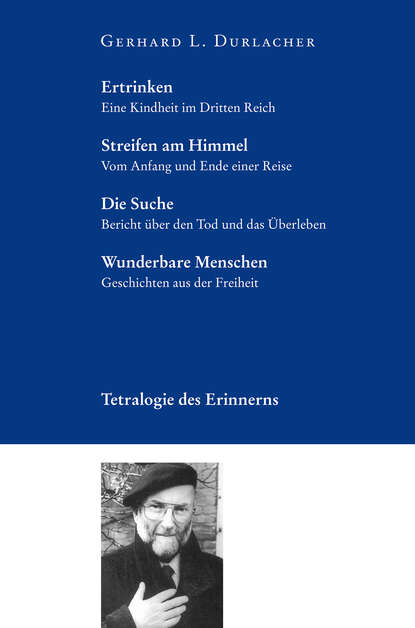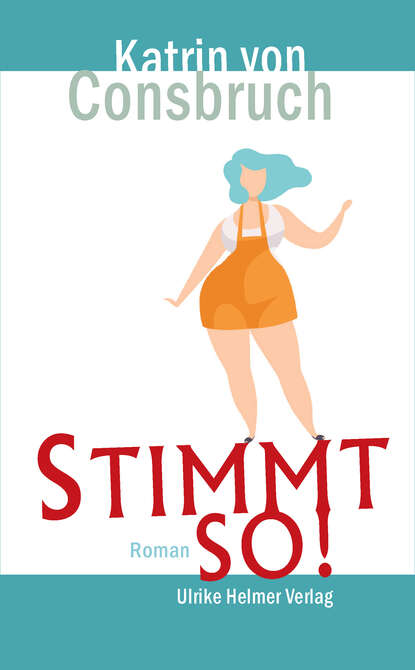Беглый

- -
- 100%
- +
– При таких заработках твой народ должен быть богатым? – спросил я.
Бату горько усмехнулся.
– Заработки есть. Но редкий увозит домой несколько сот рублей. Все остальные деньги переходят к китайцам. Те обманывают мой моих соплеменников самым бессовестным образом.
– И как же? – заинтересовался я.
– Навстречу каравану выезжают китайцы и приглашают хозяина остановиться у них даром, оказывая всяческое внимание. В другое время китаец и говорить то не станет. Соплеменник доверяет хитрому китайцу рассчитаться за чай, который берет на извоз. Это и нужно. Получив деньги, он обсчитывает и предлагает товары по двойным ценам. Часть денег идет на подати, взятки, часть пропивается, и в конце концов мои соплеменники уезжают с ничтожным остатком. Еще часть он отдает в кумирни жрецам, так что возвращается домой почти с пустыми руками!
Я слушал его и думал о том, как похожи методы обмана во все времена и у всех народов. И о том, как важно нам самим не попасть впросак, когда придет время сбывать наше серебро.
Степь казалась мирной, но мы нутром чуяли опасность. И она пришла неожиданно, глубокой ночью, когда лагерь спал тревожным сном. Меня разбудило неясное движение, тихий шум – фырканье лошадей, приглушенные шаги. Рядом завозился Софрон, солдатской чуйкой тоже уловивший неладное.
– Что там? – шепотом спросил он, рука его уже нащупывала приклад ружья.
– Тихо! – прошипел я, вглядываясь в темноту за пределы тусклого круга света от догоравшего костра. Луны не было. В тенях, там, где стояли верблюды и наша единственная оставшаяся лошадь, мелькали какие-то фигуры. Невысокие, быстрые, двигались почти бесшумно. Сомнений не было. Конокрады! Или, как их тут называли, хунхузы – местные бандиты, промышлявшие грабежом караванов и угоном скота.
– Тревога! – заорал я во все горло, вскакивая на ноги. – Хунхузы! Скот угонят!
Лагерь мгновенно взорвался криками и суматохой. Монголы Хана выскочили из своего войлочного шатра с ружьями и луками. Наши тоже вскочили, хватаясь за оружие – ружья, ножи, что было под рукой. Несколько теней уже отделились от стада, вели за собой упирающихся верблюдов и пару монгольских лошадей. Наших, к счастью, не тронули – видимо, не успели. Раздался свист стрел – монголы открыли огонь. Я увидел, как один из хунхузов вскрикнул и упал, скорчившись. Остальные, не обращая внимания, пытались быстрее увести добычу.
– Сафар, Тит – за мной! – скомандовал я, выхватывая нож – в темноте стрелять было рискованно, можно было попасть в своих. – Остальные – прикрыть! Не дай им уйти! Захар, Софрон, Левицкий! Огонь по тем, кто отходит!
Глава 3
Мы рванулись в темноту, наперерез угонщикам, пока монголы Хана, выскакивая из своего войлочного шатра, уже посылали в ночь первые свистящие стрелы.
Сафар, двигаясь с нечеловеческой кошачьей грацией, первым настиг одного из хунхузов. Тот как раз пытался взнуздать нашу лошадь, жадно оскалившись. Молниеносная подсечка – и бандит мешком рухнул на землю, выронив кривую саблю. Сафар не дал ему опомниться: короткий прыжок, и он уже сидел на поверженном враге. В темноте мелькнул отблеск его ножа, послышался сдавленный хрип, и фигура хунхуза обмякла. Все произошло за считанные секунды.
Тит, рыча от ярости при свежем воспоминании о серебре, умыкнутом наглой вороной, выбрал себе жертву покрупнее – коренастого бандита, который уже почти оседлал одного из хозяйских верблюдов. Наш гигант догнал его в два прыжка, его огромная ручища мертвой хваткой вцепилась в шиворот рваного халата. С диким ревом Тит оторвал хунхуза от верблюда и, с чудовищной силой швырнул его оземь, что мы услышали тошнотворный глухой удар и отчетливый хруст ломаемых костей. Бандит тут же заверещал, но Тит еще пару раз прыгнул на него и тот затих, оставшись лежать скрюченной куклой.
С другой стороны лагеря тоже кипел бой. Софрон и Захар, заняв позиции за перевернутыми тюками, палили из своих старых, но верных ружей по мечущимся в темноте теням. Каждый выстрел сопровождался густым облаком дыма и громким хлопком, добавляя сумятицы.
– Подавись, сволочь! – рычал Захар, перезаряжая ружье с лихорадочной скоростью.
Левицкий, действовал с ледяным хладнокровием. Укрывшись за одним из сваленных верблюжьих вьюков, он методично и расчетливо стрелял, тщательно выцеливая каждую цель. После одного из его выстрелов где-то во тьме раздался пронзительный визг, и одна из теней, пытавшаяся увести пару лошадей, рухнула на землю.
Даже Изя, хоть и дрожал всем своим хилым телом так, что зубы стучали, стоял насмерть рядом с мешками серебра. В руках он сжимал тяжелую дубовую палку, которой обычно подпирали котел, и был готов огреть любого, кто посмеет приблизиться к нашему сокровищу. – Таки не дамся! Шлемазлы проклятые! – доносился его сдавленный, но полный отчаянной решимости писклявый голос.
Хунхузы – оборванцы в рваных ватных халатах, бараньих тулупах и кожаных куртках, – явно не ожидали такого дружного и яростного отпора. Они привыкли к тому, что мирные караваны при их появлении впадают в панику, и рассчитывали на легкую добычу. Но сегодня они столкнулись не с купцами, а с людьми, которым терять было уже нечего, кроме собственной жизни да последней надежды, которую олицетворяло это проклятое серебро.
Я сам, выхватив тесак, бросился туда, где схватка была самой жаркой. Один из бандитов, размахивая саблей, пытался прорваться к верблюдам, оттесняя наших монголов. Я налетел на него сбоку, парировал неуклюжий удар, поднырнул под его руку и коротким, точным выпадом полоснул его по незащищенной шее. Хунхуз захрипел, заливая землю темной кровью, и осел.
Потеряв несколько человек убитыми и ранеными, монголы тоже не зевали, их стрелы находили цели в темноте, и видя, что скот им не угнать, а отпор становится только злее, бандиты дрогнули. Раздался пронзительный, режущий ухо свист – сигнал к отступлению. Оставшиеся в живых хунхузы мгновенно прекратили бой и, как призраки, растворились в ночной степи так же быстро и бесшумно, как и появились.
Все стихло. Только тяжело, прерывисто дышали люди, да испуганно фыркали и переступали ногами потревоженные животные. Адреналин еще бил в висках, руки слегка подрагивали. Тяжело дыша, мы собрались у спешно раздуваемого костра. Осмотрелись. На утоптанной земле вокруг лагеря остались три или четыре тела хунхузов. Один из монголов был ранен стрелой в плечо, но, осмотрев рану, лишь махнул рукой – не тяжело. Ему тут же что-то промыли и туго перевязали. Из наших, к счастью, никто серьёзно не пострадал – отделались синяками, ссадинами да царапинами. Тит рассек костяшки пальцев о зубы одного из бандитов, Сафар получил болезненный, но неглубокий порез саблей по спине, когда уворачивался от удара.
Хан подошел к нам. Осмотрел меня и моих товарищей долгим, внимательным взглядом. Его обычно непроницаемое, выдубленное ветрами лицо выражало явное уважение.
– Хунхузы, – коротко сказал он, кивнув на темнеющие в стороне тела. – Плохое место здесь. Много бандитов. Вы – хорошие воины. Вместе – сила.
Мы молча переглянулись. Эта ночная схватка отрезвила и сплотила нас еще больше. Это была дикая, опасная земля, где жизнь человеческая стоила дешево, а право слишком часто определялось лишь силой оружия.
Наше серебро по-прежнему жгло руки, путь к Гайнчжуру был еще долог. Но теперь мы знали одно – просто так мы свою жизнь и свою последнюю надежду не отдадим. До рассвета никто больше не смыкал глаз. Взбаламученная кровь не давала уснуть. Стиснув зубы, мы были готовы двигаться дальше, вглубь.
Большая дорога на Гайнчжур, больше напоминавшая широкую, пыльную просеку, петляла по выжженной солнцем долине. Она то терялась среди густых зарослей серого, колючего кустарника, то ныряла в зеленые островки возделанных полей, то и дело ветвясь на едва заметные тропы, уводящие к разбросанным тут и там фанзам. Монголам-проводникам, несмотря на их опыт, приходилось постоянно останавливаться, всматриваться в далекие, синеющие на горизонте сопки-ориентиры и расспрашивать редких встречных, чтобы не сбиться с пути.
Всюду виднелись приземистые китайские фанзы, слепленные из необожженной глины с соломой, с характерными плоскими, чуть загнутыми крышами. Возле них копошились люди. Стояла пора полевых работ, и китайцы, согнувшись в три погибели под беспощадным солнцем, усердно трудились на своих крохотных наделах.
Местность здесь считалась плодородной, и каждый клочок земли был обработан с невероятным тщанием. При виде нашего каравана крестьяне выпрямлялись и с нескрываемым любопытством разглядывали проезжих, нередко заговаривая с Ханом, расспрашивая, откуда и куда мы держим путь, что везем.
– Смотри-ка, Курила, – толкнул меня в бок Софрон, кивая на согнутые спины, – пашут, не разгибаясь, от зари до зари. И живут-то, погляди, в каких хатах нищих. А все одно – хозяева на своей земле. Не то что наш брат подневольный…
– Таки работают, как муравьи! – вставил Изя, с профессиональным интересом наблюдая за торгом Хана с местными. – А своего не упустят, я вас умоляю! С них копейку лишнюю не слупишь! Ушлый народец!
Все чаще попадались встречные караваны с чаем, легкие двухколесные повозки с китайцами в синих халатах, скрипучие грузовые арбы, запряженные лохматыми волами. Брели верблюды и ослики, навьюченные хворостом и зерном. Проносились всадники на выносливых монгольских лошадках. Воздух наполнился скрипом колес, криками погонщиков и звоном верблюжьих колокольчиков.
Наконец, в мареве жаркого дня показались зубчатые стены Гайнчжура. Внушительная крепостная стена из крупных неотесанных камней, с массивными квадратными башнями, выглядела мощно, но по-азиатски грубо. Город, как объяснил Хан, делился на монгольскую и китайскую части. Караван, подняв тучи пыли, медленно втянулся через высокие каменные ворота в китайскую часть.
Первое впечатление – оглушающий шум, невообразимая теснота и удушливая пыль. Лабиринт узких, кривых улочек, плотно застроенных одноэтажными глинобитными фанзами. Воздух был тяжелым, спертым, пропитанным запахами нечистот, едкого дыма и готовящейся еды – острого перца, чеснока, жареного масла. Отовсюду неслись крики торговцев, лай собак, рев верблюдов.
Санитарами на этих улицах были лишь вездесущие тощие собаки да черные вислобрюхие свиньи, деловито рывшиеся в мусоре.
Мы решили не испытывать судьбу в общем караван-сарае и сняли комнату на постоялом дворе – довольно просторную, но унылую и грязную каморку с земляным полом, широкой глинобитной лежанкой-каном и маленьким окном, заклеенным промасленной бумагой. Из мебели – лишь шаткий стол да пара табуретов.
Осмотрев город, мы пришли в еще большее уныние. Семенящие на изуродованных ножках знатные китаянки. Толпы полуголых детей с раздутыми животами, дряхлые старики, безучастно гревшиеся на солнце…
Я многое повидал в прошлой жизни – и пыльные городки Сахеля во времена Иностранного Легиона, и разрушенные аулы Чечни, – но такой концентрированной грязи, скученности и безысходного равнодушия к собственному убожеству, как в этом маньчжурском городе, я не мог себе представить.
Все здесь казалось чужим, убогим, враждебным. На базаре царила обычная для востока суета. Самой ходовой монетой оказался кирпичный чай – плитки твердого, спрессованного чая пилили на куски и ими расплачивались буквально за все. Русские деньги местные брали неохотно, предпочитая китайские серебряные слитки-ланы или чай. Настроение после прогулки по городу было хуже некуда.
Оставалась последняя, тающая надежда – наше серебро. Под руководством Хана мы попытались пристроить хотя бы часть клада. Захар и Изя, взяв пару неказистых слитков, обошли несколько лавок. Вернулись к вечеру мрачные. Китайские торговцы, по их словам, были само радушие, кланялись, угощали чаем, но когда дело доходило до цены, становились непробиваемо скупыми.
– Таки гроши предлагают, я вас умоляю! – возмущался Изя. – За наши слиточки, чистое заводское серебро, дают цену, как за ломаный чугун! Говорят, форма подозрительная! Жулики!
– Дело не только в жадности, Изя, – устало покачал головой Захар. – Нюхом чуют, что оно с казенного завода. Краденое или от беглых. А тут граница, начальство хоть и продажное, но за такое и голову снять может. Боятся связываться. Да и золото здесь больше в ходу, серебро не так ценится, особенно в таких вот неказистых слитках.
Вечером Хан сообщил, что основной караван Лу Синя через пару дней движется дальше на восток, через городок Якэши к конечному пункту – большому торговому поселению Бухэду. Там, по его словам, и торг должен быть бойчее, и публика посолиднее, подальше от пограничных властей.
– Ну что, Курила, делать будем? – спросил Софрон, когда мы собрались в нашей каморке. – Оставаться здесь – дело гиблое. Серебро не сбыть, харчи дорогие, да и место неспокойное. Деньги наши тают.
Лица у всех были мрачные, осунувшиеся.
– Выбора у нас нет, – твердо сказал я. – От каравана отставать нельзя. Одни мы здесь пропадем. Поедем с Ханом. Может, там повезет больше. Главное – держаться вместе. Все молча согласились.
Перспектива была туманной, но это была хоть какая-то перспектива. Мы снова были в пути, снова в неизвестность. Караван Лу Синя, отдохнув в Гайнчжуре, тронулся на восток.
Через несколько дней однообразного пути по холмистой степи, где единственным развлечением была охота на фазанов да наблюдение за тарбаганами, мы прибыли в Баин-Тумэн.
Если Гайнчжур показался нам грязной дырой, то Баин-Тумэн, хоть и не блистал чистотой, выглядел заметно оживленнее и богаче. Тот же лабиринт узких улочек, но здесь чувствовался размах торговли.
Китайские магазины-«пузы» выставляли лучший товар на улицу в красивых резных павильонах-витринах. Над входами висели большие лакированные вывески с позолоченными иероглифами. Город делился на административную и торговую части, каждая со своей стеной.
Торговая, однако, имела немало пустырей. Самой оживленной была восточная улица – сплошной ряд лавок, харчевен, цирюлен, мастерских. Торговля шла бойко и прямо с лотков, создавая невообразимую толчею. Товаров было заметно больше, чем в Гайнчжуре, встречались и дорогие шелка, фарфор, изделия из кости.
Наш караван остановился на большом, шумном постоялом дворе. Двор был до отказа забит людьми, верблюдами, лошадьми. Едва мы спешились, как из дверей главной фанзы-трактира донесся зычный, негодующий бас, громыхавший по-русски:
– Да чорт бы побрал этого ирода, амбаня вашего! Живоглот проклятый! Ворюга ненасытный! Чтоб ему пусто было на том и на этом свете!
Мы с товарищами переглянулись. Похоже, судьба снова свела нас с соотечественниками. Заинтересовавшись, мы направились к фанзе.
Нарушителем спокойствия оказался дородный мужчина лет сорока пяти, в добротной темно-синей суконной поддевке поверх ярко-красной шелковой рубахи, подпоясанный широким узорчатым кушаком. Широкое, медно-красное, словно начищенный самовар, лицо его с густой русой бородой лопатой прямо-таки тряслось от гнева. Типичный русский купец средней руки, энергичный и себе на уме.
– Почто так гневаетесь, господин хороший? Аль обидел кто не по делу? – спросил я его с той бесцеремонной развязностью, что легко возникает между русскими на чужбине. Рядом остановились Левицкий, с аристократическим любопытством разглядывавший купца, и Изя, уже прикидывавший, нельзя ли извлечь из знакомства коммерческую выгоду.
Глава 4
Купец резко обернулся, смерил нас быстрым, пронзительным взглядом – оборванных, пыльных, загорелых дочерна, но своих, русских. Гнев на его лице, красном, как начищенный самовар, слегка поутих, сменившись горечью и такой досадой, что кулаки сами собой сжимались.
– Да вот, сударь, извольте глядеть! Беда у меня! Чистое разорение! – он с силой махнул мозолистой рукой в сторону города, откуда доносился неумолчный гул. – Звать меня Никифор Семеныч, фамилие Лопатин, иркутский купец второй гильдии. С этим народом диким, а пуще того – с ихним начальством, решительно никакого дела иметь невозможно! Одно слово – дьяволы ненасытные! Я ж как положено, по-людски хотел… – вздохнул он тяжело, глядя в пыльное небо.
Я кивнул и, не дожидаясь приглашения, уселся на скамью рядом. Мои спутники подошли ближе, ловя каждое слово.
– Прибыл намедни с караваном, товару немного вез, обычно другим путем хаживал, а тут нелегкая дернула! – продолжал Лопатин, понизив голос и опасливо оглядываясь. – Остановился здесь, на постоялом дворе. И спросил у хозяина – человек он вроде бывалый, по-русски малость шпрехает. Как, мол, тут с торговлей? Можно ли в город соваться? Я ведь знаю их порядки: при въезде с товаром плати мыто – пошлину эту проклятую. А какую – это уж как местный сатрап, амбань этот самый, решит. Захочет – грош возьмет для вида, а захочет – последнюю портянку с тебя сдерет, и не пикни!
Лопатин обмахнулся платком, отпил горячего чаю, принесенного услужливым слугой.
– Хозяин-то, китаеза этот узкоглазый, хитрый, как лис, сперва рассыпался в любезностях – мол, всё можно, милости просим, торговля вольная… А потом отвел в сторонку и шипит на ухо: «Ты, господин купец, товар-то свой в город не вези. Не надо. Наш амбань – зверь! Жадный и крутой нравом. С тебя пошлину слупит несусветную, это раз. А два – как ты лавку снимешь, товар разложишь, он непременно сам пожалует с визитом вежливости. Выберет, что глаз ляжет, самое лучшее, самое дорогое, и цену назначит свою, смешную. А то и вовсе задарма заберет, скажет – подарок! И слова ему поперек не молви – он тут царь и бог, в колодки вмиг или батогами прикажет попотчевать!» Вот так-то, господа! Каково?!
– Таки грабеж средь бела дня! Натуральный разбой! – не удержался Изя, всплеснув руками. – Я вас умоляю, это ж хуже, чем на одесском Привозе!
– И что же вы предприняли, господин Лопатин? – спросил Левицкий, в глазах которого отразилось аристократическое негодование.
– А что тут предпримешь? – горестно вздохнул купец. – Консула нашего здесь нет, городишко хоть и бойкий, а по сути – дыра дырой. Защиты никакой! Хозяин посоветовал: «Ты, – говорит, – поезжай в город налегке. Я тебе лавку укажу, человек там знакомый сидит, с понятием. Скажи ему по-дружески, какой товар. Он сам сюда приедет, отберет, что ему надобно, да потихоньку, малыми партиями, как свой товар, в город перевезет, без пошлины. Только много не возьмет, сам понимаешь».
– И вы согласились? – спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине при мысли о нашем серебре.
– А куда деваться? Планы мои торговые это, конечно, порушило, но хоть что-то выручить! Поехал вчера с приказчиком моим, Сенькой. Я по-местному балакаю, одет был по-дорожному, в халат – за своих приняли, пропустили. Нашли ту лавку. Хозяин – китаец маленький, юркий, глазки так и бегают. Сговорились. Заодно снеди прикупили – мяса, лепешек, фруктов душистых – и вернулись.
– Тюки у меня с товаром в отдельной фанзе под замком, подобраны еще в Иркутске, чтоб в каждом всего понемногу: ситец, сатин, миткаль, фланель, сукно разных цветов. Удобно. Перенесли с Сенькой два тюка, ровно верблюжий вьюк, в свою фанзу, разложили образцы. Вскоре и купец-китаец приехал. Поглядел, пощупал, понюхал, отобрал, что надо. Поторговались за чаем битый час, угостил я его своей клюквенной. Ударили по рукам. Он поехал в город за деньгами, обещал к вечеру вернуться и товар забрать.
Купец помрачнел еще больше, побагровел, сжал кулаки.
– Ага! Как же! Не прошло и двух часов, как вбегает хозяин двора, бледный, как смерть, глаза выпучил, руками машет: «Беда! Сам амбань едет! Прознал!» Я хозяину: ты, мол, про остальной товар – ни гу-гу! Верблюды наши, слава богу, паслись не при дворе. А то бы он по числу скотины смекнул, что к чему, потребовал бы все показать, и тогда – прощай, весь мой труд! Сколько б захотел, столько б и загреб!
Он снова отхлебнул чаю, голос его дрожал.
– Ну, приехал. Шум, гам! Вперед двое верховых с копьецами. За ними носилки его расписные, четверо слуг несут, пыхтят. Сзади еще двое конвоиров. А следом – вся деревня сбежалась, глазеть. Вылез он из носилок – важный, толстый, как боров, халат парчовый, тигр золотом вышит, на башке шляпа с синим шариком – чин его! Хозяин в землю кланяется, лебезит. Мы с Сенькой тоже поклонились. Зашел, сел в кресло. С ним секретарь его, с бумагой, кисточкой. Начался допрос: кто, откуда, зачем? Я паспорта подал, говорю: так и так, торговали в Урумчи, остатки вот сюда привезли. Он дальше: на чем приехали, где животные? Я – на телеге, мол, лошади во дворе. Хозяин кивает. Амбань хитро так: почему не в городе? Мы – думали, тут часть продадим. Он усмехается в усы: кто тут твой дорогой товар купит? Покажите!
Лопатин в сердцах стукнул кулаком по столу.
– Стали показывать. Он каждую штуку щупает, на свет глядит, нос воротит – и дорого, и товар неважный… А потом цедит так небрежно: «Ладно, помогу вам. Отложите мне по две штуки каждого сорта, что мне понравятся». И секретарю: «Запиши! И посчитай пошлину. Десятина – за привоз. И еще десятина – мне за помощь». Пятую часть ему подавай! Секретарь сел считать. Я подаю, цену называю. Он выбрал сортов двенадцать, самых лучших! Дешевые забраковал. Двадцать четыре штуки – ровно половина того вьюка! Насчитал секретарь четыреста лан серебра – по-нашему рублей восемьсот! «Деньги, – говорит амбань, – завтра утром пришлю, а товар сейчас заберу». Встал и вышел. Секретарь солдатам командует. У тех и мешки, и веревки с собой – видать, не впервой грабят! Живо три вьюка связали, на лошадей перекинули. Амбань проследил, в носилки свои плюхнулся – и уехал.
– И что, деньги прислал? – подался вперед Изя.
– Прислал, не обманул, черт бы его драл! – криво усмехнулся Лопатин. – Утром секретарь его принес мешочек. Только не серебро там было, а бумажки! У них тут свои бумажки печатают, вроде векселей. Ходят только в этом городе! Вот так! Мало того, что полцены за лучший товар взял, так еще и какими-то сомнительными фантиками расплатился!
– Ох, горе! Разбойник! – искренне посочувствовал Изя.
– И что теперь с этими фантиками делать будете? – спросил я.
– А вот не знаю! – развел руками Лопатин с видом полного отчаяния.
– Сенька, приказчик мой, чуть с ума не сошел. Китаец тот, что покупать хотел, вечером приезжал, забрал остатки, еще лан четыреста серебром дал. Сказал, ночью товар в город провезет, караульным взятку даст. Видать, он сам амбаню-то и нашептал, подлец! Теперь вот сижу, репу чешу… Бумажки эти надо здесь тратить. Верблюд у меня освободился. Думаю, зерна купить для скотины – овса там, или чего еще. Ну, себе провианту! А все равно большая часть этих бумажных денег останется! Куда их девать? Хоть в нужник кидай! Вот такие тут порядки, господа хорошие. Так что, ежели вы тоже с товаром каким особым сюда прибыли… ой, глядите в оба! Амбань этот – зверь лютый! Пронюхает – не пощадит!
Рассказ купца произвел на нас впечатление. Мы поблагодарили его за откровенность и отошли к своим тюкам.
– М-да, весело тут у них, – пробормотал Левицкий, брезгливо оглядывая грязный двор. – Азиатчина во всей красе. Произвол и вымогательство.
– Куда мы попали покачал головой Изя.
– Значит, в городе соваться с нашим серебром – смерти подобно, – мрачно заключил Захар. – Амбань этот сразу пронюхает. Нюх у таких на поживу звериный. И все отберет.
– Похоже на то, – согласился я, чувствуя, как внутри все похолодело.
История Лопатина ясно показывала: продать серебро здесь будет еще сложнее, чем в Гайнчжуре.
– Значит, надо думать. Либо искать совсем уж обходные пути здесь, через мелких перекупщиков, что рискованно. Либо… двигаться дальше с караваном в Бухэду. Там, говорят, и город побольше, и торговля посвободнее.
Мы снова оказались перед выбором. Проклятое серебро Фомича, наша надежда, превратилось в смертельно опасный груз. Вечером мы сидели в своей душной, пахнущей пылью каморке. Настроение было подавленное. Снаружи доносился шум постоялого двора.
Рассказ Лопатина заставил меня задуматься. История с амбанем и бумажками… в ней таилась возможность. Пока мои товарищи мрачно обсуждали здешние нравы, я подошел к все еще кипевшему гневом купцу.
– Уймите гнев, господин Лопатин, – начал я примирительно. – Дело паскудное. Но скажите, велика ли прореха от этих бумажек? Совсем им ходу нет? Лопатин махнул рукой.
– Да как сказать… На часть этих фантиков я тут прикуплю кое-чего. Народец-то местный берет. Но это ж мелочь! А львиная доля – почитай, лан триста серебром! – так и останется мертвым грузом! Куда я их дену?
– А ежели… – я понизил голос, – я у вас эти бумажки… выкуплю? Ту часть, что без надобности, а то и все.
Лопатин уставился на меня с недоумением.
– Выкупишь? Ты? Чем же это?
– Серебром, – так же тихо ответил я.
Глаза купца округлились, потом хитро сощурились.
– Серебром… А какой же курс? Уж не лан за лан ли?
– Что вы, господин Лопатин! – я изобразил скромность.
– Сами говорите – бумага эта дальше города не ходит. Риск для меня какой! Пятую часть дам. За каждые пять лан бумажных – один лан серебром.