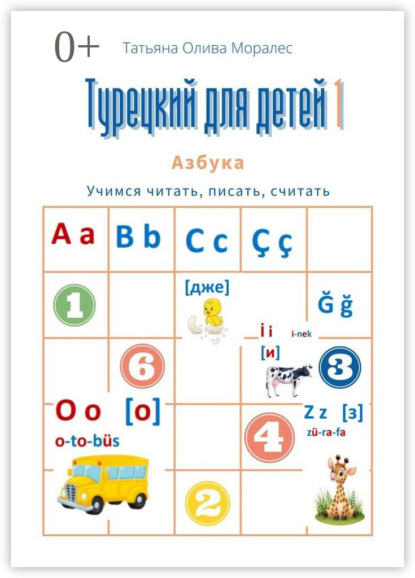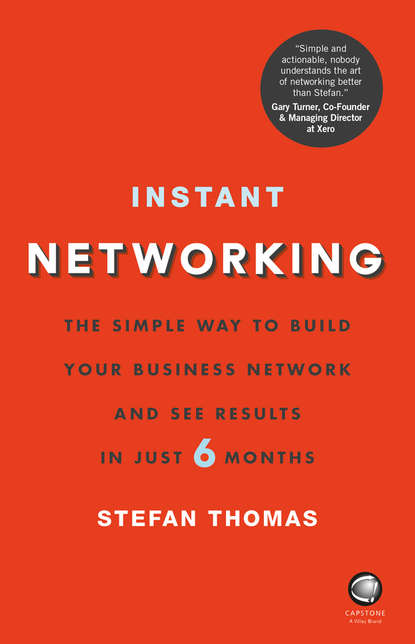Путникам в Россию

- -
- 100%
- +

© А. М. Любомудров, составление, вступительная статья, комментарии, 2019
© С. В. Егорова, иллюстрации, 1999
© «Сибирская Благозвонница», оформление, 2019


Борис Константинович Зайцев
Алексей Любомудров
Родина на Кресте
Если смотреть на Россию взором здравого смысла, одного здравого, есть от чего содрогнуться. Но за здравым есть и не-здравый. В Промысел просто надо верить, как поверил в конце Иов. А это значит – всегда свое сохраняя и ничего не уступая, принять Крест как предложенный для неизвестных нам, необозримых, но и высших целей.
Б. К. Зайцев. Дни[1]Российскому читателю хорошо знакомы книги Бориса Константиновича Зайцева (1881–1971) «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон», «Валаам», многочисленные очерки о русских святых и подвижниках. Зайцеву принадлежат жизнеописания классиков русской литературы – Жуковского, Чехова, Тургенева, сборники воспоминаний «Москва», «Далекое».
В настоящую книгу включены произведения художника, быть может не столь широко известные, но тем интереснее будет любителям словесности открыть новые грани таланта и духовного мира замечательного русского классика. Эти произведения объединяет общая тема – крестный путь России в XX веке.
Борис Зайцев – один из немногих писателей, которых отличает цельное православное мировоззрение. Оно пронизывает всё его творчество и гармонично отражается в его художественном мире. Переживший революции и войны, лишенный родины, Борис Зайцев всегда оставался художником, принимавшим и любившим Жизнь, твердо верившим в Промысл. Он часто говорил о загадочности, непостижимости небесных путей, но не сомневался, что в любых испытаниях Господь не оставляет Своих чад и ведет их ко спасению.
Зайцеву, тонко чувствующему гармонию мира, музыку небесных сфер, откликающемуся душой на свет звезды, довелось, вместе с миллионами русских людей XX века, пройти через тяжкие испытания, горькие скорби. И не только страдать самому, но видеть горе близких людей – а таких было немало на его 90-летнем жизненном пути. Снова и снова возникали вопросы: для чего попущено зло? почему погибают лучшие, а злые торжествуют? что происходит с Россией, сгинет ли она окончательно в безбожно-кровавой стихии или воскреснет? и что будет со всем «цивилизованным» миром, погрузившимся в череду войн? Ответы на эти вопросы русская мысль давала самые разные. Борис Зайцев отвечает на них как православный христианин.
Кровавый ужас революции, захлестнувший Россию, привел Зайцева в Православную Церковь, верным чадом которой он оставался всю жизнь. Он увидел и принял сердцем свет Христовой Истины, к которой его душа тянулась с юных лет. «Погибали близкие, молодые, чаще всего безответные – безвинно. Горестно вспоминать о том времени. Но ужасы, беды тех лет, показавших зверя в человеке, показали зато, в стенаниях души, и высший, немеркнущий мир Спасителя, Евангелия, мученической Церкви в особо ослепительном, как бы Фаворском свете» [9, с. 373].
Зайцевское понимание страдания всегда сопряжено с христианским смирением и верой в Промысл Божий. «Зверя» побеждает не физическая сила, не политическая борьба, а сила духовная. Смирение, кротость, молитва – вот средства, кажущиеся для мирского разума безумными, только ими можно одолеть злобу мира сего. Сквозь все книги Зайцева проходит утверждение смирения – главнейшей добродетели христианина, противоположной главнейшему греху – гордости. Смирение – это ви́дение прежде всего своих грехов и немощей, мужественное принятие всего посылаемого Господом, это твердое, даже до смерти, стояние в вере. Святые отцы сравнивали смирение с твердой скалой посреди бушующего моря мирских страстей, а св. Иоанн Лествичник говорил об «обоюдоостром мече кротости и незлобия» – такое оружие предложено для борьбы с силами тьмы. «Достоинство человека есть вольное следование пути Божию» [9, с. 372], – скажет он в напутствии молодым соотечественникам. Доверием к Творцу проникнуты все работы Зайцева: ничто происходящее с человеком не является бессмысленным; в мире не бывает случайностей. Смысл происходящего подчас загадочен, непостижим и открывается только со временем.
Россию XX века Зайцев воспринимал как страну «терзаемую и терзающую». В судорогах и кровавых вихрях истории он различает «Святую Русь», продолжающую жить в современных подвижниках, праведниках, новых мучениках. Она незримо присутствует и в России Советской: «Дух России оказался вечно жив. В бедах, крушениях он еще сильней расцвел. Насколько есть в нем дуновение Духа Святого, настолько и жизнь» («Ответ Мюллеру»). Размышлениям об этом посвящены публикуемые произведения из творческого наследия Зайцева. Это замечательные образцы православной публицистики, определяющие позицию христианина в современном грохочущем «мире Кесаря», в наступающих уже эсхатологических временах.
Зайцев уповает на грядущее возрождение Родины именно как христианской страны. И видит особое значение России и для всего мира: «Истина всё-таки придет из России. <…> “Святою Русью” – в новых ее формах, в бедности и простоте, тишине, чистоте, незаметно, без “парадов” и завоеваний. Придет <…> чтобы просветить усталый мир» [9, с. 55; курсив Б. Зайцева]. Миссию части русского народа, промыслительно оказавшейся за рубежом, писатель видит в том, чтобы прививать Западу «чудодейственный глазок с древа России», открывать всему миру ее духовные сокровища.
Нести Истину страждущим собратьям, делать духовно-просветительскую работу – как это сложно для светского человека, но вдвойне сложно для художника. «Светский, но православный» [9, с. 222] – таково самоопределение Зайцева, который действительно стал проповедником Евангелия в новую эпоху. Но он избегает прямых нравоучений. Лишь порой произносит – сам или устами своего героя – несколько простых, но очень точных слов. И они обретают силу убедительности, потому что за ними – Истина.
Истину невозможно доказать, как математическую теорему. Но ее можно пережить. Проникнуться сердцем. Увидеть открывшимся внутренним зрением, сердечными очами, почувствовать душой тихое веяние благодати Божией. «Есть истины, которые созерцаются, есть истины, которые переживаются. <…> Нельзя объяснить, что такое добро, свет, любовь (можно лишь подвести к этому). Я должен сам почувствовать. Что-то в глуби существа моего должно – сцепиться, расцепиться, отплыть, причалить… Я помню ту минуту, более пятнадцати лет назад, когда я вдруг почувствовал весь свет Евангелия, когда эта книга в первый раз раскрылась мне как чудо. А ведь я же с детства знал ее» [9, с. 58; курсив Б. Зайцева].
Главными средствами в такой «апостольской» работе были для Зайцева всегда положительные, созидательные начала. Всякой критике он предпочитал предложение добра, света и радости, которые дает людям Истина. Зайцев не обличает и не поучает. Неизменно кроткий, смиренный и благодушный, он приглашает собеседника – и читателя – войти в русский храм.
* * *Задача создания православной культуры особенно трудна для светского писателя, поскольку он не вправе создавать из своих текстов проповеди, не может превращать художественные произведения в богословские трактаты. Один из путей воцерковления светской культуры предложен Зайцевым в романе «Дом в Пасси» (1933).
Дом в парижском квартале Пасси – островок заброшенных на чужбину русских людей. У каждого из его обитателей – свои страдания и радости, своя неповторимая душа. Читатель встречает узнаваемые социальные типы эмигрантов разных сословий, профессий, положений и достатка. Но роман не бытовой и не психологический. Главная его задача – религиозно-философская. Ведущими в нем становятся темы страдания и наличия зла в мире, «несправедливости» мироустройства и Божественной правды. Писателя интересуют разные типы отношения людей к христианской вере, тварного мира – к своему Творцу.
Критика встретила роман благожелательно. Литературоведы зарубежья отмечали в нем особую зайцевскую тональность, некоторую бесплотность и стилизацию персонажей, прозрачность и акварельность фигур и пейзажа. Г. Струве рассматривал художественный метод романа как «импрессионистический реализм»[2]; Г. Адамович отмечал способность художника «в одной фразе, порой в одном слове дать характеристику человека» и нашел хороший образ для определения общей атмосферы книги: «Зайцев умышленно окутывает свой “дом” туманом, похожим на благовонный дымок кадила», – для того, чтобы «не так очевидна была жестокость и грубость существования»[3].
Однако, сосредоточившись на стилистических особенностях, критика мало внимания уделила мировоззренческой задаче книги. Только М. Цетлин в своей рецензии точно определил ее: роман скрепляет «вопрос о просветляющем страдании»[4]. При внешней «прозрачности» героев очень реальны и глубоки их переживания и отношения с миром.
Главная оппозиция романа – тяжесть – легкость, плоть – дух. Действующие лица располагаются на разных ступеньках этой лестницы между земным и небесным.
На ее вершине находится персонаж, выражающий православное мировоззрение, – иеромонах Мельхиседек. Напомним, что задача воплощения православного воцерковленного героя не была решена русской литературой, более того, практически и не ставилась ею. Даже образ Зосимы в «Братьях Карамазовых» оказался далек от подлинного образа православного старца. В XX веке эту задачу решали, каждый по-своему, И. С. Шмелев (в романе «Пути небесные») и Б. К. Зайцев.
Зайцев уже имел плодотворный опыт описания святости и православного человека в повествовании о св. Сергии, во многих очерках. Книгу «Афон», где обрисованы некоторые типы монашествующих, он закончил незадолго перед тем, как приступить к роману. Но это были образы реальных людей. Теперь предстояла задача более сложная – изобразить воцерковленного персонажа в художественном произведении.

Афонский старец схиархимандрит Кирик (Максимов) – прототип монаха Мельхиседека («Дом в Пасси»)
Стержневой фигурой романа стал монах. Его образ сопровождается постоянным определением – «легкий». Худенький старичок, с огромной седой бородой и «быстрым, легким взором», он действительно освободился не только от тяжести плоти, но и от душевных пристрастий. Само имя персонажа выбрано Зайцевым не случайно. Мельхиседек упоминается в Библии как царь Салима и одновременно священник Бога всевышнего (Быт. 14, 18). Личность его окружена таинственностью: не принадлежа к избранному роду, он был священником истинной религии и впоследствии стал идеалом священства. В христианском толковании он служит прообразом Самого Христа, Который назван священником по чину Мелхиседека (Евр. 7, 17). Герой зайцевского романа тоже таинственная и несколько загадочная для других фигура. Следуя своему небесному покровителю, он достойно исполняет высокое призвание – служение Всевышнему.
Стяжав главную монашескую добродетель, смирение, Мельхиседек никогда не оказывает давления на окружающих. Общаясь с обитателями дома в Пасси, помогая им словом, советом, он нигде не поучает их, не стремится их «переделать». Он не посягает на духовную свободу человека. Но он любит людей, и главным выражением этой любви является его тайная молитва. В образе Мельхиседека снова нашла отражение принципиальная художественная установка Зайцева: не поучать, а показывать, не убеждать, а предлагать Истину, открывать ее красоту и силу – в надежде, что она привлечет к себе душу человеческую, «по природе христианку». Главное в Мельхиседеке – не идея, не набор правил и заповедей, а любовь и доверие Богу. Мельхиседек тем не менее именно конкретный человек, а не собирательный образ монашествующих. Зайцев не идеализирует монашество в целом. В скиту встречаются совсем другие типы: веселый, мужиковатый монах Авраамий, сумрачный, недобрый казначей Флавиан.
На другом краю упоминавшейся лестницы – полное отсутствие духа, заторможенность даже душевной жизни. Зайцев не осуждает бесчисленных «Жаков и Жюльетт», но показывает, как урбанистическая стихия захватывает людей в свой водоворот, стандартизирует их облик, чувства и сознание. Париж – это «тяжкий» город, в котором «душно». Всё в нем «красиво и холодно», всё будто выщелочено, как волосы дам кислотой. Мягко, деликатно, но совершенно определенно он показывает: западный мир – механистический, бездушный, хотя приятный и комфортный для «тела». Олицетворение его – живущая в том же доме в Пасси француженка Женевьева, с тонким и равнодушным лицом, торгующая собой с «бессознательной добросовестностью». Бездуховное секулярное европейское сознание представлено и во внутреннем монологе полицейского.
Все остальные персонажи – в разной степени приближения к христианской духовности, но никто не обладает ею в полноте. Автора интересуют прежде всего соотечественники. В романе проходит череда русских эмигрантов, жизнь которых не столь беззаботна и легка, они способны чувствовать, любить и страдать, но всё же душевно-плотское начало преобладает в них над духовным. В них заглушена сфера, отвечающая за связь с небесным началом, с Творцом мира. В конечном итоге именно Мельхиседек делает действительно благое дело – основывает приют для брошенных детей и сирот, где они получают воспитание и образование. Остальные заняты в основном своим личным миром, в котором не так уж много места реальной заботе о ближнем.
Три человеческих типа более детализированы автором.
Преуспевающая массажистка Дора Львовна, «крепкая и спокойная», не лишена авторских симпатий. Главный ее эпитет – «разумная». Действительно, ее мироотношение насквозь рационалистично и прагматично. Именно поэтому она не может принять ни бессмертия души, ни сверхчувственной реальности. В ней спит не душа, а дух – высшая сфера человеческой природы. Как раз душевности в ней хватает: она добра, отзывчива, спешит на помощь Капе.
Капа – противоположность благополучной Доре, девушка с измученной душой, изломанной жизнью. В ней есть озлобленность на окружающих и жалость к себе, обида и зависть, уязвленная гордость. Душевная драма Капы раскрывается в ее дневнике. Она задумывается над тайнами бытия, жизни и смерти, но не принимает тех ответов, которые есть в Евангелии, в словах Мельхиседека. «Очень хорошие слова, но мне от них не легче» – так расценивает она совет иеромонаха молиться побольше, чтобы избавиться от духа противоречия и сомнений. Зайцев рисует трагедию отчаяния, крайнюю степень усталости, убитости души. В христианской антропологии такое состояние называется «унынием», которое является одним из семи смертных грехов. Капе кажется, что все вокруг лгут, что все хуже ее, а живут намного лучше. «Никто ничего не знает. Притворяются» – эти слова подводят ее к грани непоправимого поступка. Из всех персонажей генерал Вишневский ближе всего к тому, чтобы называться христианином. Однако он «слишком жизненный», ему чужда мистическая сторона веры. Сцена ночной исповеди генерала в главе «Скит» – кульминация романа. Она имеет особое художественное оформление – именно здесь дар Зайцева – лирика и стилиста проявляется во всей силе. Вступление к ней обретает торжественный ритм гекзаметра. Смятенность души старого генерала, неразвеянный мрак сомнений и горечи находят отзвук в раскатах грома начавшейся ночной грозы. Словно удар молнии, ощущает генерал под епитрахилью момент прощения грехов. Наутро, во время литургии, природа преображается, открывается первозданная красота мира.
В беседе-исповеди генерала с Мельхиседеком затронут один из самых трудных вопросов христианского исповедания – о смирении, об отношении ко злу, о любви к ближним и прощении врагов. Генерал не прощает не только тем, кто «Россию распял». Он не может примириться и с тем, что «дурные торжествуют, богатые объедаются, сильные мира сего продажны». То есть не может ни принять существования зла, ни смириться с морем людских страданий. Это, однако, не карамазовский бунт против Творца, а иное психологическое состояние: мучительное недоумение от того, что «зла и безобразия в мире слишком много».
В ответ на этот вековой вопрос Мельхиседек не предлагает теоретических доводов, как при разговоре с Дорой. Он соглашается с генералом, что это «весьма страшный вопрос, действительно трудный для понимания». И предлагает ему разрешить его практически, а именно путем молитвы: эта великая тайна постигается не рационально, а в опыте мистического откровения. Именно в этой беседе Мельхиседек произносит слова, которые можно считать узловыми, выражающими сверхзадачу романа: «И смириться, и полюбить ближнего – цели столь высокие, что о достижении их где же и мечтать. Но устремление в ту сторону есть вечный наш путь. Последние тайны справедливости Божией, зла, судеб мира для нас закрыты. Скажем лишь так: любим Бога и верим, плохо он не устроит» (курсив Б. Зайцева). Эту столь дорогую для него мысль Зайцев повторял во многих своих творениях. Генерал, едва ли не единственный из героев романа, идет этим путем опыта, по крайней мере встает на него. После таинств исповеди и причастия ему даются силы пережить страшную весть о смерти дочери, а впоследствии – и возможность еще послужить людям – стать преподавателем в монастыре-приюте.
Апология веры как пути, по которому должен пройти человек, предложена и в этом романе. Мотив странничества, любимый зайцевский мотив, присутствует и здесь. Русские изгнанники – бесприютные странники, но и все люди – странники по жизни, идущие своими дорогами. Те, кто находит Путь с большой буквы, – «странные люди» («очень странные», – говорит Дора, вспоминая о Мельхиседеке). Окружающим они кажутся или ненормальными, или притворщиками. В точном соответствии с евангельскими словами: грехопадшему миру любые проявления веры кажутся безумными, соблазнительными. За время действия романа во внутреннем мире большинства персонажей ничего не происходит, их взгляды и убеждения не меняются. Зайцев изобразил срез жизни, запечатлел мгновение. Но сквозь всю видимую отстраненность, внешнюю бесстрастность проступает и любовь, и огромная жалость автора к этим людям – ко всем без исключения, грешным и добродетельным. Жалость оттого, что все они несчастны, хотя кто-то и не осознает этого, а несчастны оттого, что далеки от Истины и не знают Бога. На страницах книги физически ощутимо, как в мире зарубежья русской душе не хватает простора и воздуха. Видна обреченность срезанного цветка, отделенного от корня, от своей почвы. Общее настроение книги – типично зайцевская светлая печаль. Роман – сдержанный вздох. Грусть созерцания конечности земного бытия преодолевается светлой надеждой на радость в ином мире, в жизни вечной.
* * *Лирическое эссе «Уединение» написано в годы революции – время «голода, холода и всяческого зверства». Автор выступает как Поэт на разломе эпох. Он наблюдает совершающийся мировой катаклизм, переживает боль мира, пропускает ее через сердце, чуткой душой откликаясь на всё происходящее. Художественная ткань эссе соткана из контрастов. Тишина – и грохот. Бег, буря – и покой предвечного неба. Подстерегающая повсюду смерть – и беседа о бессмертии души. Ненависть – и любовь. Дикие песни в ночи – и нежная, свирельная музыка ветерка. Двойственна и сама ночь. С одной стороны, это «проклятая темнота», несущая смерть и ужас. С другой – извечное ночное небо, осиянное светом луны и далекой бессмертной звезды.
«Уединение» можно назвать стихотворением в прозе. Его пронизывают образы символистской поэзии. Несомненна перекличка с «Двенадцатью» Блока с их стихией ночи, хаоса и «надвьюжной» фигурой Спасителя. Но революция для Зайцева вовсе не «музыкальна», а, наоборот, дисгармонична. «Уединение» – это полемический ответ на «Двенадцать». В очерке «Побежденный (Александр Блок)» (1925) Зайцев писал, что поэма «мертва духовно», атмосфера ее тягостна. В ней есть «и тоска, и дикая Русь, и мрак», но не хватает света, любви и воздуха: Блок так и не смог прийти к Истине, и «настоящий Христос вовсе не сходил в поэму» [6, с. 165, 168].
В «Уединении» Зайцева злобной стихии, проснувшейся в русском народе, противопоставлена вечная мировая гармония, явленная в дуновении ветерка и стихах Петрарки, в тихих возгласах священника. Образы ночи, тьмы, сгущающегося сумрака наполняют эссе. Все сценки происходят ночью, а единственная дневная сцена – расстрел в Палашевском переулке – одна из самых мрачных. «Скоро ли рассвет?» – восклицает автор. Он пытается понять, что́ случилось с народом, со страной. Гоголевская Россия-тройка оборачивается дикой телегой с пьяными людьми, которой предстоит пролететь в ночи и сгинуть. Зачем?.. Зайцев создает и свой образ, очень емкий символ: Россия – корабль страданий, за которым тянется кровавый след. Но рядом присутствует мир иной – неколебимый, вечный – там, где блестит луна и золотеет крест, там, где синяя твердь, где покой и – Господь. Этот тот самый «светлый Божий мир», который Зайцев хотел бы «показать» Блоку [6, с. 169].
Читая «Уединение», можно отчетливо наблюдать, как уже прежде присущие Зайцеву доверие «Неведомому Творцу», преклоненность перед итальянской культурой, импрессионистическая поэтика наполняются подлинно христианскими мироощущениями и чувствами. Сквозь хаос и мрак проблескивают вспышки золотого света: в новелле «золотеют» икона Николая Чудотворца, Крест, бессмертная звезда. Небо уже не просто пантеистическая стихия, но место пребывания Бога: «земля, да небо, да Господь». Возникает образ «Того, Кто смерть за нас приял» – Зайцев не называет Спасителя по имени, но в глубине души он уже знает, что только Он – единственная опора. Борение в душе художника порождено евангельскими заветами: как можно увидеть брата в «звере», как можно полюбить эту страшную толпу? Но если дать место гневу, забыть про кротость – отойдет и Христос, принявший смерть за всех.
Очень значимы последние строки: «Дай любви – вынести. Дай веры – ждать». Ведь это молитва к Богу о любви, вере и терпении. Это эсхатологическое чаяние Второго прихода в мир Спасителя для окончательной победы над злом и воцарения во веки вечные.
* * *За исключением «Уединения», все произведения Зайцева, помещенные в данной книге, написаны писателем в эмиграции. Там он создал галерею портретов святых и праведников земли Русской – как древних прославленных угодников, так и современных духовных деятелей и мирян, которые на своем многотрудном земном пути приходили к свету Православия и сами светили миру примером и обликом. Все они несли свой Крест, данный Господом.
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 1925 года, отошел ко Господу великий пастырь русского народа Святейший Патриарх Тихон. К годовщине со дня его кончины Зайцев написал очерк «Венец Патриарха». Он вспоминает, как видел Патриарха во время церковного торжества в Москве 9 (22) мая 1918 года – крестного хода к Никольским воротам Кремля. Современному читателю необходимо напомнить обстоятельства этого знаменательного в истории России события.
Ко дню 1 мая (18 апреля), на который в том году приходилась Страстная Среда, вся Москва и кремлевские стены были увешаны красными флагами и лозунгами.
Огромное полотнище с надписью «Да здравствует Третий Интернационал!» висело и на Никольских воротах, закрывая повреждения, причиненные им обстрелами во время Октябрьского переворота, и простреленный в нескольких местах образ св. Николая Чудотворца. Но к вечеру того же дня полотнище самопроизвольно разорвалось, так что открылся образ Угодника. Узнав о чуде, массы верующих стали стекаться к иконе.
Именно в связи с этим знамением собрание представителей церковных приходов Москвы постановило устроить в Николин день, 9 (22) мая, крестный ход к Никольским воротам и обратилось за разрешением в Совнарком. Управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич обещал содействие властей в поддержании порядка. Патриарх обратился с посланием, в котором призвал православных к участию в крестном ходе и во всенародном молебствии перед иконой Николая Чудотворца и предостерег от всякого рода политических эксцессов: «Пусть это светлое торжество не омрачится никакими проявлениями человеческих страстей и объединит всех не в духе злобы, вражды и насилия, а в горячей молитве о небесной помощи по ходатайству Святого угодника Божия, молитвенным предстательством коего да оградится от всех бед и напастей Церковь Православная и многострадальная наша Родина»[5].
Тем не менее накануне Николина дня председатель Моссовета П. Г. Смидович заявил, что «это выступление московского духовенства считает контрреволюционным и направленным против советской власти», и призвал рабочих провести этот день (бывший прежде праздничным, выходным) «за работой у станков и не участвовать в крестном ходе». Распоряжение властей считать 22 мая рабочим днем вызвало протест. Большинство заводов, фабрик и магазинов в Николин день не работали. Вот как описывает сам праздник обозреватель газеты «Заря России»: