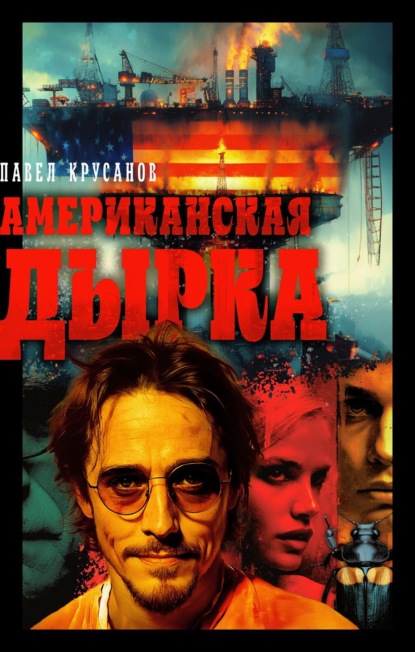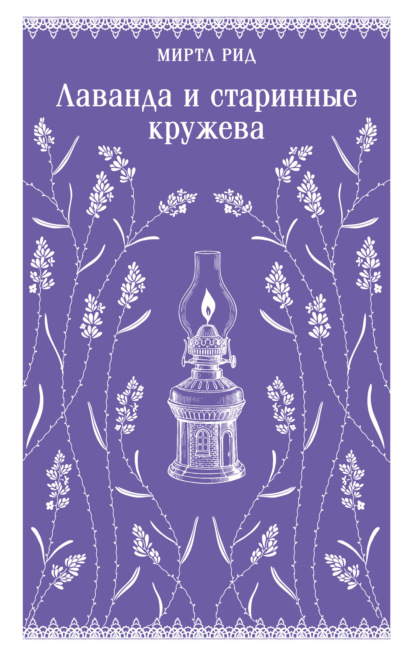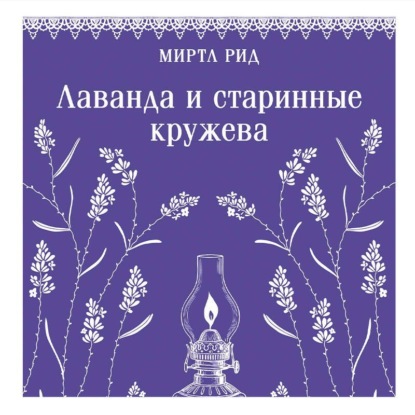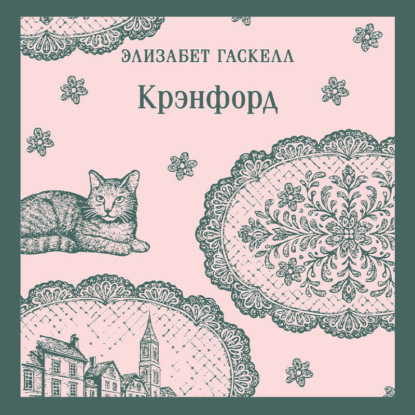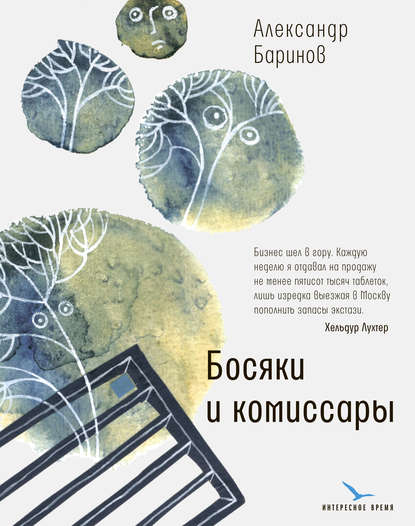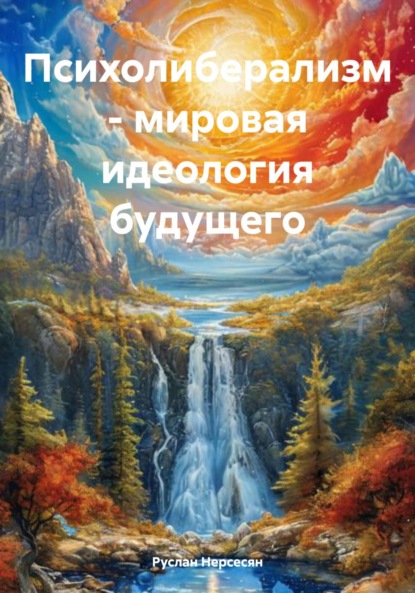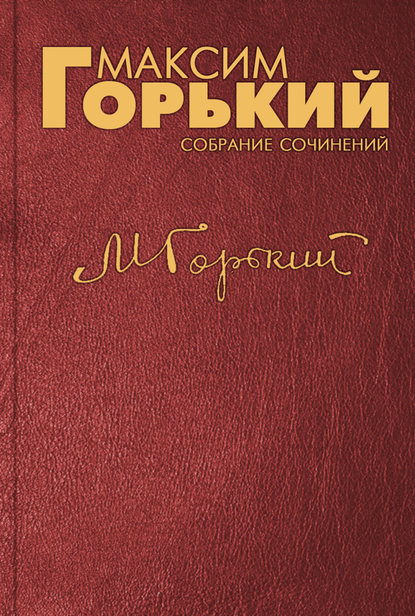Варавва

- -
- 100%
- +

Marie Corelli
BARABBAS: A DREAM OF THE WORLD’S TRAGEDY
Перевод с английского Е. Ф. Кропоткиной
© Сумм Л., вступительная статья, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *Удочеренная!
Именно так – с восклицательным знаком – могла бы озаглавить собственную биографию Мария Корелли (Мэри Маккей), если б вздумала написать ее, а не создать, воплотить, выстроить из подтасованных и почти правдивых деталей, подлинно став той и такой, какой сама себя назначила. Восклицательный знак в названии – вполне в ее духе («Вендетта!»), как и таинственно-романтические заголовки и живой, убедительный вымысел.
Мэри Маккей действительно была приемной дочерью шотландского поэта Чарльза Маккея и его второй жены, Мэри Миллз. Естественно, возникает вопрос, кто же были ее биологические родители. Ответ Мария Корелли окутывала завесой тайны, и завеса эта соблазнительно колыхалась, намекая на что-то поэтическое, возвышенное, скрываемое из уважения к чувствам обывателей, но отнюдь не постыдное – словом, что усыновители и были единственными родителями, в том числе и в биологическом смысле. Дескать, чувства между ними вспыхнули незадолго до смерти первой жены Маккея, девочка родилась, когда приличия еще не позволяли вступить в новый брак, и ради тех же приличий Маккей затем именно удочерил малышку, сделав ее тем самым приемной и законной, что казалось приемлемее, чем статус незаконнорожденной, хотя бы и смягченный последующим браком и признанием отцовства. Разумеется, впрямую об этом Мария Корелли никогда не говорила. Называла себя приемной дочерью, много рассказывала о духовной близости с отцом, о его огромной библиотеке и так далее, но с какой стати ему вздумалось удочерить трехмесячную девочку (при том что от первого брака уже имелось несколько взрослых детей) и какую роль при этом играла жена – об этом нет ни слова в восторженной биографии, написанной при жизни Марии и с ее согласия. И лишь в посмертной биографии подруга детства, всю жизнь сохранявшая верность Марии, Берта Вивер, написала – в двадцатых, вольных годах двадцатого века – о великом чувстве, соединявшем родителей Мэри, и о деликатности, побуждавшей всех членов семьи соблюдать этот прозрачный декорум.
Так и повелось считать викторианской тайной Марии Корелли ее незаконное происхождение. И когда стало ясно, что заодно и дату рождения она основательно сдвигала, утверждая, что свою первую книгу, «Роман двух миров», написала в двадцать с небольшим лет (а потом даже – что в семнадцать): мол, издатель Бентли, к своему изумлению, знакомясь с поразившим его своей зрелостью автором увидел перед собой чуть ли не вчерашнюю школьницу. На самом деле ей было в 1885 году почти тридцать лет. Но первая жена Маккея умерла в декабре 1859 года, второй брак был заключен после соблюдения приличного срока траура, и, если поспешное появление малышки Мэри приходилось на этот период, год рождения и впрямь должен быть 1860-м, а то и 1861-м.
Все принимали на веру и историю Мэри об удочерении, и деликатный намек на истинное ее происхождение, и причины, по которым это происхождение требовалось скрывать. Разумеется, на самом деле отношения между ее отцом и матерью возникли еще в ту пору, когда отец Мэри был прочно женат, но если сдвиг даты позволял уйти от прямого признания факта многолетней супружеской измены (тем более что писательница измену глубоко не одобряла, пусть не из викторианского ханжества, а из романтического ужаса, столь выразительно переданного в «Вендетте!») и если заодно и женскому кокетству такое омолаживание выгодно, то, казалось бы, все ясно, тайна раскрыта и нет причин рыть глубже.
Умнейший ход. Мэри Корелли действительно была очень умна и, сочиняя свою жизнь, закладывала множество слоев, оставляя сверху и тайну, и удобное «разоблачение», удовлетворившись которым уж точно не станут искать дальше. Для читательниц, предпочитающих романтический флер, – удочерение, тайная любовь, намеки на примесь итальянской крови. Издателю Бентли она в сопровождающем роман письме сообщила, что может проследить венецианскую линию своего рода вплоть до знаменитого музыканта Аркангело Корелли. Впоследствии она притязала и на родство с венецианскими дожами и выписала себе гондолу с гондольерами, чтобы разъезжать по реке в шекспировском Стратфорде-на-Эйвоне, однако и Аркангело Корелли – завидный предок для творческой личности: с этим музыкантом и композитором, перешагнувшим из XVII века в XVIII, связано укрепление позиций скрипки в европейской музыке, а также он был великим импровизатором, а именно вдохновенным импровизатором – в реальной, творческой и духовной жизни – видела себя Мария. И создавала довольно-таки сложные, полифонические произведения.
Для желающих применить способность к анализу и критическому мышлению – угадываемый секрет. Даже биографы второй половины двадцатого века, в том числе и весьма скептически настроенные по отношению к популярности Марии Корелли и в целом этому феномену («идол пригородов», «фантазия Эдгара По и вкус няньки» – это еще не худшее, что выносили они в подзаголовки своих работ), – все так же читали между строк санкционированной ею биографии, не догадываясь, что продумала она и это «между строк», а не только сами строки, полагались на авторитетные источники, вроде Who Is Who, не спохватившись, что в начале двадцатого века сведения в этот справочник вносились путем анкетирования, то есть сама же Корелли и решала, какие факты предоставить, какие подправить или просто изобрести. И лишь совсем недавно, в 2023 году, за тайну Марии Корелли взялась Джоанна Тернер, которая, во-первых, решила не верить совсем ничему – ни тому, что говорила или поручала писать Корелли, ни тому, что якобы можно было из этого вычислить, а во-вторых, использовала огромное количество нелгущих источников, благо сплошная оцифровка всего, вплоть до малоуспешных и быстро исчезнувших газет, афиш провинциальных спектаклей, билетов на трансатлантические рейсы и т. д., и современные программы поиска позволяют документировать чуть ли не каждый шаг англичанина середины XIX века (вот где подлинное чудо и романтика поиска). Результатом этих исследований стали ряд интересных находок и две большие статьи в журнале, посвященном викторианской литературе, – одна о тайне происхождения Корелли, вторая – о начале ее писательской карьеры и выборе псевдонимов. В совокупности эти статьи проясняют основную установку писательницы – не столько кем она была, сколько кем она решила быть.
Тернер начинает с «предполагаемой истины». 27 апреля 1855 года у некоей Мэри Миллз в Лондоне (район Тернхэм Грин) родилась дочь Изабелла Мэри Миллз. Душеприказчики Марии Корелли и ее подруга и наследница Вивер, написавшая по ее смерти мемуары, были уверены, что Мэри Миллз и есть Мэри Элизабет Миллз, в ту пору вдова и любовница Чарльза Маккея, а родившаяся девочка была удочерена биологическим отцом после заключения брака, в 1861 году (в ту пору удочерение не оформлялось официально, от приемного отца просто требовалось дать свое имя, указывать ребенка под новой фамилией в переписи населения, при отправке в школу и т. д.).
Ни один биограф не додумался проверить приходские книги после записи о крещении, иначе давно бы выяснилось, что Изабелла Мэри Миллз умерла в восемь месяцев – «обычный викторианский сюжет», комментирует Тернер.
Так кем же тогда была при рождении Мэри Маккей?
Она обнаруживается в переписи 1861 года как четырехлетняя дочь Мэри Маккей, недавно вышедшей замуж за Чарльза Маккея и живущей пока отдельно от мужа, хотя и поблизости от него. Однако появление четырехлетней Мэри – без записей о ее рождении и крещении, без отметок о ее существовании в предыдущих цензах – требует объяснения.
Оставалась возможность, еще более романтическая и как раз обеспечивавшая Корелли итальянские корни: она могла быть дочерью незаконной дочери Чарльза Маккея, Розы Джейн, которая в 1859 году умерла в Италии, однако существование этого ребенка даже более эфемерно, чем Изабеллы Мэри, от которой хотя бы осталась запись в приходской книге.
Но есть девочка, чье существование документировано до 1860 года и с этого момента внезапно, без записи о смерти, обрывается. И есть семья этой девочки, притязавшая на родство с великой писательницей. В прессу эта версия выплеснулась сразу после смерти Марии Корелли, наряду со множеством других гипотез о ее происхождении, и была отвергнута. Согласно заявлению предполагаемой племянницы, Кэролайн Коди, сестра ее отца в пятилетнем возрасте была удочерена бездетной подругой своих родителей. Более того, уже ставшая знаменитой Мария Корелли поддерживала отношения с этими родственниками; о ней как о своей сестре говорят в переписке между собой (совершенно не предназначенной для чужих глаз) два брата Коди; один из них назвал именем знаменитой писательницы частную школу.
Даты тоже совпадают: день рождения Мария Корелли отмечала 1 мая; ее возраст, указываемый в цензах и в ранних письмах издателям, предполагает появление на свет именно в 1854, а не в 1855 году. Ее приемная мать до замужества была служанкой, как и мать Кэролайн, они жили по соседству, так что их знакомство и дружба весьма вероятны. Косвенным подтверждением истинности этой теории Тернер считает тот факт, что постоянно судившаяся при малейших признаках клеветы или искажения информации о своей персоне писательница всегда знала о претензиях семьи Коди, но никогда не пыталась их опровергнуть. Составляя завещание (она умерла в 1924 году, не дожив до семидесятилетия то ли год с небольшим, то ли несколько месяцев), Мария Корелли особо оговорила свой статус приемного ребенка: удочерение отменяло всякие кровные связи – и никто не мог претендовать на наследство, ссылаясь на родство. По-видимому, она и посмертно старалась обезопасить себя от публичного выяснения корней.
Но в чем же тогда страшный секрет? Одинокая женщина за тридцать пять надеется на брак с мужчиной выше ее статусом, существенно старше, имеющим взрослых детей и часто уезжающим (Чарльз Маккей в ту пору был журналистом, а в 1861 году отправился освещать Гражданскую войну в Америке). Ее время иметь детей, по понятиям той эпохи, почти истекло (и действительно, в браке потомство так и не появилось), и она прибегла к помощи многодетной подруги. Кэролайн была единственной на тот момент девочкой в очень небогатой семье. Выбор мог пасть на нее либо потому, что одинокой женщине удобнее иметь дело с ребенком того же пола, либо потому, что другие дети не подходили по возрасту: старшим братьям уже двенадцать и восемь, поздновато для формирования новых привязанностей, а младший еще не вышел из младенчества. Тернер предполагает также, что девочка представляла собой меньшую «экономическую ценность» в глазах рабочей семьи. В пользу гипотезы об удочерении маленькой Коди, с точки зрения Тернер, говорит и улучшившееся положение семьи: простой рабочий и служанка вырастили сыновей, которые смогли получить образование и стать один – учителем (тот самый, кто назвал свою частную школу именем предполагаемой сестры), другой – чиновником, а старший, эмигрировавший в США, занялся бизнесом (правда, потом прогорел).
Джоанна Тернер считает вполне вероятным, что Мэри Уиллз, уверившаяся в прочности своих отношений с представителем среднего класса, достаточно обеспеченным и известным журналистом, а также автором популярных стихов и песен, смогла «подтянуть» за собой не только приемное дитя, но и всех детей подруги, такой же, как она, служанки, но состоявшей в равном и потому не дававшем надежд на социальный лифт браке. И именно это, как полагает Джоанна Тернер, скрывала Мария Корелли. Не адюльтер своих родителей, не романтический побег от викторианских норм. Скучное законное рождение и раннее детство в семье низшего класса. Незаконное рождение от поэта (изящно завуалированное) поймут, простят и опоэтизируют. Можно обыграть происхождение от известного и любимого в писательских кругах отца, пусть даже мать была служанкой. Но кому интересна девица, у которой и отец – рабочий? А ведь она примеряла – хоть в итоге и не решилась применить – псевдоним не просто «Корелли», а «графиня Корелли». Ее задушевная подруга тоже была из графинь – свежеиспеченных при Наполеоне III.
Косвенным доказательством в пользу этой версии можно считать и склонность писательницы рассказывать именно о роли Маккея в удочерении, как если бы оно совершилось в первую очередь по его воле, с более-менее пассивного согласия матери. Тем самым устранялась возможная связь с исконной семьей.
Но не вспомнила ли Мэри Маккей свое первое, тоже аллитерирующее имя, выбирая фамилию с итальянским акцентом – но с тем же первым слогом? Ведь если не в три месяца – почти в шесть лет перешла она в другую семью, а с приемным отцом встретилась и того позже, то никак не могла забыть ни первых родных лиц, ни той, кем была до этого перехода. Недоброжелательные наблюдатели отмечали даже простонародный акцент, кокни, проявлявшийся в некоторых словах (немногих, тех, что закрепились детской привычкой), и слишком четкую, старательную дикцию, как будто Мария усиленно следила за собой. Она знала, кто она, и не переставала ею быть, одновременно охотно, с усердием врастая в новую себя – Минни (таким шотландским уменьшительным от «Мэри» окрестил ее приемный отец) Маккей. И это многократно высказанное и в том числе продиктованное биографам утверждение искренне: она полюбила приемного отца – и в особенности тот мир литературы, музыки и песни, который он открыл перед ней, и сумела быть «очаровательной малышкой», естественно впитывающей в себя эту жизнь.
Хотя едва ли переход дался ей так уж легко. В личном письме 1905 года она вспоминает себя как «несчастную и одинокую девочку», не имевшую иной компании, кроме взрослых, – разительный контраст с семьей, где было еще трое братьев и десятки разновозрастных детей жили по соседству. Чарльз Маккей почти сразу же забрал свою новоиспеченную семью в Америку, где мать с дочерью проживали по большей части в Нью-Йорке, а сам Чарльз присоединялся к ним в перерывах между командировками по фронтам Гражданской войны. То есть для Кэролайн-Минни изменилось все: имя, семья, образ жизни, страна. И если девочка осознавала преимущества такого «социального взлета» и какая-то часть ее существа получала наслаждение от общения со взрослым образованным человеком, то другая ее часть переживала разрыв и не справлялась со столь завышенными требованиями. Именно поэтому, как считает Тернер, Мария Корелли попросту выкинула эти годы из своей жизни и утверждала, что никогда не бывала в Америке и терпеть не может невоспитанных янки: она попросту выбросила этот период жизни из памяти, из той автобиографии, которую решила построить. Заодно это позволяло уже на столь раннем отрезке жизни немного сместить хронологию: в 1865 году, когда Маккеи вернулись в Англию, ей было 11, и где-то в промежутке с 11 до 15 лет она училась «во французской школе», а то и «в монастыре» – на самом деле в Британии, в школе, где преподавали французские монашенки, а затем финансовое и физическое состояние отца ухудшилось и она вернулась домой. Училась она, видимо, с 1868 или 1869 года, то есть скорее с пятнадцати лет, чем до, и провела в школе два года. Перепись 1871 года указывает ее социальный статус ученицы.
Образование Марии Корелли, как она его описывает, делится на две стадии: домашнее, с помощью приходящих гувернанток и главным образом благодаря отцовской библиотеке и его внимательному наставничеству, и школьное, или «монастырское», существенной частью которого была музыка. Насчет музыки она говорит правду (разве что внесенное в Who Is Who 1904 года заявление, будто в 14 лет она уже написала оперу, никак не подтверждается, а учитывая, что все сочинения Мэри так или иначе публиковались, едва ли такие плоды творчества могли сгинуть бесследно). Не оперу и не совсем в четырнадцать, но в 1875 году она сочиняет имевшую успех песню (и музыку, и слова) в честь британской арктической экспедиции, а затем перекладывает на музыку стихи своего отца – вполне плодотворное сотрудничество, в том числе служащее рекламой для самой Мэри.
Смещая момент удочерения, рассказывая о детских годах в самых общих чертах, Корелли могла убавить себе несколько лет, но гораздо больше она выгадывала, сжимая до года-двух десятилетие после учебы, когда пыталась делать карьеру как музыкант, композитор, певица и актриса. Впоследствии она говорила, что мечтала быть именно актрисой, но отец счел этот путь ненадежным – и она ограничилась любительскими выступлениями в провинции. Зато как пианист-импровизатор и как исполнительница баллад она выступала повсюду от провинции до Эдинбурга и Лондона. Даже тот список любительских спектаклей, музыкальных вечеров, больших и малых концертов, который удалось восстановить, создает впечатление неустанной работы и честного стремления заработать деньги – этого Мария отнюдь не скрывает и даже педалирует желание помочь хворому отцу.
Чаще всего она выступала под именем «Роз Тревор» – и как актриса-любительница, и как певица. К 1882 году певица Роз Тревор достигла определенного успеха, особенно в исполнении баллад, а также песен своего отца и собственного сочинения. Ее известность распространялась не только на Шотландию, где ценили Чарльза Маккея, но и на Лондон. И в этот момент Роз Тревор исчезает. На сцену выходит другая исполнительница – Мария Корелли. Десять лет спустя, уже в качестве писательницы, она пояснит, что искала для своих музыкальных опытов более итальянское имя, а также созвучное имени приятной молодой скрипачки, некоторое время аккомпанировавшей ее пению, – ту звали Аделина Динелли. Что ж, если от «Динелли» Мария взяла вторую половину имени, то «Кор» тем более напоминает о Кэролайн Коди. И как мы знаем, для псевдонима существовало и другое объяснение, в котором он оказывался фамилией одного из предков, то есть как бы не совсем псевдонимом, а утверждением своего права на кровное родство – очень похоже на версию про удочерение настоящим отцом.
Что побудило ее на пике успеха сменить псевдоним? Тернер полагает, что настала пора сепарироваться от известного отца (это поначалу и полезно, и лестны были отзывы о ней как о дочери «нашего любимого Чарльза Маккея», а теперь хотелось собственной славы), но что еще более важным резоном служила уже сложившаяся привычка разделять различные «персоны» и постоянно подправлять свой образ. Кроме того, Марии, видимо, понравилось быть юным дарованием. Конечно, она жертвовала наработанной репутацией, сложившейся аудиторией. Но заодно стряхивала с плеч семь лет. Два-три выступления под именем Роз Тревор в ранней юности – вот и все, что она будет признавать впредь. В 1882 году совсем молоденькая, только что из монастырской школы, Мэри Маккей – Мария Корелли отважно пытается зарабатывать музыкой, помочь обедневшему и больному отцу. Десять лет с плеч долой.
И этот образ невинной дебютантки она перенесла на писательницу Марию Корелли. Что не удалось заработать музыкой в 17 лет, в двадцать лет она, мол, попыталась заработать пером. В 1895 году, на гребне успеха, ей будет всего тридцать лет.
Кокетство? Желание компенсировать десять тощих лет? Теперь, когда к ней пришла слава, обидно быть сорокалетней, вышедшей по тогдашним меркам в тираж, а она миниатюрная, живая, пикантная – кто посмеет усомниться в ее молодости? Образ, который она себе придумала в отношениях с издателем Бентли и который оказался настолько успешным, что от него невозможно отказаться, – юная годами и мудрая мудростью сердца, гений, не знавший учебы и обработки? Или еще одна «страшная тайна»?
Заглянув в десятилетие между 1875 и 1885 годами и даже чуть раньше, Джоанна Тернер обнаружила, что Марии Корелли действительно было что скрывать и в эту пору. Нечто очень похожее на рабочее происхождение – литературную поденщину.
В январе 1874 года девятнадцатилетняя Минни Маккей обращается в издательство «Блэквуд», выпускавшее в том числе «Эдинбургский журнал» (Edinburgh Magazine), с надеждой на сотрудничество и рекомендует себя следующим образом:
«Я постоянно сотрудничаю с „Сент-Джеймс Мэгэзин“ и другими лондонскими журналами под псевдонимом Вивиан Эрл Клиффорд, каковой псевдоним я желаю сохранить». Слова «псевдоним» и «желаю сохранить» подчеркнуты, как это любит делать Корелли для пущей выразительности.
Биографы попросту отмахивались от этого письма в уверенности, что юная девица в ту пору и в самом деле не имела ни малейшего опыта и попросту выдумала Вивиана Эрла и постоянное сотрудничество с известными журналами. Думала обмануть издательство «Блэквуд» и таким образом протиснуться в журналистику. Но на тот момент «Сент-Джеймс Мэгэзин» действительно принял два ее поэтических произведения под именем Клиффорда, а еще одно собирался опубликовать в феврале «Лондон Скетчбук», получивший от Чарльза Маккея новые стихи и потому благосклонный также к его дочери. Мэри несколько преувеличила насчет постоянного сотрудничества и «других лондонских журналов» во множественном числе, это верно, а также принялась уже в январе искать новые контакты, используя февральские ожидания. Но не более того.
«Клиффорд» сочинял любовные станцы, и как бы ни была далека эта маска мужчины-поэта от будущей Марии Корелли, многие черты ее творчества уже заметны, в том числе, как обращали внимание и до Тернер, пристрастие к повторам. Исследователи ее прозы видели в повторах способ создавать идеальный образ любви; Тернер более склонна говорить о психологической потребности. Но, так или иначе, поэтичность будущей прозы, как и ее музыкальность, закладывались в ту пору, и в этих ранних стихах уже присутствует утверждение Любви как мужского начала (в философских пассажах своих романов писательница дополнит это утверждением Красоты как начала женского).
Но одновременно «Клиффорд» пробовал себя и в сатирических заметках, начав в том самом «Скетчбуке» с «Исследования природы дураков» и продолжив диалогами, в которых разыгрывалось неудачное, с точки зрения света, ухаживание. Оказывается, будущая писательница вполне могла работать и в таком жанре – и она отдала ему дань уже как Мария Корелли романом «Моя чудная жена».
Она была удивительно разнообразна, владела даром перевоплощения, а то и метемпсихоза. И для каждой души быстро подбирала новое имя. Поскольку Вивиан Эрл Клиффорд сделался писакой сатирического толка, новые стихи, дорогие ее сердцу, она стала подписывать собственным (домашним) именем – Минни Маккей. И охотно публиковалась вместе с отцом и вместе с братом, сыном Чарльза от первого брака. Одно время ей нравились преимущества такой семейственности, она воспевала красоту шотландской природы и радовалась, когда слышала хвалу «достойной дочери Маккея». Сюжеты, мелькавшие в творчестве брата, который много лет жил за границей, пока откладывались в копилку ее памяти. Потом история о погребенных заживо, например, послужит основой для «Вендетты!». Это тоже свойство ее души: впитывать все – и все делать иным и своим.
Но и в этой области, как в музыкальных и театральных выступлениях, она жаждет самостоятельности. Так что Минни Маккей в скором времени совмещается, а потом замещается… «Сигаретой», которая пишет легкие, ироничные заметки для «Татлера».
Это была уже серьезная попытка сделать перо основным источником заработка. Попытка не удалась: тот «Татлер» быстро прекратил издаваться – и тогда появилась первая ипостась Марии Корелли, та, что пыталась заработать музыкальными выступлениями.
Та Мария Корелли, что стала писательницей, уверяла, что «Роман о двух мирах» был первым литературным опытом, за исключением разве что нескольких сонетов на шекспировские темы. В театральных журналах начала 1880-х годов Джоанна Тернер обнаружила, помимо сонетов того же авторства и под тем же именем, статьи о музыке, вдохновении и воображении – в них уже явно звучат идеи Марии Корелли.
Джоанне Тернер среди множества ее открытий удалось также найти последнюю журнальную публикацию Марии Корелли до «Романа о двух городах» и дальнейшего непрерывного успеха. Длинное стихотворение под испанским заголовком Vale, Amor («Прощай, любовь») служит, судя по повторяющимся заклинаниям, терапевтической цели «оставить прошлое в прошлом». Джоанна Тернер заключает, что писательница именно это и сделала, расставшись со всеми прежними псевдонимами и «персонами» и отрезав к ним доступ для публики и критики. Она считает, что это множество имен и потребность от них отделаться, «погребая их заживо», – следствие расщепления личности, произошедшего при удочерении и переходе в другую семью и другой социальный класс.
Но что, если Кэролайн Коди – Минни Маккей, обретая себя в Марии Корелли, собирая в этом имени звуки и первого, и второго своего имени, прощалась со старой любовью ради новой любви?
В «Романе о двух мирах» появится, а затем будет возвращаться, в том числе в ее прославленном «Ардате», некий Гелиобас, человек, способный исцелять нервы и служить проводником души. Такой проводник, сочетающий в себе христианина и древнего мага, современного врача и кудесника, – некий идеальный образ, вымечтанный писательницей, что-то вроде «воображаемого друга», каким нередко обзаводятся одаренные одинокие дети. Корелли ухитрилась совместить вещи несовместимые – и будет так поступать впредь. С одной стороны, это дамский приключенческий роман – тут имеется англичанка-импровизаторша с расстроенными нервами; итальянский художник Рафаэлло (!) Челлини (!); буйный князь Иван, влюбленный в сестру Гелиобаса и пытающийся ею овладеть; тут происходят дуэли и внезапные смерти. С другой стороны, это весьма отважная научная фантастика, где электричеством не только исцеляют, но и используют его как оружие. В-третьих, это роман о природе творчества и, в особенности, женского вдохновения: мужчина-художник заново открывает утраченный секрет ярких красок; импровизаторша нуждается в перенастройке, чтобы порывы вдохновения не лишили ее жизненных сил; сестра Гелиобаса – скульптор, профессия, требующая не только таланта, но и физических сил и решительности. Она помогает брату и в научных опытах и погибает от удара молнии. А еще – это уже в-четвертых, – роман отдает должное нараставшему в конце XIX века интересу ко всему оккультному, но не к темной его стороне, а к поискам новых путей к духовному, к прижизненному открытию общения с потусторонним миром, к загадкам прошлого и будущего. Гелиобас становится для героини романа прежде всего врачом, исцеляющим с помощью электричества; затем другом, как и его сестра; а также – проводником в мир тайн. Он и пророк, и телепат; он смог открыть героине заветные тайны ее собственной души: под действием составленного Гелиобасом зелья героиня в видении встречает своего ангела-хранителя, созерцает полет душ и погружается в природу Вселенной и Христа. В книгу целиком включен приписываемый Гелиобасу трактат «Электрический принцип христианства» – и это еще одна особенность, которую одни прославляли, а другие считали непоправимым изъяном «Романа о двух мирах».