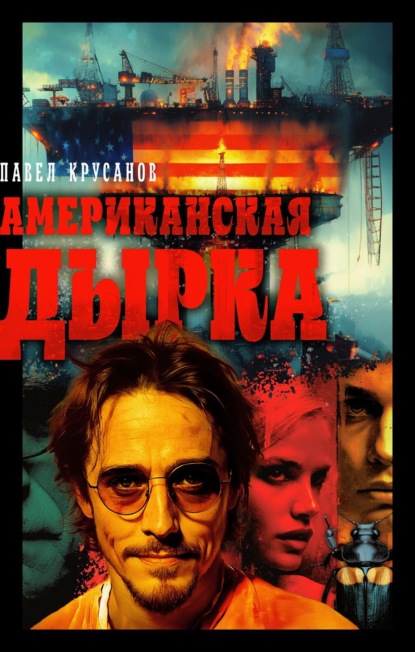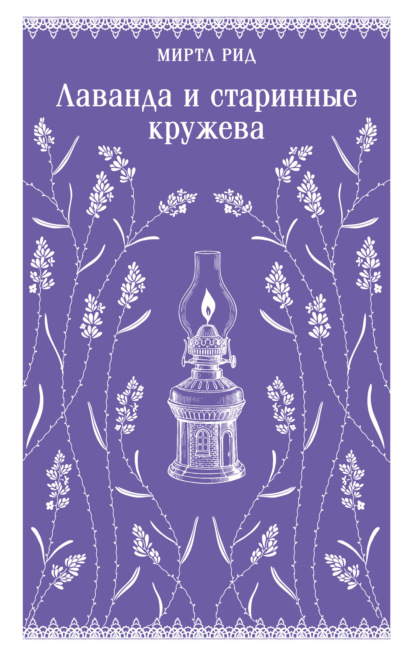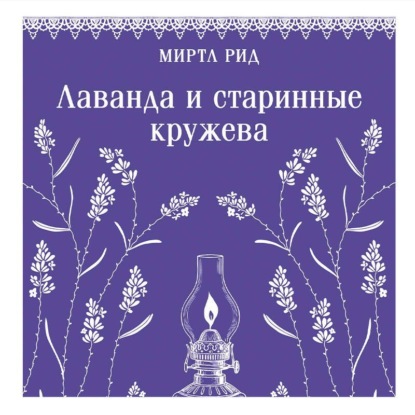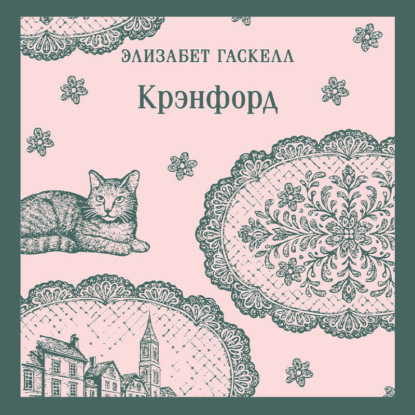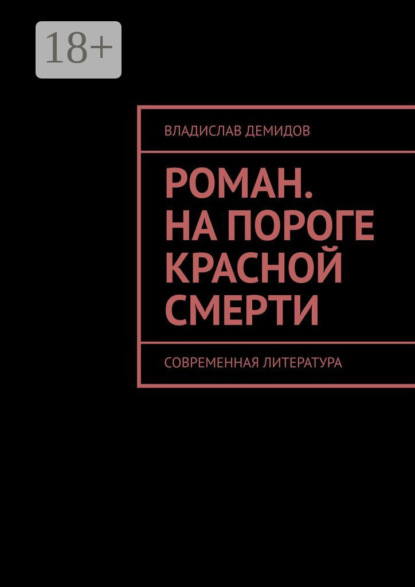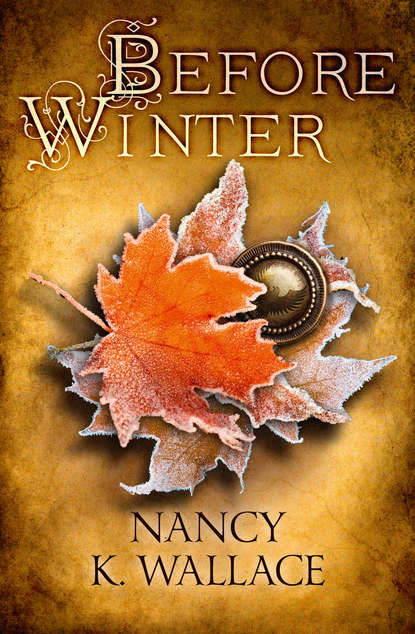Варавва

- -
- 100%
- +
Многие критики бранили этот роман, как будут бранить и следующие книги Марии Корелли, а потом постараются их не замечать. Нарушение традиционных жанровых границ. Перегруженность. «Неумеренность» и «самоуверенность», с какой она рассуждала о самых важных предметах. Вторжение женщины, к тому же не имеющей университетского образования, в области, на ту пору прочно удерживаемые мужчинами. И опять же – если б она только духовидствовала, это как раз удел женщин, мадам Блаватская в ту пору обретала известность, разворачивалось движение спиритов, и астральные тела начали проступать, в том числе в английских пейзажах. Но Мария Корелли уверенно заявляла права на христианство и на науку, о чем и свидетельствует включенный в книгу трактат.
Наверное, она страдала от недоброжелательства прессы – в санкционированной ею биографии есть фото любимой собачки, в клочья раздирающей такие отзывы. Но в своем праве рассуждать о науке и вере, о природе творчества и душевном здоровье, а также наставлять общество в вопросах брака и воспитания детей Мария Корелли не сомневалась. А если и случалось ей дрогнуть, обращалась к волшебному помощнику.
Поначалу она чередовала «серьезные» книги с теми, от которых ожидала непосредственного коммерческого успеха – такими, как «Вендетта!» и «Моя чудная жена», – но «серьезные» книги пользовались очевидным спросом и приносили немалый доход, и все менее разумным казалось снижать образ автора, посвященного в глубочайшие тайны, размениваться на мелочи. Мария Корелли вернулась к своему любимцу Гелиобасу в романе «Ардат» – тут она не стала включать в книгу трактат, зато включила одно из самых длинных описаний сновидения в мировой литературе. Героем этого романа стала уже не тонко настроенная музыкантша с издерганными нервами и готовностью, желанием верить – альтер-эго молодой писательницы, – а некто более схожий с ее критиками: образованный мужчина, атеист. Его она отправляет не в Париж, лечить нервы, как музыкантшу, а в пустыню, в древний монастырь, и там с помощью Гелиобаса, теперь ставшего монахом, он обретает (сно)видение, вернувшее ему веру. В этом романе писательница дала волю не только своей страсти к проповеди, христианскому просвещению, но и своей любви к поэзии. Растянутое на сто восемьдесят страниц сновидение может утомить содержательно тех, кто не склонен к такого рода описаниям, но каждый абзац этого текста пленяет своей красотой и в этом смысле может восприниматься как нечто самоценное. Для самой Корелли это было продолжением разговора и о религии, и об искусстве, а также, как поясняла она спустя годы, «Роман о двух мирах» и «Ардат» были для нее разговорами о доверии. Такой волшебный помощник, проводник, как Гелиобас, может казаться желанным для каждого человека, воплотившейся сказкой. Но дело в том, что все тайны, которые он открывает, предложенное им исцеление и утешение, и обретение веры – все это могло бы быть доступно и без помощника, если бы человек доверял той вере, в которой он рожден и воспитан, а также своим здоровым инстинктам – а с другой стороны, даже если Вселенная пошлет такого помощника, главная проблема заключается в том, чтобы суметь ему довериться. Именно на этой психологической проблеме современного ей человека и на возможностях разрешения этой проблемы сосредоточена проза Марии Корелли.
Далее она будет все более прямо писать о жгучих проблемах современности, в первую очередь о проблемах социальных. К числу ее безусловных заслуг на этом поприще принадлежит роман о человеке, погибшем нравственно и физически от абсента, – последствием был постепенный запрет этого напитка в Англии, затем в США и ряде европейских стран. Немалая отвага требовалась, чтобы написать такую безысходно-приземленную книгу на пятом году творчества, после успеха мрачно-романтической итальянской «Вендетты!», сентиментальной, восхваляющей чистоту женского сердца и обличающей лицемерие света шведско-английской «Тельмы» и двух духовидческих романов о Гелиобасе. Немалый риск затронуть такую тему, наполнить книгу глухими и мелочными подробностями, лишить читателей катарсиса и хотя бы луча света в развязке.
В 1896 году она написала страшный, вызвавший бурю возмущения роман «Могучий атом» о мальчике, погибшем из-за перегруза «позитивными науками» и отсутствия самого простого, наивного религиозного воспитания – на уровне молитвы перед сном и воскресного посещения церкви. На счастье Марии Корелли (а может, и ее читателей), тогдашняя цензура, усердно пресекая все, что могло возмутить нравственность в сфере отношений между полами, не считала нужным запрещать истории заблудших душ, дурные и печальные примеры, полагая, что они послужат не для подражания, а для предостережения. И все же показать ребенка, даже еще не подростка, лишившего себя жизни потому, что во всем мире для него не осталось ни опоры, ни тайны, – лишь какой-то первичный атом…
Отец этого ребенка чересчур заботился о его образовании, нанимая учителей, составляя программу и не давая бедняжке ни минуты вздохнуть. Параллельно Корелли писала роман о другом мальчике – этот роман так и назван «Мальчик» (1900), – воспитанием которого родители вовсе не занимались. Последствия столь же печальные: одинокое детство, бесприютная юность, проступок на грани уголовного, раскаяние, добровольный уход на Англо-Бурскую войну, гибель. У этого мальчика нет волшебного помощника, но есть подруга матери, пытавшаяся даже его усыновить. Кем был для автора этот персонаж? Запоздалой данью той женщине, которая ее удочерила и открыла ей мир литературы, музыки, возможности самой строить свою жизнь и о которой она очень редко вспоминала (приемная мать умерла в 1875 году), всецело сосредоточив свои воспоминания и благодарность на отце? Или проекцией самой себя – ко времени Англо-Бурской войны уже точно вышедшей из брачного возраста и поры, когда можно было надеяться на детей? Свое ли удочерение вспоминала в такой форме Мария Корелли или сама чувствовала готовность стать усыновительницей?
Она не брала под свое крыло какого-то приглянувшегося мальчика или девочку. Она попыталась в каком-то смысле усыновить и удочерить всю свою читательскую аудиторию, повлиять на состояние брака и воспитание детей. В этом – в восстановлении святости брака, союза двоих, обещавших быть вместе во всех превратностях жизни «и в самой смерти», и в возвращении к простым истинам христианства, истинам любви и доверия она видела залог надежды для всех мальчиков и девочек Англии: вырасти в семье, вырасти душевно и духовно здоровыми, прожить интересную жизнь, стремиться к тем тайнам, к которым всю жизнь стремилась и она сама. И если на первом этапе творчества Мария Корелли чередовала книги «серьезные» и «развлекательные», то уже вскоре – социальные и «духовидческие», а то и прямо «вероучительские».
При этом все заметнее звучит в ее романах женская, чуть ли не феминистическая нота. Викторианская эпоха закончилась вместе с XIX веком. И женщина, чье счастье было исключительно в семье, чья душа спасалась скромным принятием своей роли, чье творчество осуществлялось исключительно под надежным руководством супруга, отца или брата (даже прекрасная скульпторша «Романа о двух миров», владевшая тайнами электричества и энергично отстаивавшая свое целомудрие, жила и умерла в тени брата), захотела наконец заявить о себе под собственным (или по своей воле и своему выбору принятым) именем, притязать на первую роль в собственной жизни и влияние в жизни других. Если Мария Корелли могла писать романы, влиявшие на потребление алкоголя чуть ли не во всем тогдашнем цивилизованном мире, если ее книги всерьез рассматривали проблемы религиозного и нравственного воспитания поколения и отношения в семье и автор была уверена, что в таких вопросах к ней следовало бы прислушаться и это существенно изменило бы жизнь в стране, – то и в ее системе персонажей пора было появиться не только милым и доверчивым Тельмам, коварным, но беспомощным итальянским женам и целиком зависящим от духовных наставников музыкантшам и скульпторшам, а женщинам «сильным» – как в хорошем, так и в дурном смысле. «Душа Лилит» (1892), «Зиска: проблема злой души» (1897) – это тот же сюжет о мистическом знании, о душе, странствующей сквозь тысячелетия, который мы уже полюбили в «Романе о двух мирах» и «Ардате», но героиней становится женщина. И героиня эта – действительно «проблема», как сказано в подзаголовке романа «Зиска».
С одной стороны, женщина остается в уязвимой позиции. Она уязвима как невеста: богатая наследница рискует попасть в руки искателя приданого, бедная – достаться немолодому, а главное – недоброму супругу. И особенно уязвима одаренная женщина, проекция самой Марии Корелли. Если она одарена страстной душой, способной любить и странствовать через века, то, скорее всего, потерпит крах в любовных отношениях и в очередном перевоплощении возжаждет мести – на это и растрачивается весь духовный потенциал. Но то же самое можно рассказать на языке социального романа – и тогда это будет называться «Убийство Делисии» (роман написан в 1896 году, в один год с «Могучим атомом», незадолго до «Зиски»). Здесь убийство прекрасной талантливой женщины-писательницы совершает муж – присваивая плоды ее творчества и выкорчевывая корни, лишая ее любви и, наконец, откровенно сознаваясь, что для него этот брак был в чистом виде коммерческим предприятием.
Печальный сюжет, и печальный отсвет бросает он на образ самой писательницы. Значит, в том числе и так, по ее мнению, могли обернуться две самые заветные женские мечты – о любви и о самовыражении. Это были годы ее большого и стремительного успеха. Все романы, о которых мы до сих пор говорили, – каждый вполне приличного размера, – написаны в короткий период с 1885 по 1900 год. И мы еще не затронули собственно «Варавву» (1893) и «Мастера Христианина» (1900), попадающих в тот же отрезок времени. В год по роману, а если год пропущен, то в другой год два – и все они достаточно разные, все требовавшие существенного напряжения фантазии, вложения ума и чувства, да просто огромного количества часов с пером в руке в ту докомпьютерную эпоху. Нарастает ощущение эксплуатации, незащищенности, несмотря даже на то, что у Марии Корелли были на редкость благоприятные отношения с издателем и зарабатывала она прекрасно. В итоге продажи ее книг превзойдут трех самых популярных авторов-мужчин ее времени, вместе взятых. И все-таки червячок сомнения точил: допустим, покупают, обеспечивая ей немалый доход, и даже читают – но прислушиваются ли? От критиков она ничего хорошего не ждала, категорически запрещала себя фотографировать: очень уж расходились снимки с ее внутренним, все еще юным и невинным образом, – а потом и вовсе старалась избегать упоминаний о себе в прессе. Удивительный случай, когда подобный подход вовсе не мешал книге за книгой становиться бестселлером. Но ее приемные дети, английские читатели, европейские читатели, индийские читатели – на какие только языки не переводились романы Корелли, – извлекают ли они из чтения пользу? Или пребывают в одном из состояний, препятствующих глубокому чтению, – в состоянии страха, неверия, себялюбия?
Этим факторам, отделяющим человека от веры и доверия, уделено много места в романе «Варавва». Пересказывать сюжет романа едва ли стоит не только потому, что читатель ознакомится с ним сам, но и потому, что сюжет вечный, прекрасно знакомый читателю и до того, как он возьмет в руки эту книгу. В евангельскую историю ею внедрены всего два персонажа, целиком выдуманных, – сестра и отец Иуды Искариота, также почти полностью придуман ею заглавный герой, разбойник Варавва: он является подлинным историческим (или евангельским) персонажем, и народ действительно потребовал отпустить Варавву, а не Христа, но кем был этот Варавва, какие чувства им двигали и что с ним сталось – все это авторский вымысел или, кто знает, прозрение, внушенная волшебными помощниками догадка.
Кстати, о волшебных помощниках: еще есть вовсе не имеющий отношения к евангельскому сюжету, подчеркнуто неизвестного происхождения персонаж – Мельхиор. По отношению к Варавве он выступает в роли волшебного помощника и, кажется, предназначен служить проводником также и читателю.
Что касается поведения и мотивов первосвященников, римского прокуратора Понтия Пилата и его жены, центуриона и римских солдат, Иосифа Аримафейского и еще нескольких евангельских персонажей, перешедших в роман, – тут Мария Корелли близко следует традиции. Схожего Понтия Пилата, происходящего из того апокрифического источника, мы увидим и в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот только жене Пилата автор-мужчина не придаст такого значения, не наделит ее ясновидением.
Но как раз известные евангельские персонажи, те, о которых много говорят и самые ранние тексты, и традиция – апостолы, в особенности Петр, подвергаются у писательницы жесткой женской критике. Петр струсил в ту ночь, когда арестовали Христа. Как и предсказал ему сам Христос, Петр трижды отрекся, трижды повторил: «Я не знаю этого человека». Воскресший Иисус простил его, и на этом камне (имя Петр означает «камень») основал свою Церковь – об этом тоже сказано в Евангелии.
И здесь Мария Корелли решительно идет поперек традиции. Петр, неоднократно мелькающий в романе, – это не прощенный грешник, не один из апостолов, выбранных Христом с пониманием и его слабостей, но и его потенциала, не тот, кто понесет свет народам. Трусость и сознание непоправимой вины навсегда исказили его природу. Он одержим жаждой правды или, вернее, отвращением к (собственной) лжи и потому говорит так много и так бурно, что забалтывает истину и способен поверить в утешительное вранье. Церковь, которую он создаст, не соединит людей с Богом, а станет искажающим фильтром.
Здесь, конечно, сказалось недоверие англичан к той Церкви, которая непосредственно производила себя от Петра, то есть к Церкви римско-католической. Насмешливые слова «волшебного помощника» – Мельхиора – адресованы, в первую очередь, этому могущественному многовековому институту. И все же апостол Петр был весьма почитаем и протестантами, к числу которых принадлежала и сама Корелли, и большинство ее соотечественников, и в целом упрек Мельхиора кажется применимым к любой организованной религии; а что предложить ей взамен и как сохранить истину – об этом Мельхиор умалчивает.
Помимо Петра, Мария Корелли имела серьезные претензии и к Павлу, считая, вслед за некоторыми богословами своего времени, что тот существенно исказил учение Христа. О том, что Церковь заняла место между человеком и Богом, подменяя собой Христа, она подробнее говорит в гораздо более длинном – и вновь современном и социальном, а не историческом – романе «Мастер Христианин», написанном спустя семь лет после «Вараввы». Вышедший в 1900 году роман рассматривает ставший актуальным на рубеже веков вопрос: что было бы, если бы Христос пришел сегодня? Ответ предугадывается: Его бы не услышали. Христос не востребован. Это убеждение, которое писательница окончательно сформулирует в «Мастере Христианине», но которое мучило ее и в пору написания «Вараввы», следует иметь в виду, чтобы понимать источник ее не слишком дружелюбного отношения к Петру и другим апостолам. Более того: Петра Мария Корелли делает соучастником предательства Иуды, приписывая им обоим одинаковое нетерпение, ложное понимание миссии и власти Христа, желание поскорее увидеть его царем земного Израиля, да и самим занять почетные места при его дворе.
Мотивы предательств, отречений, дальнейшего искажения веры и разлучения человека с Богом – вот что наиболее интересно в этой книге, потому что здесь писательница касается самого для нее важного и мучительного. Откуда этот недостаток доверия? Почему даже самые близкие – ученики – не смогли постичь божественную природу Христа, полностью и безусловно уверовать?
По правде сказать, ответа на этот вопрос Мария Корелли не дает. Она может сколько угодно упрекать ею же созданных персонажей в лицемерии и трусости, в неумении верить, в профанации святого и так далее, она может делать это властью повествователя, устами таинственного Мельхиора и романтическими монологами Вараввы («Я разбойник и убийца, но с вами, трусами, я хлеб не преломлю»), но ответа у нее, по-видимому, нет, и это причиняет ей страдания настолько сильные, что своим вымышленным героям она дарует миг прозрения – и смерть с улыбкой на устах. Самыми симпатичными – и близкими к Иисусу и чистой вере – оказываются грешники. Смиренная блудница Мария Магдалина, надменная прелюбодейка Юдифь Искариот, романтический разбойник Варавва. Целиком поглощенные грехом – а затем столь же полно поглощенные поисками прощения – и всегда ведомые любовью к кому-то другому, а не себялюбивым копанием в себе, эти люди достигают веры. Но что дальше? Вымышленные Юдифь и Варавва тут же умирают; легендарная Мария Магдалина стала одной из проповедниц Евангелия, но в романе она остается на втором плане и будущее ее неясно. Похоже, задача проповедовать христианство здесь вообще отсутствует. Марию Корелли не волнует, как религия распространится по всей Земле. Ее вообще не волнует религия. Ее волнует вера – в одной человеческой душе. Как обрести веру? Как преодолеть недоверие?
Но даже ее прекрасный разбойник Варавва, так сильно любивший, так сразу угадавший божественность Иисуса, мучим вопросом о происхождении Христа. Во что бы то ни стало ему требуется знать, был отцом Христа Господь или же плотник Иосиф. Он пристает с этим вопросом к Марии – нечего сказать, уместный вопрос матери, на глазах которой только что распяли сына, – он отправляется в Назарет, чтобы задать этот вопрос Иосифу, и тот горячо заверяет, что мужем Марии был лишь номинальным, по велению свыше, для прикрытия. Кульминацией этой сцены становится явление воскресшего Христа – Он пришел главным образом к своим близким, а Варавва смущенно покидает это место, но тем не менее удостоился видения Христа и получил ответ на свой неделикатный вопрос. После этого он вновь попадает в тюрьму и умирает с улыбкой на губах.
Почему, почему Варавву и его создательницу так волнует этот вопрос? После многократных, как то бывало в станцах Клиффорда и в стихах Марии Корелли до Марии Корелли, повторов одних и тех же формул о том, как Варавва сразу узрел божественность и насколько же недостойны ученики, не узревшие того же за несколько лет близкого общения – откуда эта потребность в прямом однозначном подтверждении? И не мог ли Христос быть Сыном Божьим в каком-то ином смысле – религии того времени, как и религия Марии Корелли, много чего знают о переселении душ и о различных формах духовного приобщения человека божеству. Об усыновлении отдельных людей и человечества в целом.
Или в этом и заключалась проблема? Удочеренной Марии Корелли непременно требовалась самая подлинная история отцовства. У ее во всем совершенного Христа должен быть отец, а не усыновитель.
Она вновь вернется к этой теме много лет спустя в романе «Невинная: ее фантазия и его факты». Девушка по имени Инносент (что и значит «Невинная», и является одним из эпитетов Христа: разбойник на кресте и в Евангелии, и в романе Марии Корелли уничиженно сравнивает себя с Ним, умирающим безвинно, и слышит обещание встречи в раю) выросла в поместье Гуго Джослина, твердо веря, что является незаконной дочерью своего приемного отца от его невесты, скончавшейся до свадьбы. Сердце ее отдано французскому Средневековью, ее кумир – рыцарь Амадис, и через своего приемного отца – если он и биологически ее отец – Инносент состоит в родстве с этими героями древности. Лишь после смерти Джослина Инносент узнает, что была плодом мимолетного романа светской леди и художника, которые решили подбросить ребенка.
Инносент порывает связи с семьей своего приемного отца, отказывается от имени, которое ей не принадлежит по праву, и отправляется в Лондон в надежде обрести там иное имя и заработать себе на жизнь. Она становится писательницей, первая ее книга имеет огромный успех (удивительное совпадение, право). И все же она попадает в ту же ловушку, что и Делисия: влюбляется в светского щеголя, только потому, что его имя – Амадис де Джослин. Вот ее шанс окунуться вновь в романтику французского Средневековья – и по праву носить фамилию Джослин, ведь этот потомок Амадиса непременно на ней женится. Но нет, на уме у современного Амадиса лишь флирт, и Инносент с разбитым сердцем возвращается на ферму Гуго Джослина умирать.
Все важные для Марии Корелли темы сошлись здесь: приемный отец, библиотека, девичья наивность, жестокий свет, вертопрах, губящий писательницу. И все тот же мучительный вопрос: удочеренная?!
Хочется верить, что, когда настал ее час, она услышала ответ на этот вопрос и тоже ушла с улыбкой на лице. Она очень много работала в жизни и искренне, хотя порой слишком напористо, желала добра людям. Киплинг, почти столь же популярный, как она (почти – Мария Корелли обошла и его, и Конан Дойля, и Брэма Стокера, вместе взятых), представлял себе рай, который наступит для таких, как он и она, после долгого отдохновенного сна:
Но лишь в том, чтоб писать как видишь,Будет им награда и честь,И трудиться во славу БогаВсех Вещей, Каковы Они Есть[1].Критики, сулит Киплинг в этом стихотворении, вымрут – и, видимо, не воскреснут или воскреснут не-критиками. И это очень бы устроило нашу Марию Корелли. А что рисовать, как утверждает Киплинг, предстоит Магдалину, Павла и Петра – что ж, Магдалину и Петра она уже изображала, и если ошиблась, то теперь, увидев лицом к лицу в свете Любви, конечно же, она взялась за лучшую свою книгу.
Но и эта, ныне в руках у читателя, тоже была – плод ее сердечных мук, вдохновения, поиска истины, честного писательского труда.
Любовь СуммИ положили в совете взять Иисуса хитростью и убить.
Матфей 26:4Был тогда у них известный узник, называемый Варавва.
Матфей 27:16Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство.
Марк 15:7Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство.
Лука 23:19Варавва же был разбойник.
Иоанн 18:40Часть первая
Глава 1
Догорал длинный, знойный южный день.
Тяжелая жара была невыносима. Земляные полы тюрьмы источали ядовитое зловоние, отравлявшее небольшое количество проникавшего с воли воздуха. Царил глубокий мрак. Только тонкий светящийся лучик – скромный посланник пышущего жаром солнца – пробивался в одну из камер через небольшое отверстие вверху.
Но свет раздражал узника, и он с проклятиями отворачивался, закрывал лицо скованными руками, кусая губы в бессильной злобе, пока рот не наполнялся кровью.
И хотя арестант часто впадал в такую ярость и смотрел на солнечный луч, мечом резавший плотный тюремный мрак, как на заклятого врага, светящийся столбик был не бесполезен узнику: по нему он судил о времени. Когда луч появлялся – начинался день, исчезал – и ночь вступала в свои права.
Существование в каменном мешке было мукой, каждый новый день не приносил ничего хорошего: заканчиваясь, он оставлял обитателя подземелья в еще большем, чем вчера, животном отупении. Но слепящий глаза свет мучительно напоминал о внешнем мире и не давал окончательно забыться. Заключенный здесь человек выдержал бы сияние яркого восточного солнца в открытом пространстве – никто не бросит такого смелого взгляда на огненный шар, царящий в синеве неба! Но в смрадной темнице эта тоненькая струйка света, излучаемого дневным светилом, казалась узнику воплощением вызова и злой насмешки. Корчась на подстилке из грязной, трухлявой соломы, он отодвигался подальше, в темноту, проклиная и судьбу, и людей, и Бога.
Он был не один. В угол, где он ежился, как дикий зверь, была вмурована железная решетка, граничащая с таким же каменным мешком. Через эту решетку к нему тянулась изможденная, грязная рука. Пошарив в темноте, рука наконец нашла и потянула край его рубища; слабый хриплый голос позвал.
Он нагнулся быстрым, гневным движением. Цепи его зазвенели.
– Чего тебе?
– Про нас забыли, – простонал жалобный голос. – Я умираю от голода и жажды и проклинаю тот час, когда связался с тобой…
Варавва молчал.
– Ты помнишь, – продолжал тот же голос, – какое сегодня число?
– Не все ли равно? – отозвался Варавва. – Месяцы или годы прошли с тех пор, как нас сюда заточили… А ты знаешь?
– Восемнадцать месяцев прошло со дня убийства фарисея, – ответил сосед. – Сейчас идет пасхальная неделя.
Варавва не выразил ни удивления, ни интереса.
– Помнишь ли ты обычай Пасхи? – продолжал невидимый собеседник. – Один преступник, выбранный народом, должен быть отпущен на свободу! Ах, если бы это был кто-то из нас! Если невинность – заслуга, то выбор падет на меня. Бог моих отцов свидетель, что мои руки не запачканы кровью… Я фарисея не убивал… Немного золота – вот все, что я хотел…
– И разве ты его не взял? – прервал его Варавва. – Лицемер! Разве не ты ограбил фарисея, сняв с него все, до последнего украшения? Тебя схватили, когда ты зубами рвал с его руки золотой браслет. Не прикидывайся невинной овечкой! Ты – злейший вор в Иерусалиме!