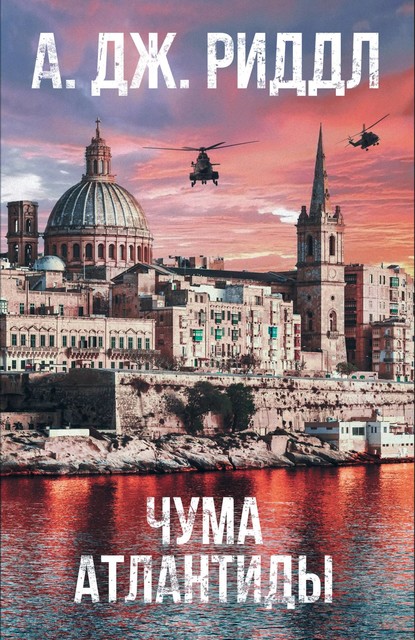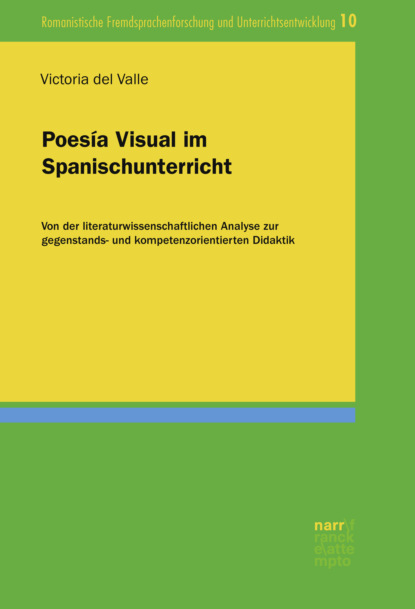Вендетта. История одного позабытого

- -
- 100%
- +
– Что случилось? – спросил я.
Он судорожно дернулся, повернув ко мне лицо – прекрасное, но искаженное страданием.
– Холера, синьор! – простонал он. – Холера! Ради бога, не подходите! Я умираю!
Я замешкался. Страха за себя не было. Но ради жены и ребенка приходилось проявлять осторожность. Однако бросить несчастного мальчишку без помощи я не мог, поэтому решил отправиться в порт за врачом. С этой мыслью я произнес ободряющим тоном:
– Мужайся, дружище! Не всякая хворь – холера. Подожди здесь, я приведу доктора.
Мальчик уставился на меня огромными скорбными глазами, пытаясь улыбнуться. Он указал на горло, попытался заговорить, но тщетно. И снова сжался на земле, корчась от боли, словно подстреленный зверь. Я оставил его и ускорил шаг. В порту, где стоял удушливый зной, я нашел нескольких перепуганных мужчин, слонявшихся без дела, и, объяснив ситуацию, попросил помочь. Все отказались – никто не соглашался, даже за золото. Выбранив их за трусость, я кинулся искать врача и наконец нашел; но французишка с желтоватым лицом неохотно выслушал мой рассказ и наотрез отказался куда-то идти.
– Мальчишка уже все равно что помер, – холодно бросил он. – Обратитесь в дом милосердия: братья заберут тело.
– Как! – воскликнул я. – Вы даже не попытаетесь его спасти?
Француз поклонился с саркастичной учтивостью.
– Месье должен меня извинить! Мое здоровье подвергнется опасности, стоит мне прикоснуться к трупу человека, умершего от холеры. Позвольте, месье, пожелать вам доброго дня!
И он исчез, хлопнув дверью. Я был в ярости. Несмотря на зной и смрад раскаленных улиц, буквально сбивавший с ног, я забыл о собственной безопасности. В городе, охваченном заразой, я стоял и не знал куда дальше идти, как вдруг меня окликнул серьезный добрый голос:
– Ты ищешь помощи, сын мой?
Я поднял глаза. Рядом стоял высокий монах, чьи бледные, но решительные черты частично скрывал капюшон. Это был один из тех братьев, движимых Христовой любовью, которые в эти страшные дни не боялись встречаться лицом к лицу с эпидемией, пока хвастуны-безбожники разбегались, как зайцы, при малейшем намеке на риск. Я поклонился и объяснил ситуацию.
– Я пойду сейчас же, – сказал он с жалостью. – Но боюсь, уже поздно. Впрочем, лекарства у меня с собой; возможно, еще успею.
– Вместе пойдем! – пылко промолвил я. – Даже собаку нельзя оставлять умирать в одиночестве, а уж этого беднягу и подавно.
По дороге монах внимательно всматривался в меня.
– Вы не местный? – спросил он.
Я назвал свое имя, которое он знал по слухам, и указал расположение виллы.
– У нас на холме все здоровы, – добавил я. – Не понимаю паники в городе. Холера плодится именно из-за трусости.
– Разумеется! – спокойно ответил он. – Но что поделать? Эти люди живут ради удовольствий. Их сердца привязаны только к земному. Когда смерть, неминуемая для всех нас, приходит – они пугаются, как дети страшных теней. Даже религия… – он глубоко вздохнул – …не властна над этими душами.
– Но вы, отец… – начал я и вдруг замолчал, потому что у меня резко застучало в висках.
– Я, – серьезно произнес он, – слуга Христа и не страшусь холеры. Будучи недостоин своего учителя, я все же готов – и более того, желаю – принять во имя его любую смерть.
Говорил он твердо, но без высокомерия. Я восхищенно посмотрел на него и уже собирался что-то сказать, как вдруг мной овладело странное головокружение. Я ухватился за руку собеседника, чтобы не упасть. Улица закачалась, точно палуба корабля, а в небе завертелись синие огненные круги. Когда дурнота отступила, я услышал голос монаха, звучавший издалека:
– Что с вами?
Я попытался улыбнуться.
– Должно быть, жара… – ответил я слабым, будто старческим голосом. – Голова закружилась… Оставьте меня, помогите мальчику. Господи!
Последний возглас вырвался у меня от боли. Ноги подкосились, а тело пронзила судорога, холодная и обжигающая, словно стальной клинок. Я рухнул на мостовую. Сильный монах не раздумывая подхватил меня и потащил в дешевый трактир для бедняков. Там он уложил меня на деревянную скамью и позвал хозяина – человека, которого явно знал.
Несмотря на муку, я оставался в сознании и видел все вокруг.
– Позаботься о нем, Пьетро, – это граф Фабио Романи. Твои труды будут оплачены. Вернусь через час.
– Граф Романи! Пресвятая Мадонна! Да у него холера!
– Дурень! – гневно воскликнул монах. – Тебе-то откуда знать? Солнечный удар – это не холера, трус! Присмотри за ним, или, клянусь святым Петром и его ключами, на небесах для такого, как ты, не найдется места!
Дрожащий трактирщик, испуганный угрозой, покорно подошел и подложил под мою голову пару подушек. Монах тем временем поднес к моим губам стакан с лекарством, которое я машинально выпил.
– Отдохните здесь, сын мой, – сказал он мягко. – Здесь вы среди добрых людей. Я только поспешу к тому мальчику – и вернусь за вами меньше чем через час.
Я слабо ухватил его за рукав.
– Останьтесь… – слабо прошептал я. – Скажите правду. Это холера?
– Надеюсь, что нет! – ответил он с состраданием в голосе. – А даже если и так, что с того? Вы сильны и достаточно молоды, чтобы без страха сразиться с ней.
– Это не страх, – ответил я. – Отец, обещайте мне только одно: не извещать жену о моей болезни. Поклянитесь! Даже если я буду без сознания… или мертв… поклянитесь, что меня не доставят на виллу. Дайте слово! Я не успокоюсь, пока не услышу…
– Охотно клянусь вам, сын мой, – торжественно вымолвил он. – Всем, что для меня свято. Обещаю: ваша воля непременно будет исполнена.
На меня нахлынуло облегчение: близкие в безопасности. Я поблагодарил его молчаливым жестом. Сил говорить больше не было. Он ушел, а мой разум погрузился в хаос странных видений. Попробую описать мои грезы. С одной стороны, я отчетливо вижу трактир, где лежу. Вот присмиревший владелец – он протирает бокалы, украдкой бросая на меня испуганные взгляды. В двери заглядывают какие-то люди, но, заметив меня, торопятся прочь. Я осознаю, где нахожусь, но в то же время карабкаюсь по крутой альпийской тропе. Снег хрустит под ногами, где-то рокочут тысячи водопадов. Над белым ледником плывет багровое облако; вот оно расступается, и в его сиянии возникает лик!
– Нина! Любовь моя, жена, душа моя! – кричу я.
Протягиваю руки, обнимаю ее… Но это лишь вонючий трактирщик, вцепившийся в меня! Задыхаясь, отчаянно рвусь из его объятий… Воплю ему прямо в ухо:
– Дурак! Пусти меня к ней… ее губы ждут поцелуев… пусти!
Подходит еще какой-то мужчина, хватает меня и на пару с трактирщиком прижимает к подушкам; наконец эти люди одерживают победу, а ужасное изнеможение высасывает из меня последние силы. Я подчиняюсь, перестаю бороться. Пьетро и его помощник смотрят на меня сверху вниз.
– E morto! («Он умер!») – шепчут они друг другу.
Я слышу их и улыбаюсь. Умер? Только не я! Палящий солнечный свет льется через открытую дверь трактира… Мухи, которых тоже замучила жажда, назойливо и громко жужжат… Где-то поют «La Fata di Amalfi» («Фея из Амальфи»), популярную песню на неаполитанском диалекте, и я даже различаю слова:
О услышь, как я страдаю,О вернись, моя Рузелла!Ты прекрасней всех в Амальфи,Для меня ты фея грез!О приди, приди скорее,Королева моей страсти,Ты цветущих роз отраднейИ светлей полночных звезд!Это правдивая песня, Нина моя! «И светлей полночных звезд!» Как там говорил Гвидо? «Чище безупречного алмаза, недоступнее далекой звезды!» А глупый Пьетро все протирает свои бутылки. Я вижу, как его круглое лицо лоснится от пота и пыли. Но как он здесь оказался? Ведь я на берегу тропической реки, где растут исполинские пальмы, а на солнце дремлют вялые аллигаторы. Их пасти распахнуты, мелкие глазки отсвечивают зеленым. По воде скользит легкая лодка, и в ней стоит прямой гибкий индеец. Странно: своими чертами он почему-то напоминает Гвидо. Индеец вытаскивает свой длинный тонкий клинок, сверкающий сталью на солнце. Храбрец! Хочет в одиночку атаковать чудовищ, поджидающих его на знойном берегу! Вот он выпрыгивает на сушу (я наблюдаю за ним со смесью ужаса и любопытства)… проходит мимо аллигаторов, будто не замечает их, и быстрым шагом направляется прямо ко мне. Это я – его цель! Он вонзает холодный кинжал мне в сердце, выдергивает окровавленный клинок. Раз! Два! Три! Но я по-прежнему не умираю! Тело корчится в судорогах, из горла рвется мучительный стон. Вдруг что-то темное заслоняет слепящее солнце – что-то прохладное и тенистое, к чему я в отчаянии припадаю… Два темных глаза пристально смотрят на меня, и некий голос произносит:
– Спокойствие, сын мой, храните спокойствие. Предайте вашу душу Христу!
Это мой друг, милосердный монах. Я с радостью узнаю его. Он вернулся. Я едва могу говорить, но слышу, словно со стороны, как спрашиваю о мальчике. Монах благоговейно осеняет себя крестным знамением.
– Да упокоится с миром душа того юноши! Я нашел его мертвым.
Этой новостью я поражен, даже в бреду. Неужели умер? Так скоро! Не понимаю… И вновь тону в омуте неясных видений. Теперь, оглядываясь назад, не могу четко вспомнить, как все происходило потом. Знаю, что испытывал невыносимую боль, мучительную агонию, словно меня пытали на дыбе; и еще откуда-то доносился глухой печальный звук, что-то вроде монотонной молитвы. Мне кажется, я слышал звон колокольчика, сопровождающего дарохранительницу, но разум путался все сильнее, и я уже ни в чем не уверен. Помню, боль длилась целую вечность, а потом я кричал:
– Не на виллу! Нет, нет, только не туда! Не смейте переносить меня; проклятие тому, кто ослушается!
Затем появилось ужасное чувство, будто меня затягивает в глубокий водоворот, а монах стоял надо мной, и я с мольбой тянул к нему руки. Перед глазами на миг блеснуло серебряное распятие, и я с громким криком погрузился в пучину тьмы и небытия.
Глава 3
Последовало долгое время сна среди тишины и мрака. Казалось, я провалился в глубокий колодец сладостного забвения. Призрачные образы еще мельтешили в моем сознании – сперва еле различимые, потом со все более четкими контурами. Нелепые существа трепетали в воздухе, вились вокруг; чей-то сиротливый взгляд буравил меня сквозь густую тьму; костлявые белые пальцы, жадно хватавшие пустоту, то ли грозили мне, то ли о чем-то предупреждали. Потом очень медленно перед моими глазами вспучилось багровое облако, как бывает на закате перед грозой. Из кровавой мглы протянулась огромная черная рука, нанесла мне сокрушительный удар в грудь, схватила и крепко сжала за горло. Тело словно придавило тяжелой железной плитой. Я отчаянно бился, пытался крикнуть, но гнетущая сила начисто лишила меня голоса. Я метался из стороны в сторону, пытаясь вырваться; нестерпимое давление сковало меня со всех сторон. Я продолжал бороться с черной рукой – раз за разом, дюйм за дюймом… Вот-вот… Наконец! Последний рывок… Победа! И я проснулся! Боже милостивый! Где я? В какой ужасной атмосфере, в какой непроглядной тьме? По мере возвращения сознания я вспомнил о своей недавней болезни. Где же монах? Где Пьетро? Что со мной сделали? Мало-помалу я осознал, что лежу на спине; и что это за жесткая кровать? Зачем убрали подушки из-под головы? Ощутив покалывание в жилах, я прислушался к ощущениям в ладонях: пальцы были теплыми. Пульс бился сильно, хотя и прерывисто. Что-то мешало дышать, но что? Воздуха… воздуха! Мне нужен воздух! Я поднял руки. О ужас! Они уперлись в твердую поверхность над головой. Истина молнией пронзила сознание! Меня закопали заживо; эта деревянная темница – мой гроб! Бешенство сильнее тигриной ярости охватило меня – я царапал ногтями проклятые доски, бился плечами и кулаками, пытаясь сорвать крышку! Тщетно! Неистовство и ужас удваивали безумие. Любая смерть милосерднее этой! Я задыхался, глаза лезли вон из орбит, кровь хлестала из носа и рта, струйки ледяного пота стекали со лба. Я замер, судорожно хватая воздух. Потом, собравшись с силами и вложив в последний рывок всю мощь агонии и отчаяния, нанес удар в боковую стенку. Треск – доски подались! – и тут… все тело сковал новый ужас. Я отпрянул, тяжело дыша. Если… если я под землей (пронеслось в сознании), то какой смысл разламывать гроб? Почва посыплется внутрь – сырая, кишащая червями, насыщенная костями других мертвецов, липкая масса забьет мне рот и глаза, навеки замуровав в тишине! Разум содрогнулся от этой мысли, мой мозг был на грани безумия! Я засмеялся – представьте! – и смех прозвучал как предсмертный хрип. Да, но дышать стало легче: я ощутил это, даже оцепенев от страха. О да! Благодатный воздух проник снаружи. Воодушевленный, я ощупал проделанную мной щель и принялся с яростью безумного расшатывать доски. Вдруг стенка гроба подалась – крышка откинулась! Протянутые вверх руки не встретили ни земли, ни преграды, лишь пустоту. Повинуясь невольному порыву, я ринулся прочь из ненавистного ящика – и рухнул вниз, рассадив колени о каменный пол. Рядом, грохоча, упало что-то тяжелое. Тьма стояла непроглядная, но воздух был свеж и сладок. С трудом приподнявшись, я сел. Тело ныло от ран и судорог, дрожь била как в лихорадке. Однако сознание прояснилось – хаос мыслей улегся, безумный жар утих. Успокоившись, я принялся обдумывать свое положение. Меня действительно заживо погребли, в этом нет сомнения. Вероятно, мучительная агония в трактире, где я лежал, обернулась глубоким и долгим обмороком. Хозяева, решив, что я умер от холеры, в панике запихнули тело в один из тех ненадежных гробов, что были тогда в ходу в Неаполе – знаете, такие тонкие сосновые ящики, сколоченные наспех, с кривыми гвоздями. О, я всей душой благословил их за хлипкость! Окажись гроб прочнее – кто знает, хватило бы всей моей бешеной силы, чтобы вырваться в итоге на волю? От одной только мысли мороз пробежал по коже. Но оставался еще один вопрос: где я? Рассматривая свое положение с самых разных сторон, я долго не находил удовлетворительного ответа… Или нет, постойте! Я же назвал монаху свое имя! Он знал, что имеет дело с последним отпрыском богатого рода Романи. Что из того? Разумеется, добрый брат поступил, как повелевал ему долг. Заботясь о мнимом покойнике, он велел перенести тело в родовой склеп Романи, который ни разу не открывали с тех пор, как тело моего отца было доставлено к месту последнего упокоения со всей торжественной пышностью, приличествующей похоронам богатого дворянина. Чем дольше я размышлял, тем вероятнее казалась эта мысль. Склеп Романи! В юности его мрачные своды повергали меня в трепет. Помню, как сопровождал гроб отца к особо отведенной для него нише. Мне указали на дубовый ящик, обитый полинялым бархатом и украшенный потускневшим серебром – там покоилась моя мать, умершая в молодости, – и я, содрогнувшись, отвел глаза. Меня всего колотило от озноба и подступающей тошноты. Только на воле, на свежем воздухе, под открытым лазурным небом, я снова пришел в себя. И вот сегодня – заточен в том же самом склепе, точно пленник. Есть ли надежда выбраться? Вспомнил: вход преграждала тяжелая кованая железная дверь. От нее вниз вели крутые ступени – туда, где, видимо, я и находился. Предположим, в кромешной тьме я отыщу путь к лестнице, поднимусь к самой двери – что толку? Она же не просто захлопнута, а заперта на засов. Да и склеп расположен в таком глухом углу кладбища, что сторож, должно быть, целыми днями, а то и неделями сюда не заглядывает. Неужели мне суждено умереть от голода? Или от жажды? Измученный этими мыслями, я поднялся с каменного пола и выпрямился во весь рост. Ноги мои были босы, и холод от камня пронизывал до костей. К счастью (подумалось вдруг), меня похоронили как жертву холеры – то есть из страха заразы оставили полуодетым. На мне остались легкая рубашка и привычные прогулочные брюки. Что-то еще ощущалось на шее; я провел рукой и нащупал тонкую золотую цепочку. Душу захлестнула волна мучительно-сладких воспоминаний. На цепочке висел медальон с портретами моей жены и ребенка. Я сжал его в темноте, осыпал страстными поцелуями и заплакал – в первый раз после смерти. Слезы горькие, как полынь, обжигали кожу. Стоило бороться за эту жизнь, прорываться в мир, озаренный улыбкой Нины! Я решил, что не сдамся, какими бы страшными бедами ни грозило будущее. Прекрасная Нина, любовь моя! Ее юное лицо осветило мой мрачный склеп; глаза, исполненные бесконечной преданности, манили меня. Я знал, что в эту минуту они источают потоки слез из-за мнимой кончины супруга. Я будто наяву увидел мою нежную Нину, рыдающую в тишине пустой комнаты, запомнившей многие тысячи наших страстных объятий. Прекрасные локоны не уложены, милое личико побледнело и осунулось от горьких страданий. А малышка Стелла, бедняжка, наверняка гадает, почему я не прихожу покачать ее на руках в апельсиновой роще. И Гвидо, мой верный друг! Я думал о нем с нежностью. Его искренняя скорбь будет глубокой и долгой. О, я испробую все пути к спасению! Выберусь из этого мрачного подземелья! Как они обрадуются, увидев меня живым, узнав, что я даже не умирал! Какая встреча нас ожидает! Нина упадет в мои объятья, Стелла прильнет к ногам, а Гвидо схватит за руку и крепко сожмет ее! Я улыбнулся, представив сцену ликования, что разыграется на старой доброй беломраморной вилле – в счастливом доме, освященном царящими в нем идеальной дружбой и верной любовью!
Глухой и глубокий звук, внезапно раздавшийся у меня в ушах, заставил вздрогнуть от неожиданности. Бом! Бом! Бом!.. Я насчитал двенадцать ударов. Церковный колокол отбивал часы. Приятные грезы рассеялись – я вновь столкнулся с неприглядной реальностью. Двенадцать! Дня или ночи? Кто знает! Я начал подсчитывать. Болезнь настигла меня ранним утром – чуть позже восьми, когда я встретил монаха и просил помочь юному торговцу фруктами, в итоге так и скончавшемуся в одиночестве. Если мое беспамятство длилось несколько часов, около полудня меня уже могли принять за покойника. Значит, похоронили еще до заката, со всей возможной поспешностью. Тщательно обдумав детали, я решил, что колокол пробил полночь, следующую за днем моего погребения. Меня передернуло. Я, конечно, по природе не из пугливых, но в то же время все еще, несмотря на блестящее образование, до некоторой степени суеверен – как и положено истинному неаполитанцу. Это у нас в крови. Было что-то невыразимо пугающее в звуке этого полуночного колокола, терзавшем уши человека, заживо запертого в погребальном склепе среди разлагающихся тел его предков! Я боролся со страхом, пытаясь собрать свою волю в кулак. Потом решил ощупью отыскать путь к лестнице и медленно двинулся вперед, вытянув руки. Внезапно я замер. Кровь застыла в жилах. Под сводами склепа прокатился пронзительный, долгий и жалобный вопль. Тело покрылось холодным потом, а сердце заколотилось так громко, что я не слышал собственных мыслей. Опять, опять этот странный звук! А затем – шум крыльев. Я перевел дыхание.
– Это просто сова, – сказал я себе, устыдившись недавнего страха, – безобидная птица, верный страж мертвецов, оплакивающий своих товарищей: крик ее полон скорби, но неопасен.
Удвоив осторожность, я продолжал двигаться вперед. Внезапно в густой темноте сверкнули два желтых глаза, горящие голодом и ледяной жестокостью. Я отпрянул, а тварь набросилась с яростью дикой кошки! Мы стали биться в темноте: невидимые, но ощутимые крылья хлестали меня по лицу; одни только очи пернатой фурии пылали среди непроглядного мрака. Я наносил удары направо и налево, несмотря на подступающую дурноту и головокружение, продолжая безрассудно сражаться. Тошнотворная схватка длилась несколько бесконечных мгновений. Наконец – хвала небесам! – я стал одерживать верх. Огромная сова заметалась взад и вперед в явном изнеможении, потом издала дикий вопль бессильной ярости, и ее похожие на лампы глаза исчезли в темноте. Задыхающийся, однако не сломленный духом (хотя каждая клеточка моего тела дрожала от пережитого возбуждения), я двинулся дальше – как мне казалось, по направлению к лестнице, поводя вытянутыми руками перед собой. Вскоре передо мной возникла преграда, что-то твердое и холодное. Должно быть, каменная стена? Я ощупью нашел углубление – возможно, ступень. Только не слишком ли высокую? Продолжил поиск – пальцы воткнулись во что-то мягкое и сырое, словно мох или влажный бархат. Преодолев брезгливость, я двинулся дальше и в конце концов различил продолговатые очертания гроба. Как ни странно, находка не напугала меня. Я обнаружил, что машинально пересчитываю выпуклости металлических планок, прибитых сверху, по всей видимости, для украшения. Восемь полос вдоль (в промежутках – что-то податливое и склизкое), а поперек – четыре. Внезапно сердце пронзила ужасная мысль: чей это гроб? Моего отца? Или я, словно безумец, тереблю обрывки бархата на дубовом ложе, где покоятся священные останки любимой матери? Я встряхнулся, отгоняя оцепенение. Все попытки найти выход оказались тщетны – я заблудился во мраке, не представляя, куда идти. Ужас создавшегося положения накатил с новой силой. В горле совсем пересохло. Рухнув на колени, я простонал:
– Господь всемилостивый! Спаситель этого мира! Заклинаю душами хранимых тобой усопших, сжалься! О мама! Если твой прах покоится где-то рядом – вспомни меня, о небесный ангел, помолись за меня! Боже, спаси или дай умереть, прекратив эти муки!
Голос мой гулко отдавался под сводами, наполняя их жутким эхом. Я понимал, что еще чуть-чуть – и лишусь рассудка. Страшно было даже вообразить, на что способен безумец, запертый в беспросветном царстве смерти в обществе истлевающих тел! Я продолжал стоять на коленях, закрыв руками лицо, и пытался успокоиться – уже из последних сил. Но чу! Что за сладостные звуки вдруг уловил мой слух? Я вскинул голову и внимал, затаив дыхание.
– Тиу-тиу-тиу! Ла-ла-ла-ла-ла! Тр-риль-лиль-лиль! Щелк, щелк, щелк!
То был соловей. Знакомая дивная птица с ангельским горлышком! О, как благословил я тебя в тот темный час отчаянья! Как благодарил Бога за твое невинное существование! Как вскочил с каменного пола, смеясь и плача от радости, пока ты, не ведая обо мне, рассыпал в умиротворенной ночи жемчужные трели! Небесный вестник утешения! До сих пор вспоминаю о тебе с нежностью; благодаря твоей песне я стал обожателем всех птиц на свете. Человечество мне опостылело, но голоса лесов и холмов – как они чисты, как свежи! – это ближайший к раю род счастья!
Я ободрился, испытав прилив новых сил. Новая мысль озарила мой разум, сладкоголосый певец подарил надежду – и я снова отважно двинулся сквозь кромешную тьму. Я понял: нужно идти на звук соловьиной трели. Птица наверняка распевала на дереве у входа в склеп – а значит, у меня появилась возможность найти наконец-то заветную лестницу. Я брел очень медленно, на заплетающихся ногах. Дрожь в ослабевших коленях не унималась. На сей раз ничто не преграждало мой путь. Мелодичные трели звучали все ближе; угаснувшая было надежда теперь разгоралась вновь. Я брел вперед, едва ощущая и осознавая, что делаю.
Я шел как во сне, влекомый чудесной золотой нитью птичьего пения, как вдруг споткнулся о камень и рухнул ниц, но боли не почувствовал – онемевшее тело отказывалось уже реагировать на страдания. Разлепив тяжелые веки, я вгляделся вперед воспаленным взором – и вскрикнул от радости. Тонкий луч лунного света, не толще соломинки, падал наискосок, указывая, что я достиг цели: оказывается, я споткнулся о нижнюю ступень каменной лестницы. Входа в склеп я не разглядел, но знал, что он ждет меня там, наверху крутого подъема. Слишком измученный, чтобы двигаться дальше, я замер на месте, вглядываясь в одинокий луч и слушая соловья, чьи неумолчные трели теперь звучали так ясно, так различимо. Бом! Уже знакомый мне грубый звон колокола возвестил о приближении утра – и я решил отдохнуть до рассвета. Совершенно измученный, преклонил я голову на холодные камни, будто на мягчайшую из подушек, и через несколько мгновений забылся глубоким сном от всех своих бед. Но спал я недолго. Внезапно проснулся от удушья и тошноты, с острой болью в шее – в нее словно впилось разом несколько жал. Поднес руку… Боже! Вовек не забуду премерзкое ощущение, когда дрожащие пальцы сомкнулись на этом. В плоть мою впился крылатый липкий, дышащий ужас! Эта дрянь вцепилась в меня с отвратительной целеустремленностью. Завопив, как безумный, от ужаса и гадливости, я судорожно сжал обеими руками жирное мягкое тельце, в буквальном смысле оторвал его от себя и швырнул как можно дальше назад, в черную бездну склепа.
Должно быть, на какое-то время разум и вправду покинул меня. Эхо многократно повторило пронзительные вопли, которых я уже не мог удержать! Наконец, обессилев, я огляделся вокруг. Лунный луч исчез – его заменил бледно-серый отсвет, в котором я довольно явственно различил и длинную лестницу, и закрытую решетчатую дверь наверху. В отчаянии взбежав по ступеням, я ухватился за железные прутья и начал трясти их изо всех сил. Они не поддавались, замок тоже крепко держался. Я закричал, умоляя о помощи… Звенящая тишина была мне ответом. Прильнув к переплетению прутьев, я увидел траву, раскидистые ветви деревьев и даже кусочек благословенного неба, нежный опал которого был окрашен легким румянцем близившейся зари. Насладившись чистым воздухом, я обратил внимание на дикий виноград – его усыпанные росинками листья висели так близко. Я с трудом просунул руку сквозь решетку, сорвал их прохладную зелень и жадно принялся их жевать – о, в моей жизни не было яства слаще! Жаркое полыхание в пересохшем горле утихло. Вид небес и деревьев успокаивал душу. Птицы начали потихонечку пересвистываться, а мой соловей умолк.