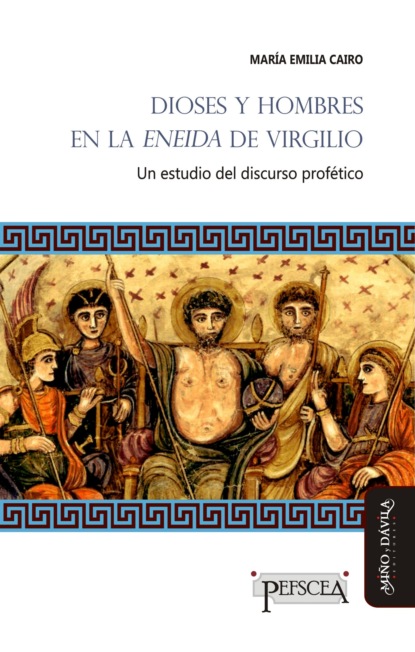- -
- 100%
- +

© Александр Кормашов, 2025
ISBN 978-5-4474-3848-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1
Прошли обещанные пол- и ещё, наверное, часа четыре, прежде чем гладкая железная дверь, без всяких признаков ручки и даже дверных петель, плавно отклеилась от стены.
– Прошу вас. Сюда, Константин Сергеевич. Проходите. Присаживайтесь. На стул. Извините, что заставили ждать. Кофе? Ну, тогда чай. Не холодно? В вашей комнате, я имею в виду. Зима-то в этом году не подарок. Ну да ладно. Сразу к вашему… к нашему делу. Это не допрос. Вы превратно истолкуете мою роль, если решите, что в этой папке лежит какое-то дело. Есть, конечно, вопросы. Видите, я достаю, открываю… Альманах «Строфы», страница тридцать восемь. Одно большое стихотворение. Или поэма? Ладно. Как вы заметили, что я не веду протокола, хотя не буду скрывать, что беседа пишется. Итак, журнал «Строфы», №1, январский, за 1994, и в нём мы находим это стихотворение. Или поэму? Ладно. Итак, продолжим. А продолжим мы тем, что… Взгляните.
Из пакета плотной черной бумаги выскользнуло полдюжины фотографий, в разных ракурсах, разных увеличений. Она, она и она. Есть вид сверху. Её лицо – крупно.
Я сглотнул наждачную сухоту в горле.
Комната была полным повтором той, через стенку, смежной, в которую меня затолкнули четыре часа назад. Тот же дээспэшный шкаф (сам его вид подразумевал ДСП – для служебного пользования), те же казённого вида обои и те же невероятные жалюзи. Такие, наверное, монтируются на полицейских бронемашинах – выдержат любой камень. Здесь же они прикрывали окно изнутри. Крепкие стальные пластины поворачивались на втулках, вмонтированных прямо в бетон. За окном – заснеженный подмосковный лес. Вероятно, где-то к северу от Москвы. Машина, на которой меня везли, сворачивала в лес с Ярославки.
– Так вы её знаете?
Эта комната отличалась лишь тем, что кровати в ней не было, а вместо типового гостиничного стола стоял мощный канцелярский, двухтумбовый, да в угол приткнулся журнальный столик с двумя низкими креслами по бокам. В целом же, как ни гляди, тут у них получался вполне приличный двухкомнатный номер, состоящий из пары комнат-близняшек, причем первая – проходная.
Больше взгляд ни на чем не задерживался. Разве что на компьютере. Ноутбук. Их ещё называют «лэптоп». В смысле, работай хоть на коленке. Ляпай хоть на коленке. И ещё на столе стоял телефон и лежала папка, раскрытая канцелярская папка. С тесёмками. И с журналом внутри. Больше на столе ничего не было. Кроме полдюжины её фотографий. И на всех она неживая.
– Вы знаете эту девушку?
Болела изнанка нижней губы.
– Ну хорошо. Тогда познакомимся поближе, – сказал человек. – Вы у нас будете… Константин Сергеевич Смирнов? Так?
Я кивнул: буду.
– А меня зовите просто Клавдий Борисович.
– Клавдий… – я прокашлялся.
– Борисович, – повторил он.
– Клавдий Борисович… – повторил я, а поскольку интонация у меня получилась оборванная и от этого вопросительная, он повторил, словно проштамповал:
– Клавдий Борисович.
Пауза. Мне казалось, он еле сдерживался, чтобы не съехидничать: «Вам ещё и фамилию? А какую?»
В нём было что-то от старого хитрого ученого барсука. В очках. Жидкие, зачёсанные назад волосы, две обширные, слоновой кости залысины. Глаза широко расставленные, но и сильно уменьшенные очками с хорошими диоптриями. Большой, хрящеватый и при этом немного курносый нос – трамплинчиком. Напрочь срезанный подбородок. Очень странный рот. Только что кончики губ угрюмо свисали вниз, как тут же резко подкидывались вверх, подпирая рыхлые, изрядно подсушенные щёки курильщика. Это у него, вероятно, означало улыбку. Скобка вверх – скобка вниз – скобка вверх. Рехнуться можно.
– Клавдий…
– Борисович, – терпеливо подсказал он.
– А она? Она у вас?
Клавдий Борисович сделал ртом «скобку вверх».
– У нас.
– А можно?..
– Можно. Можно всё начать по порядку и как можно побыстрей всё закончить. У нас не так много времени, Константин Сергеевич. – Клавдий поднял крышку компьютера, нажал, внутри что-то пикнуло и захрюкало. – Я тут уже немного поработал. Настучал ваши свидетельские… простите, набрал ваш труд на компьютере и разбил текст на блоки. Возьмите журнал. Возьмите, возьмите. Откройте семнадцатую страницу. Открыли? Хорошо. А на экране вы видите мой вопрос.
Он развернул компьютер, и я увидел экран. Там было набрано:
Она являлась…………Это было начало стихотворения.
***
– Ну, ни пуха ни пера!
Деликатность Долина я оценил. Он мог сказать и ехиднее: «Ни дна тебе, ни покрышки». Было бы ближе к истине. Дна-то этот жигуль, собственно, не имел. Так, нечто прогнившее. Да и покрышки, лысые совершенно, смахивали на дутики очень нереактивного самолета.
– Счастливо тебе, – буркнул я, хорошо понимая, по какую сторону нашей сделки легло больше счастья. Долинский сосед получил какие-никакие, но деньги, а я взамен получал машину, хоть с виду ещё приличную, но годную лишь на то, чтобы дальше и дальше, через мартены и мартены, вращаться в замкнутом круге железной своей сансары. Впрочем, если Долин решил кого-нибудь осчастливить, спорить с ним бесполезно.
Первая скорость сразу не включилась. Потом включилась и тут же вылетела. В зеркало заднего вида я видел, как приближаются Долин и его сосед.
– Э-э… это… забыл сказать, – сосед нагнулся к окну, дыша мне в лицо самогонкой, которой они вместе со Долиным обмывали мою покупку. – С первой того… бывали проблемы. Но ты не жалей сцепления, недавно менял, давай, трогайся со второй. А мы тебя подтолкнём. Давай, Саньк.
Они уперлись в багажник и протолкали меня через половину деревни. Машина дёргалась и скакала.
– Санторин! – кричал я назад. – Чтоб разорвало тебя, Санторин! Чтоб следующей твоей картиной был «Взрыв Санторина»!
На миг я подумал, что, если бы Долина разорвало перед холстом, это был бы великий авангардизм, хотя и не совсем в манере его письма.
С художником Александром Долиным у нас были сложные отношения. Многие из наших знакомых подозревали между нами легкую неприязнь, только ошибались. Временами неприязнь была сильной. Вот и сейчас, набирая скорость, я был стопроцентно уверен, что Долин не просто так открывает рот. Благословляет, наверное, на дорожку, но только не теми словами, которые мне хотелось услышать, типа: «Ни гвоздя тебе, Костя-друг, ни жезла».
Я выехал из деревни, где Саня Долин свой строил дом, ещё засветло. И ещё посуху. Далеко за полночь под нудным осенним дождем катил уже по Москве, стараясь держаться зелёной волны светофоров, но если не получалось, всегда находилась какая-нибудь иномарка, что пролетала под красный свет впереди меня. После каждой остановки на светофоре в душе появлялось чувство, что я не скорость включаю, а вконец измождённой и вконец уработавшейся на пахоте кляче вновь и вновь сую в зубы железные удила. И в запахе горящего сцепления мне чудился запах предсмертного конского пота.
Гаишный жезл возник ниоткуда.
Я полез в карман за правами, они у меня ещё книжечкой, советские, куда удобно вкладывать деньги, но тут рядом с гаишником возникла большая фигура. Это была действительно большая внушительная фигура – большого серьёзного человека. И он зачем-то попридержал гаишника:
– Спасибо, лейтенант. Я сам.
То, что этот человек сделал, плохо укладывалось в голове. Он взял книжечку моих прав, пустую ещё книжечку, и… вложил в них сто долларов. Прямо вот так взял и вложил.
– Отвезите девушку, куда скажет, – затем сказал он и, обойдя машину спереди, по-хозяйски распахнул пассажирскую дверцу. В машину села девушка, дверца захлопнулась.
Вот так. Вот и всё. Человек с гаишником отошли. Метрах в пяти по ходу движения, в начале боковой улочки стояла машина ГАИ и ещё две столкнувшиеся машины. Одна из них – мерседес того типа, который все почему-то называли «посольским», такой он был тоже большой и солидный.
Не знаю, то ли в силу ста долларов, то ли в силу присутствия девушки или из-за чего-то ещё, но в моём жигуле тотчас же включилась первая скорость, и мне удалось красиво тронуться с места. Увы, это было в последний раз. Во все последующие разы, остановившись на светофоре, я просто пытался отвлечь внимание пассажирки.
– Вам куда?
– Большая Грузинская.
– Большая Грузинская?
– Да.
– Она большая.
– Я знаю.
– Вы там живёте?
– Да.
– Прекрасно. Я тоже. В доме со сберкассой, над зоопарком. Дом-сундук. А вы где?
– Я… ну там рядом. Неважно. Я покажу.
Сидела она очень прямо, даже слишком для своей сутуловатой фигуры, и всё время как будто подавалась телом вперёд. Я подумал, что это, наверное, из-за капюшона плаща.
А мне уже было весело. К тому же я был не настолько воспитанный человек, чтобы тут же не рассмотреть её всю – от тугих, обтянутых лайкрой коленок до шляпы, большой чёрной стильной шляпы, если и женской, то сильно смахивающей на мужскую. Та затеняла её узкий безбровый лоб и глубоко посаженные глаза. Лишь позднее я понял, что и лоб, и глаза нормальные. Просто брови росли по самой кромке глазниц, а от глаз просто возникало ощущение, будто они затянуты плёнкой, тонкой прозрачной пленкой, сродни третьему веку птицы…
Плёнка слетела на пустом ночном перекрестке возле метро «Краснопресненская».
– Куда вы поворачиваете? Большая Грузинская там, нам надо к зоопарку, – показала она налево, когда я повернул направо.
– Там нет левого поворота. А разворот здесь.
– А вы не дальтоник? Вы проехали на красный!
– На жёлтый.
– На красный! Вы!.. – глаза её полоскали по мне сверху вниз и слева направо. – Вы пьяны?!
– Ну нет. Разве что у моего зелёного змия лицо Бенджамина Франклина. Я вас почти привёз.
– Куда вы меня завозите? Мне не сюда! Вернитесь на дорогу, – зыркала она из-под шляпы глазами психованной кинозвезды, пока я заруливал под арку, чтобы въехать к себе во двор.
– Успокойтесь, почти сюда, – успокаивал я её. – Вот мой дом. На сегодня с извозом закончено. Дальше я провожу вас пешком.
Заглушив мотор, я попробовал вытащить ключ зажигания, но тот, зараза, как потом оказалось, он выходил из замка лишь с энной по счёту попытки. Сказать ему всё, что я о нём думал, у меня не было времени, я говорил с девушкой:
– Да вы не волнуйтесь. Хотите, я завтра вас покатаю?
Разумеется, она не дослушала. Она уже убегала.
– Завтра в это же время, – крикнул я вслед. – Ровно в двадцать девять часов девяносто восемь минут по большому грузинскому времени, жду вас на этом месте!
В тот момент я не думал за ней бежать. Я был рад, что эпопея с машиной, хотя бы на время, закончилась, а новая эра ещё не наступила. Когда же, так и не вызволив ключ из замка, я поспешил за её небольшой сутулой фигуркой… да, сутулостью-то меня и резануло, хотя я хорошо понимал, что может сделать с женщиной плащ, если он с таким капюшоном… я ещё не мог знать, что нам предстояло вместе провести ночь и затем полгода.
– Значит, вы мне не верите? – догнал я её на улице, когда она убегала по пустынному тротуару. – Вот вам мои часы. Взгляните сами, сейчас ровно двадцать девять часов девяносто восемь минут. Да стойте же вы, куда вы бежите? Посмотрите хотя бы.
– Отстаньте от меня!
– Я не вру!
Я совал ей под нос часы, она отбивалась рукой и, видимо, злилась. Что ж, от этого белорусского «камертона» я и сам что ни день заряжался злостью: у его электроники наблюдалась стойкая водобоязнь. Стоило даже просто сполоснуть руки, не отстегнув заранее ремешок, как циферблат поначалу гас, а потом начинал мигать самым диким набором цифр, чередуемых, как правило, двумя буквами: «Е» и «Г». Но всё же один характерный момент я заметил: когда наконец на табло устанавливалось стабильное 29:98, это значило, что завтра с утра можно смело ставить точное время и часы опять пойдут как часы. Главное, забыть о гигиене и не попадать под дождь, как сегодня.
– Дайте же мне пройти! – протестовала она, натыкаясь на часы. – Вы с ума сошли! Нет, не надо меня провожать!
– Упаси меня бог провожать вас в такую погоду. Да ещё ночью, – пытался я поддержать беседу.
– Слушайте, вы! – она снова полоснула глазами. Интуитивно я почувствовал, что сейчас она скажет то, после чего уже всё, но спасло проезжающее такси.
– Шеф! Отвези девушку, куда скажет!
Таксист почти в панике ощупал мокрую стодолларовую купюру. Мне оставалось только захлопнуть дверцу. Но такси не проехало и двадцати метров. Зажглись стоп-сигналы, машина вильнула вправо, метнулась налево и замерла у первого же подъезда семиэтажного дома, ровно через три здания от того, где я жил.
Она вышла и быстро взбежала по ступенькам крыльца. Хлопнула наружная дверь. Потом вторая, внутренняя, в тамбуре.
Выезжая обратно на улицу, таксист заметил меня и рванул прочь с визгом шин.
Я ещё стоял и курил, когда вновь раздалось хлопанье дверей, сначала глухое, внутренней, потом позвонче, наружной, и она появилась на крыльце.
Постояла. Пошла к дороге. Увидела на тротуаре меня. Остановилась. Снова пошла и снова остановилась. Мимо подряд пронеслись две машины, одно такси даже сбавило скорость, но она не проголосовала. Достала из сумочки сигареты. Я подошёл, вынул из коробка спичку, но рука дрогнула, и коробок упал в лужу. В зубах у меня ещё тлел бычок.
– Один мой знакомый так боялся подхватить СПИД, что даже не мог прикуривать от чужой сигареты, – глухо проговорил я.
– Я не боюсь, – сказала она и прикурила от бычка.
Глава 2
Клавдий Борисович наконец догадался убрать фотографии и стал засовывать их обратно в чёрный пакет. И ту её фотографию совсем мёртвой, лицо крупно, и ту почти голой, лежащей на какой-то лесной поляне, у самой кромки тающего весеннего снега. При этом он говорил:
– Я сейчас попрошу принести ещё по стаканчику чая. Или, может, присовокупим бутерброд?
Значит, она у них, подумал я. Лежит где-то в морозильной камере. И обязательно этот Y-образный шов от паха до ключиц, наскоро стянутый грубой ниткой…
– Вообще-то я бы поел, – неуверенно проговорил я, продолжая следить, как фотографии исчезают одна за одной. – Чтобы первое и второе, и третье. И горчица.
Этот приём я знал с детства. Меня этому научил отец: если не знаешь, что делать, делай то, что хотелось бы делать меньше всего.
Клавдий снял трубку:
– Таня, мы будем обедать.
Молодая-немолодая женщина, то ли горничная, то ли секретарша, но в белом переднике вкатила сервировочный столик, и вот уже Клавдий пригласил меня пересесть к журнальному столику с двумя креслами.
Суп был щи.
– Как вы меня нашли? – спросил я, проворачивая в них ложку.
– Как нашли? В нашей конторе читают всё, что выходит в стране. Ограничусь словами «в нашей стране».
– А что у вас за контора? КГБ?
– КГБ, как вы знаете, уже нет.
– ФСК? То есть теперь ФСБ?
– Милиция вас устраивает?
– А вас?
– Меня устраивает и милиция. Пока её тоже не переименовали. Впрочем, ладно. Вы уже некоторым образом человек посвященный, – не доев котлету, Клавдий принялся за кисель. – В каждом обществе, Константин, в каждом государстве есть особая служба, как бы это сказать, служба хранения глубокого молчания. Если хотите, так и называйте СХГМ. Ибо есть вещи, обнародование которых может вызвать некоторые нестроения в обществе, спровоцировать нездоровое любопытство, ажиотаж, смуту, шум, хай, ор… Ну, в общем, наша контора…
– Контр-ора.
– Если вам будет угодно. Я бы даже сказал, что мы своего рода кунсткамера. А сам я хранитель музея. И храним мы, как вы уже поняли, молчание. Молчание как таковое. По определению. Молчание собственно. Так что молчать я умею. Возможно, вы скажете, что молчать – это не профессия. Не знаю, не знаю. Хотя, возможно, призвание. Вспомните о наших молчальниках, о греческих исихастах. О Тютчеве, наконец. Мысль изреченная есть ложь. В помощь также Нильс Бор. Его теория дополнительности, где ясность высказывания дополнительна его истинности. Вам, как поэту, возможно, ближе Тютчев, но мне определённо Нильс Бор. Чем яснее мы выражаем мысль, тем дальше она от истины. И наоборот. То есть чем ближе к истине находятся наши высказывания, тем меньше мы их понимаем. Отсюда вывод: всякая истина лежит в невысказывании. Это не равно молчанию, нет. Применительно к вам, поэтам, я бы сказал, что истинный поэт тот, кто не пишет стихов. Хотя он по-прежнему поэт.
– Значит, я не истинный?
– Нет. Вы же не промолчали. Не вытерпели, не выдержали, не устояли перед соблазном об этом всём написать. Хотя бы и под видом поэмы. Так сказать, под прикрытием флёра воображения, вуали поэтической выдумки… – он отнял от губ кисель и жёстко взглянул на меня в упор, – бреда.
У меня было чувство, что он сейчас добавит «сивой кобылы». Я сжался, но сумел сказать:
– Вам видней.
– Нам видней. К сожалению, мы тоже страдаем ограниченным кругозором, но, к счастью, я вышел на вас почти сразу. Не прошло и полгода. Журнал оказался очень кстати. В принципе, я мог бы до пенсии разрабатывать эту тему… Ой, а что мы так плохо едим? Учтите, теперь до ужина.
– До ужина? Вы хотите сказать…
– Я хочу сказать, не напечатай так скоро вы это ваше… признание? Вы согласны, ваша поэма признание? Добровольное признание.
Я промолчал.
– Только странно, что нет названия, – продолжал он. – Три звёздочки вместо заголовка. Кстати, я выяснил, что в полиграфии эти три звёздочки называются «астеризм». Состоят из трёх астериксов. Ну и как вам такой астеризм?
Я молчал. Он выудил двумя пальцами из вазы салфетку, начал вытирать губы. Мне послышался даже скрип – с такой силой он проводил по губам этой рыхлой белой бумажкой.
– Они просто звёздочки, – наконец сказал я. – Те же звёзды, только маленькие.
– Прошу прощения?
– Полиграфия не причём.
– В самом деле? Ну как скажете. Но пора и продолжить.
Он попросил меня вернуться на стул перед его канцелярским столом, занял своё место, предложил сигарету.
За окном смеркалось. В тот момент, когда Клавдий включил верхний свет, жалюзи бесшумно закрылись. Стало отчаянно неуютно. И тут же подумалось, а сколько тут камер наблюдения? Наверное, пронзают всё помещение не хуже, чем душ Шарко. Но сколько бы таких ни было, к ним можно было прибавить ещё пронзительных две. Глаза Клавдия.
– Вы что-то готовы мне сообщить? – неожиданно спросил он.
– Я? Нет. Я подумал…
– О чём вы подумали?
– Я подумал про астеризм, – неожиданно соврал я.
– О чём именно?
– Ну, о… знаете, у Вампилова есть короткая пьеса про «метранпаж». Я подумал, – продолжал я врать дальше, – что можно было бы написать пьесу. Про три звёздочки. Которые, например, указывают на классность вашей гостиницы. Или на ваше звание. Вы случайно не старший прапорщик?
Секунду он смотрел ошарашенно. Потом открыл рот, словно хотел захохотать, но вздохнул и закрыл. Сделал ртом скобку вверх-скобку вниз, полез в левую тумбу стола и достал неполную бутылку коньяка. Оттуда же и две стопочки. Бутылку он повернул этикеткой ко мне. На ней было пять армянских звёзд. Он закрыл пальцем две. И только тут расхохотался. Даже не знаю, что сказать. Смотреть на его хохот как-то не хотелось.
Коньяк оказался приличным. Неплохо пришлась и поломанная плитка шоколада. За коньяком он мне и ответил. Блеснул эрудицией, так сказать.
– Представим, что мы с вами, Константин, находимся в садах Академии, гуляем по аллеям вместе с Платоном. Или в Ликее с Аристотелем. Перипатетики, так сказать. Герменевтики. У нас есть задача. Поэма. Мы должны её прочитать. Типа понять её смысл, проникнуть в суть. Кстати, вы читали «Бледное пламя» Набокова. Нет? Я вам принесу. Личный экземпляр. Купил в Лондоне. Вы ведь читаете на английском? Хорошо. Что ж, тогда мы сейчас…
– Эти три звездочки не вместо названия, – сказал я. – Они и есть название. Три звезды – это пояс Ориона. Пояс Ориона в созвездии Ориона. Я даже просил редактора, чтобы он разметил их уступом вверх.
– И?
– Он сказал заумь.
– Интересно. Ну вот видите, какие мы молодцы. Ещё и не подошли к тексту, а уже что-то прояснилось. Погодите.
Надев очки, он застучал двумя пальцами по клавиатуре, роняя на неё пепел сигареты и чертыхаясь, когда попадал не в ту букву. Потом прочитал напечатанное, вновь чертыхнулся и исправил ошибку. Затем резко вскинул то, что Бог повелел Адаму именовать подбородком, и, сощурившись, взглянул на меня из-под век:
– Откройте журнал, Константин. Слова «Константин Смирнов» набраны другой гарнитурой. Тоже чья-то вина?
– Нет. Это псевдоним.
Ногтем большого пальца он поправил на переносице очки и прокатился ими по трамплинчику носа.
Мы помолчали. Наконец он достал из стола ещё одну канцелярскую папку и развязал тесёмки:
– Ваше свидетельство о рождении?
Действительно, моё свидетельство о рождении, уже почти развалившееся по сгибу.
– Ваш паспорт?
Мой паспорт.
– Где же тут псевдоним?
– Мой прапрадед был греком из города Смирны. Смирнов и есть псевдоним. Просто мой псевдоним совпадает с моей фамилией.
Он сильно дунул в клавиатуру компьютера, выдувая из букв сигаретный пепел, и снова что-то набрал. Потом показал мне. Я вытянул шею. Начало выглядело теперь так:
Константин СМИРНОВ ***Она являлась…………***
В ту ночь она ушла, едва открылось метро.
Я машинально поднял из пепельницы её окурок. Оставалось на две-три затяжки. Понюхал – с ментолом. Обгоревший кончик был твёрд, но само сигаретное тело мягкое и скрипучее. Отпечаток помады. Губы мои сами собой разомкнулись. Фетишист, только и успел я подумать, как перед носом вспыхнула зажигалка, и я медленно пропустил через лёгкие весь тот дым, который она оставила мне. Фильтр я долго не знал куда деть. Выбросить вместе с другими окурками в мусорное ведро не поднималась рука.
Кактус попался на глаза невзначай. Единственный цветок, оставшийся от жены. Да и то потому, что не цветок вовсе. Палец мой едва не сломался, покуда в земле не просверлилось достаточное отверстие. Я сунул туда окурок и присыпал землей.
В зоопарке было темно, лишь фонари выхватывали кое-какие вольеры. Где-то там сейчас гулял кот.
От окна несло холодом. По кривому обводу улицы, огибающему дом, проскакивали невидимые автомобили. Простонал самый первый троллейбус.
Я не мог её провожать. Она пришла только с этим условием – не удерживать, не провожать, ни о чём не спрашивать.
***
Клавдий пытал меня до самого позднего вечера. Потом снял очки, закрыл компьютер и убрал его стол. Туда же убрал все папки. Туда же, помедлив, кинул и журнал. Всем видом он показывал, что уходит. Поднялся, причесал волосы, сунул в карман сигареты и зажигалку, вытряхнул в пластиковую урну пепельницу. Я продолжал сидеть на стуле прямо перед столом. Он подошёл, остановился надо мной и посмотрел сверху вниз.
– До завтра, Константин.
– До свидания, Клавдий…
Он замер, дожидаясь «Борисовича», а потом хмыкнул:
– Завтра вы скажете, что мы земляки, потому что у нас у обоих римские имена.
Комната, куда он предложил мне вернуться, уже приветственно распахивала свою гладкую железную дверь.
Оставшись один, я включил телевизор и сел на кровать. Сидел долго. Может быть, слишком долго, пока наконец не понял, что плохо переношу некоторые вещи. Это когда на тебя смотрят-смотрят, но ничего при этом не говорят. В комнате было несколько камер, их присутствие даже не пытались скрыть, и в этом, вероятно, был глубокий смысл, только не для меня. Чувство, что за тобой постоянно следят, стало преследовать меня даже в ванной. Там оно просто достигло пика.
Весь день я словно спускался на тяжёлом грузовике с крутого горного перевала, и вдруг педаль тормоза провалилась. Я сдёрнул со стены шланг, открыл оба крана на полную мощность и, как был в одежде, начал поливать водой и стены, и потолок, пытаясь залить, ослепить невидимую видеокамеру. Кажется, я что-то кричал. Но скоро вымок, охрип, продрог, поскольку напор холодной воды был намного сильнее горячей, выскочил вон, сбросил на пол одежду, залез под одеяло, постепенно согрелся и уснул.
Проснулся я оттого, что чей-то противный голос тёр, словно рашпилем по мозгам: телевизор продолжал работать. Он был старый и не умел выключаться сам. В душевой по-прежнему гудела вода. Вся одежда валялась по полу вразброс. Она, кажется, уже подсыхала. В дверь стучали.
В дверь заглядывала какая-то женщина. Я не сразу сообразил, что это, должно быть, та, вчерашняя, молодая-немолодая, секретарша-горничная или кто там?
– Доброе утро! Вы будете завтракать? Тогда вставайте.