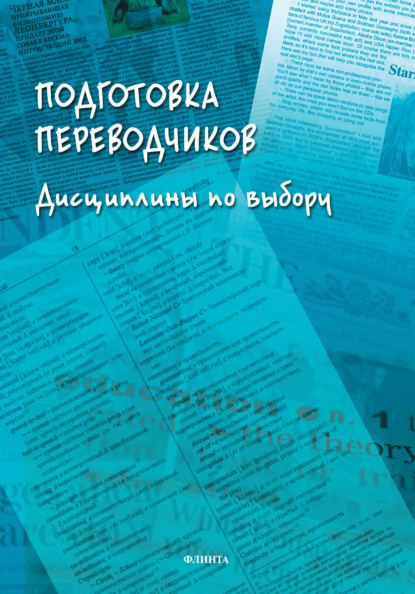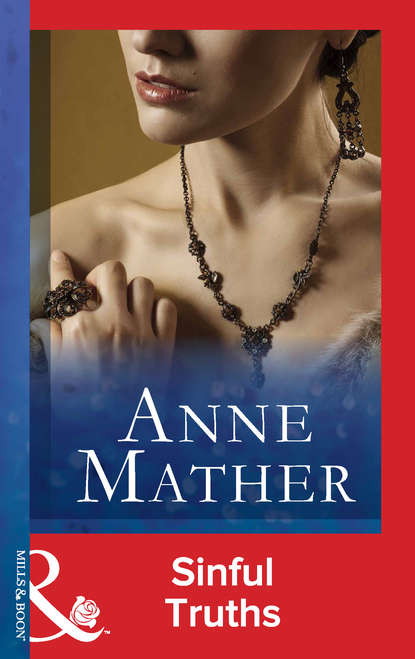- -
- 100%
- +
Верховный гмур, мгновенно считав все переживания по сморщенному носу, поторопился её успокоить:
– Специально к твоему появлению мы изготовили партию «наглазников целомудрия», – он протянул ей очки, похожие на авиаторские гогглы, с плоскими чёрными камнями вместо стёкол.
– Почти как у пилотов дирижаблей, – заметила Лалика, поднося очки к глазам для примерки.
Благодаря кожаным накладкам, они плотно прилегали к лицу, не оставляя ни малейшего просвета для подглядывания. А линзы из обсидиана преломляли телесные оттенки так, что кожа казалась чёрной до слепоты: сплошная темнота, как в ведьмином колодце.
– Наша прошлая бельфелина говорила…
Он запнулся о всеобщие тягостные всхлипы и тоже вздохнул с бурливым прононсом – эта потеря всё ещё приносила гмурам немало боли, хоть она и притупилась в вихре забот о новой подопечной. Немного посопев, он заговорил снова:
– Наша прошлая бельфелина говорила, что люди не ходят с голыми задницами, потому что на них ордена не прицепишь.
Линзы превратили в копчёных трубочистов не только гмуров. Чёрными стали все телесные тона: розовое мыло, бежевые полотенца, персиковые свечи. Даже чаша из селенита пошла изнутри тёмными кракелюрами, и кремовое облако в мансардном окошке обернулось грозовым.
– Конечно, ей, как и всем, приходилось носить платья, но предрассудков в её гардеробе не было. На склоне лет она была столь же прекрасна, сколь и мудра. Потому в доме никто «наглазники целомудрия» не носил. Впрочем, ты не она. И не обязана ею быть.
– А у меня и не получится, – бросила Лалика с лёгкой ревнивой укоризной. – Фигурой я не вышла, ну а мудрость… – она пожала костлявым плечиком, – как говорит ваша нынешняя бельфелина: рано пришедшая мудрость как дождь на фейерверк.
Сняв очки, она ещё несколько минут видела повсюду иллюзорные излишки розового и с удивлением трогала предметы, миг назад казавшиеся бездонной пустотой. От эвкалиптового дыма и мыльных пузырей глаза немного слезились и ванная колыхалась желатиновым миражом.
Гмуры одновременно надели наглазники и тут же, вторя шалости смешливого гмура, принялись наперебой изображать полную слепоту: вытянули перед собой руки и беспомощно распахнули рты. Если бы Лалика внимательнее читала книги про гмуров, то знала, насколько хитроумно устроено их зрение. Гмуриный глаз, за миллионы лет привыкший к мраку подземных лабиринтов, без малейшего труда восполняет недостающие оттенки и возвращает привычный баланс цветов. Чёрный обсидиан – лишь для человеческого взгляда непроглядная тьма. Для гмуриного же он прозрачен, как воздух.
Хотя гмуры на многое были готовы ради своей королевы сердца, признать наготу чем-то постыдным для них было немыслимо. При любых погодных условиях и светских обстоятельствах они предпочитали всяким сюртукам и фракам естественную наготу. Однако вынуждать бельфелину носить очки с обсидианом они находили негуманным и в её присутствии смиренно натягивали штаны.
Что-то с грохотом прокатилось по трубкам, и вместе с плюющимся потоком воды в ванну высыпалось несколько горячих алых камушков. Похожие на брызги свежесваренного компота, они обжигали кожу, и приходилось притапливать ладонь, чтобы вытерпеть их жар. Эти подземные дары – чуть вытянутые, с лакированными боками – очевидно, представляли для гмуров особую ценность. В ванной имелась отдельная ёмкость для этого адского барбариса, но чем он был так важен и для какого рукоделия предназначался, было непонятно. Снова гмуры от перевозбуждения тараторили на своём, только и разобрать, что «буски» да «бородень». «Многовато я не знаю», – задумалась Лалика и твёрдо решила выделять перед сном больше времени на зубрёжку гмуриного вокабуляра.
В ходе заварушки возле Обители беспорочных дев сливовыми брызгами окатило почти всех, но больше всего досталось рукам Лалики. Те из гмуров, кто не был задействован в щепетильной части банного ритуала и не имел возможности смутить Лалику прямым взглядом, обходились лишь лошадиными шорами, изготовленными в уменьшенном размере. Они тёрли её кисти мочалками из сушёных камелий, мазали отбеливающей восковой эмульсией, отмачивали в каолиновых сливках – безрезультатно. «Ой, ну и ладно! – ободряла их Лалика. – Буду теперь всегда ходить в варежках». В порыве отчаяния гмуры целовали её лиловые ладошки и повторяли процедуру с самого начала.
От монотонного бульканья и гмуриного вибрато её совсем разморило. Жаркая невесомость навевала мысли о полётах: «Уметь бы так без помощи воды и пузырей! Распластать руки по ветру, пнуть легонько землю мысками и заскользить, утекая бестелесно, без усилий и цели: над звёздами ёлок, над черепичными шахматами, над бескрайней гладью Луногара…»
– Эй-эй! Держи нос над водой! – побросав полотенца, возопили гмуры.
– Слушайте, – вынырнула она, водрузив локти на край ванны. – А давайте соорудим мне летательный костюм?! С крыльями, шасси и мотором. Летать на гусях я ни за что не соглашусь. Они на меня крысятся и ужасно больно щиплются. Да и на самом крупном я не доберусь дальше дворовой ограды.
Гмуры отложили щётки и серьёзно на неё уставились, затем переглянулись и молча приступили к обтиранию пушистыми полотенцами. В банных трико гмуры напоминали палеонтологическую реконструкцию лебедей, выполненную не самым льстивым художником. Только вместо лебединых шей – озимые дыни, нахлобученные прямо на плечи. Руки и ноги одинаковой длины и всегда согнуты, потому в покое гмуры казались скрюченными и компактными, словно складные. Но стоило им только ввязаться в драку или пуститься в пляс, как гмуриная натура разворачивалась в полной красе.
– Ещё нужна будет взлётная полоса и по мелочи: шлем, топливо, – не замечая их заботливого беспокойства, рассуждала она.
– Мало тебе синих рук?
– Ой, да бросьте! – смешливо скорчилась она, делая вид, что это сущая ерунда, но на ладони всё же украдкой поглядела.
Мало-помалу гмуры начинали догадываться, чем были вызваны воспитательные строгости в её родном доме.
– Лалика, милая! У гравитации нет любимчиков. Может, ты выберешь занятие не столь коварное? – упрашивал верховный гмур, ещё не зная, что её новый выбор заставит их глотать «психические» капли и приведёт к локальной эвакуации.
С гмурами она спорила до волдырей на языке. Знала, что с этими трепетно любящими существами можно позволить себе любые капризы. Они безоговорочно принимали каждую её причуду, потакали и лелеяли, а она всё никак не могла наиграться в эту восхитительную свободу – самую притягательную из всех её форм. Между тем ей хватало благоразумия в конце концов доверяться их вековому опыту, ведь ни разу они не отмахнулись от неё пресловутым «вырастешь – поймёшь».
– И всё же?!
– И всё же.
Тут их перебил резкий, назойливый звук из-за дверей: точь-в-точь шмель, застрявший в пионе, – то же шипение, ворчание и гул, только в сто крат громче. Гмуриные личики вытянулись от изумления так сильно, что разгладились заушные морщинки, и, навострив свои фенековые уши, они повскакивали, побросали массажные валики и, едва не расколов хрустальную шампунницу, сломя голову ринулись на шум.
– Опять! Оно!! – горланили набегу, спотыкаясь о зубатых гусей в коридоре. А оно зловеще призывало:
– Меныш… жж… фелин… жж… хитим…
Одеваться и сушить волосы Лалике пришлось уже самой, зато в блаженной тишине, что случалась нечасто. В незакрытую дверь заглянула взъерошенная после скачек Мута, обнюхала все лужицы, полакала голубой водички из ванны.
– Что там у них за переполох? – спросила Лалика.
В ответ Мута поглядела умно – головой набок. Наверно, что-то серьёзное.
Глава третья
После традиционного вечернего десерта – нуги из терпких гмуриных корнеплодов – все жители стекались на верхний этаж, в Домашний Театр. Сытый гмур куда более благосклонный слушатель, чем гмур с желудочной руладой. На закате Лалика рассказывала свои чарующие сказки, сотканные из сновидений, вымыслов и грёз, но гмуры внимали им не как колыбельным перед сном, ведь подземный народ, миллионы лет живший вдали от солнечного света, не ведал привычного людям чередования дня и ночи. Даже теперь, в период их частично наземной жизни, солнце оказывало на них столь слабое влияние, что не в силах было нарушить ритмы, отшлифованные веками.
У длинноспящих гмуров сутки могли длиться до тридцати часов, из которых десять они проводили во сне. У краткоспящих – примерно пять, из которых на сон уходил лишь один. Они спали, как коты, по несколько раз за земные сутки, и с каждым пробуждением встречали свой новый день.
Вскоре после переезда в особняк на Бесследном бульваре Лалика тоже овладела мастерством «естественного сна», как это называли гмуриные физиологи. Её сутки длились двадцать восемь часов, всё больше смещаясь относительно земных, и потому утро могло начаться в полночь, а вечер – средь бела дня. Она больше не мучилась бессонницей, потому что ложилась, когда действительно хотела спать, и не страдала от пробуждения, как прежде, когда вставать приходилось с рассветом. Во сколько бы для неё ни наступало утро, в доме всегда находилось множество бодрствующих гмуров, и ещё ни разу она не осталась без горячего завтрака с люпиновым чаем.
На вопрос, почему не всякое человеческое тело привычно к земному суточному ритму, у гмуров был уверенный ответ: жизнь занесена на Землю из далёких тёмных далей, и не так-то просто забыть свет родной звезды. В этих словах звучала невольная ирония, ведь Лалика всё ещё машинально жила по укладу покинутого родного дома: то путала двери, то ждала нагоняй за грязную чашку, то сердито бубнила перед зеркалом голосом Куры-матери.
– Любопытно, а я с какой планеты? – задумалась Лалика, высматривая в окне самую лучистую, с туманным венцом и газовым шлейфом.
– Легко выяснить! – пружиной взвился тормошливый гмур, и уже через мгновение его пятки дробно стучали по ступеням, ведущим в библиотеку.
– Из названия этой планеты можно сделать твоё второе, защитное имя, – смекнул гмур с чутким носом и припустился следом.
И пока они копались в библиотечной пыли, разыскивая планету с двадцативосьмичасовыми сутками, она уже успела вообразить себя обитательницей сапфирового гиганта с многолунным горизонтом и хоровыми гейзерами.
Строительство Домашнего Театра началось в тот же день, когда Лалика о нём заикнулась. Опоры соорудили из фульгуритов – ветвистых стеклянных трубок, выкопанных на заднем дворе после страшного удара молнии. На них накинули плюшевый занавес с волнистыми сборками у пола и бисерной бахромой по краям – чтобы гмуры могли теребить её дрожащими пальчиками в самые драматичные моменты сказочных чтений. Из душистого кедра сколотили сцену, водрузили на неё трон-гнездо с перьевой мозаикой, а внизу полукругом расставили шампиньоновые пуфики.
Её тягучие, медовые, дурманящие и непредсказуемые сказки, без сюжетных тисков и в вольной словесной упаковке овладевали гмуриным воображением без остатка. В них не было ни завязок, ни развязок, ни арок, ни архетипов – история текла, как сама жизнь, и потому могла оборваться в любой момент.
Сетчатый подвес с шарами-подсвечниками распускал по всему залу соцветия бликов, и возмущённая темнота подыгрывала рассказчице фигурными тенями, то щекоча гмуров испугом, то до икоты смеша. Иногда Театр не работал: закат заставал Лалику спящей, и тогда гмуры отчаянно тосковали и с мятежной надеждой топтались под её дверьми.
Прошли те времена, когда её историями наслаждались только патиссоны на тётушкиной грядке и старый вязаный медвежонок – теперь ей внимала самая что ни на есть почтенная публика. Восседая важной птичкой на тронной верхотуре, Лалика с запалом вещала обо всём, что видела во сне, или что в тот миг попадалось на глаза. Так, она могла часами сочинять чудесные небылицы про древнее зимнее божество Морозеня с длинной седой бородищей или про субсолнце из ледяной пыли за окном, похожее на призрак бесследно пропавшего дитя.
– Смотрите-ка, – и все поворачивались к лучезадому гмуру, на которого указывала её самодельная волшебная палочка, – у него начала расти борода, как у зимнего божества!
Они оценивающе щупали седую поросль и одобрительно соглашались.
А самой любимой была сказка-воспоминание про Рубирубино. Он редко посещал вечерние собрания, забредая в Театр лишь по случайности, и сидел среди гмуров, как орхидея в репьях – идеальный до свечения. Лалика еле дышала, ни разу за вечер не подняв ресниц, и её истории были сбивчивыми и тихими. Она всё ещё с трудом верила, что он вовсе не внук граммофонщика, а ухищрённая проделка гмуров – безупречно прекрасная механическая кукла.
– В тот день, – заводила она, и гмуры уже знали, что сказка будет про Него, – в центре города установили главную ёлку. Представьте, шишки обсусалены золотом, румяные свиристели рассажены по веткам, хвоя усыпана изморозевой пыльцой и озарена тысячами взволнованных свечей! А неподалёку раскинулся шатёрный базар со всеми сортами зимних лакомств и мишурных безделиц.
Мы с Мутой наелись масляных коврижек с повидлом, сделали по глотку глинтвейна из раздаточного половника, пока никто не видел, и отправились в Граммофонную лавку – вдруг произойдёт чудо и там окажется Рубирубино.
Гмуры сочувственно завздыхали, зная наперёд, что его там не будет. Лалика перевела дух и продолжила:
– Зайти внутрь я не решилась. Просто смотрела сквозь стекло, как над прилавками дрожат серебристые гирлянды, и слушала колдовские звуки новогодних пластинок. А когда Мута совсем продрогла и попросилась домой, я с ужасом поняла, что примёрзла носом к витрине и кто-то с обратной стороны стекла отогревает его своим дыханием.
– Это был я, – с потаённой гордостью прокомментировал граммофонщик, привставая с пуфика и по-беличьи скромно прижимая руки к груди.
Погружаясь в эти воспоминания, она могла ненадолго вновь поверить, что Рубирубино живой и самый что ни на есть настоящий. Но, опомнившись, леденела изнутри и долго сидела неподвижно. Целый год гмуры мастерили игрушку для своей драгоценной бельфелины, чтобы осчастливить дитя, грезящее о первой любви. Теперь же, низвергнутый с пьедестала возлюбленного и разжалованный до ходячего проигрывателя пластинок, Рубирубино стал укором её наивности, и она отчаянно спешила его забыть. Он открывал ей двери, носил на базаре корзинку с покупками, защищал от метели меховым зонтом и подавал в комнату полдник. А она принимала его ухаживания, робея по привычке, затухающей медленнее, чем сама любовь.
Но когда поблизости никого не было, а Рубирубино вдруг замирал на смене хода балансового механизма, она подкрадывалась к нему на цыпочках, вплотную прижималась ухом и затаённо слушала, как трепещет золотая слепушонка в его груди. Крохотный животворный моторчик, шедевр гмуриной инженерной мысли, дарил ему спонтанность жестов и лёгкость взгляда, грацию реверансов и плавность походки. Без золотой слепушонки Рубирубино был всего лишь грудой шестерёнок в шёлковом камзоле.
– А вы знали, что Клерлюм в нашем городе? – оживилась Лалика.
Гмуры не знали. Или делали вид, что не знают.
Сползая с трона и не замечая их хитрецу, она принялась объяснять:
– Маэстро Клерлюм – величайший пианист столетия! Как можно не знать? В городе не осталось ни одной стены без афиши с его лицом. Если мне нельзя сделать летательный костюм, то можно я хотя бы возьму у него несколько уроков фортепьяно?
– Фу-фу-фу, – с жаром зафуфукали гмуры. И так как их рты были заняты фуфуканьем, дальше объясняться им пришлось на пальцах.
Насколько она разобрала, ограниченный размах их пальцев был непреодолимым препятствием для игры на фортепьяно, да и в целом, гмуры этот инструмент не жаловали: не выносили его звуков, не терпели неуклюжей громоздкости и уж совершенно точно не уважали пианистов. Ни одному гмуру не покорилась эта шумная, сварливая громада, и ни разу она не была удостоена упоминания в богатой гмуриной культуре.
– У меня-то пальцы не короткие! – умоляла Лалика, лихо выписывая пассажи по невидимым клавишам.
Ситуацию осложняло и то, что чужакам вход в особняк на Бесследном бульваре был категорически запрещён. А тайный статус беглой Лалики вдобавок усугублял и без того непростое положение.
– Листовки с твоим лицом тоже на каждой стене, – причитали гмуры. – Тебя узнает любой постовой, кондуктор или впечатлительная дама, начитавшаяся газет!
– Но садовнику же можно здесь быть и видеть меня.
Ему единственному из людей были открыты двери гмуриного дома.
– О, поверь, нашего садовника интересует только сад. А ты, наша дорогая, отнюдь не махровый георгин.
– Но мы завяжем маэстро Клерлюму глаза и хорошо заплатим! – разошлась будущая пианистка.
Она пугающе широко расставляла пальцы и напирала с таким огненным запалом, что разбуженная и сбитая с толку Мута примчалась ей на выручку из другой части дома – спасать от драки или беды посерьёзнее.
Ни закатывание глаз, ни назидательное ноздревое гудение – ничто гмурам в аргументации не помогло. В итоге им пришлось согласиться на уроки с Клерлюмом и дать письменную клятву на краешке салфетки с тремя ажурными подписями и спонтанной печатью из остатков нуги.
В ожидании занятий с маэстро Клерлюмом Лалика целую ночь не могла сомкнуть глаз. Всё тревожилась: найдётся ли у него окошко в гастрольном туре, смогут ли гмуры заманить его на Бесследный бульвар, успеет ли прибыть концертный рояль, заказанный из столицы по каталогу, а главное, что ей делать, если её пальцы до октавы всё-таки не дотягиваются? Ведь почём ей знать – рояля она в жизни не видела.
Глава четвёртая
В доме к моменту пробуждения бельфелины уже стоял подготовительный гвалт. Гмуры заварили её любимый люпиновый чай, детский напиток, а себе – посерьёзнее, глиняное какао. Рубирубино поставили новую пластинку: свежайшие новости и сплетни гмуриного мира, собранные по городским закоулкам и ранжированные по степени правдоподобности и важности. Перебивая сладкозвучное выступление Рубирубино, из внутреннего дворика доносился скрежет лопаты садовника.
– Зима грызёт сухарики, – выдал смешливый гмур, и Лалика от смеха стукнулась зубами о фарфоровый край чашки.
– Утренняя почта, – невозмутимо продолжал Рубирубино. – «Достопочтенной бельфелине Лалике.
Его Сиятельство герцог Шпацшиканиирен и Её Сиятельство герцогиня Шпацшиканиирен, исполненные благоговения, имеют честь и удовольствие пригласить Вас в Гранд-Театр на предстоящую бурлеттину «Рассыльный Зла».»
Выдержав увесистую паузу, необходимую для переключения на пластинку со справочными сведениями, Рубирубино внёс ремарку:
– Бурлеттина «Рассыльный Зла» является непревзойденным образцом сказочной документалистики, созданным в лучших традициях гмуриного сценического искусства. В главной роли – украшение сцены, блистательная и неподражаемая Дива Сулемани.
– Дива Сулемани… Дива Сулемани, – эхом пронеслось по кухне: её имя гмуры смаковали, как лесорубы в харчевне смакуют вяленые рёбрышки. А Рубирубино продолжил, с щелчком переключив пластинку обратно на почтовую секцию:
– «Позвольте испросить у Вас милостивого согласия удостоить наш скромный круг Вашим присутствием. Действо состоится в наступающий декабрьский четверг, с началом в восьмом вечернем часу. С искренним почтением и предвкушением встречи, герцог и герцогиня Шпацшиканиирен».
– Вторник, среда, четверг, – на пальцах высчитала Лалика, восхищённая до немоты, а потом пытливо уставилась на гмуров, угадывая вектор их намерений. Судя по мечтательным личикам, поход в Гранд-Театр был делом решённым. Что угодно, лишь бы Лалика не вспоминала о фортепьяно.
– Сегодня на Пачули-Базаре, – заиграла новостная секция пластинки, – состоится аукцион диковин и редкостей…
– Мне срочно нужны диковины и редкости, – деловито решила Лалика, вскакивая из-за стола. – И новая театральная сумочка. И лорнет. И шёлковые перчатки, а то руки всё ещё со сливовым отливом, – тараторила она, сама поражаясь тому, как легко у неё вырываются желания, о которых дома она и помыслить не смела. Коржик с отрубями и тот приходилось просить с оглядкой на тёткины упрёки.
Всего пару дней Лалика не могла привыкнуть к тому, что стала баснословно богата. А на третий освоилась настолько, что купила маскарадное платье с витрины Королевского салона мод и трёхъярусный ромовый эклер. Золотые, серебряные, медные монетки-пупели, а также пупели из незнакомых цветных металлов были разбросаны по всему дому, как маргаритки на майском лугу. Их можно было собирать в подол или набивать ими карманы, пока не отвиснут от тяжести, а потом тратить без оглядки на всё, что взбредёт в голову.
Польза от денег была, в основном, в человеческих магазинах, а в гмуриных все сразу узнавали бельфелину и частенько рады были отдать ей даром что угодно и себя в придачу. И хоть она сказочно разбогатела и широко прославилась, всё равно ни чуточки не зазналась и по-прежнему со всеми здоровалась и прощалась, хотя, по её мнению, теперь не всякий это заслуживал.
Стояло идеальное утро для похода на базар: синее небо на снегу, мороз не колючий, чуть ершистый, и ни одна льдинка на лужах не тронута. От солнца приходилось щуриться, и полпути шли вслепую – досыпали то, чего не добрали в постели. Много болтали о герцоге: «да, он гмур», «нет, не сноб», «ну ты что, конечно, понравишься!» А ещё рисовали все виды и формы усов на листовках об исчезновении Лалики. Случай был беспрецедентный, ведь раньше в городе детишки бесследно не исчезали, и потому за сведения о пропавшей назначили немалый куш и от полосок с номером сыскного управления остались одни обрывки.
Впереди нёсся гмур-чертыхун, выстраивая оптимальный маршрут и поругивая проносящиеся мимо повозки. За ним кряхтел тормошливый гмур с вместительной корзиной на одном колесе, способной выдержать дубовый жбан пузереля. Справа от Лалики семенил гмур в гагачьей шапочке: вёл её под руку больше из желания прикоснуться, чем ради равновесия. Замыкал процессию Рубирубино с небольшой плетёнкой для ценных и хрупких покупок – вдруг Лалика отыщет на развалах статуэтку мифической Сурозлеи из чёрного хрусталя или ломкие бумажные фонарики для новогодней ёлки. К сезону гололёда ему для повышенной устойчивости и проходимости заменили коленные шарниры, и при малейшей угрозе падения вся компания инстинктивно вцеплялась в его пальто.
Теперь Лалика, конечно, знала, что гмуриные улицы повсюду: стоило лишь пересечь двор наискосок, свернуть в двоящуюся арку или проскользнуть в тайный лаз между лестничными пролётами. Раньше она бывала на улице Рыбице сотни раз, но не догадывалась, что за неприметным голубым домиком с невинно вскинутым козырьком простирался многоуровневый Пачули-Базар: с тоннелями-загогулинами, фрактальными аркадами, подземными и заоблачными павильонами и немыслимой толчеёй!
По приближении к знакомой арке, где Лалика всегда потчевала бродячих мяукающих мздоимцев рыбными гостинцами, она вдруг замедлилась, растерянно озираясь и кружась на месте. Внутри неё поднимались волны озноба и жара, и она не понимала, холодно ей или жарко. Она не узнавала арку, гипсовые маскароны на фасаде, кривую липу, простоявшую здесь целый век, и, что поразительнее всего, даже снег казался чем-то совершенно непонятным. Сейчас она могла поклясться, что ничего из того, что её окружало, она не видела ни разу в жизни.
– У меня, наверно, эпилепсия, – прошептала она, хватаясь за виски и энергично вживаясь в приступ.
– Это у тебя разыгралась ипохондрия, – успокаивающим тоном диагностировал гмур в гагачьей шапочке, – следствие глубоко неверной воспитательной стратегии в твоём родном доме.
– Похоже на жамевю. Я читала про это в психиатрическом справочнике моего прапрадеда. Это когда всё знакомое незнакомо. Как значение слова, которое повторил много раз: арка, арка, арка, арка…
– Мы поняли. Ну жамевю-то ты узнала, – бодро констатировал тормошливый гмур.
И не успел он договорить, а она уже снова узнавала и эти улицы, и фонари, и урны, и чуточку больше того, что видела до сих пор.
– Ходит байка, – рассказал чертыхун, – что как-то раз один смельчак не сделал на Пачули-Базаре ни единой покупки и даром ни кизилинки не взял. Шутка ли – такое умерщвление желаний! Любой врач заподозрил бы хворь по своей специальности. Так вот на его могиле и написали: «Равнодушие страшнее безденежья».
Ни один рынок не мог сравниться с Пачули-Базаром, даже стихийный развал кладоискателей или распродажа на пиратском судне. Гмуриные реалии, с которыми Лалика едва начала свыкаться, поразили её с новой силой: и без жамевю голова пошла бы кругом. Схожее чувство она испытывала в первые дни на Бесследном бульваре, когда, заворожённая, бродила по ракушечным изгибам дома, с опаской трогая незнакомые фактуры невообразимых вещей.
– Яды-мармелады! – загорланил продавец чёрных бархатных шайбочек, безуспешно предлагая прохожим пробные образцы. – На любой жизненный случай: от супружеской неверности до быстрого обогащения!