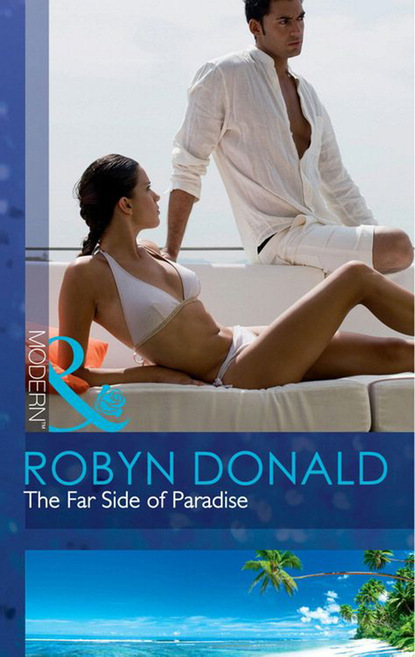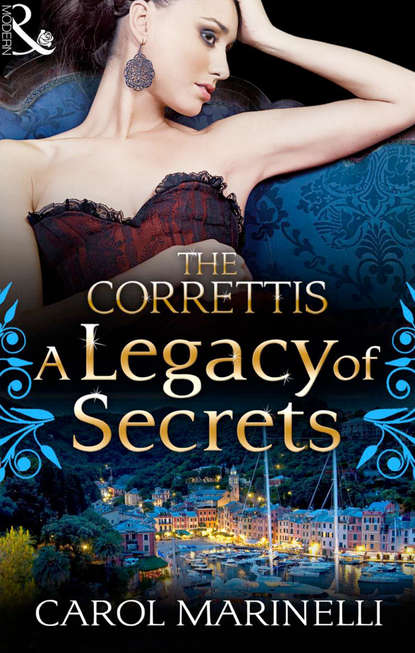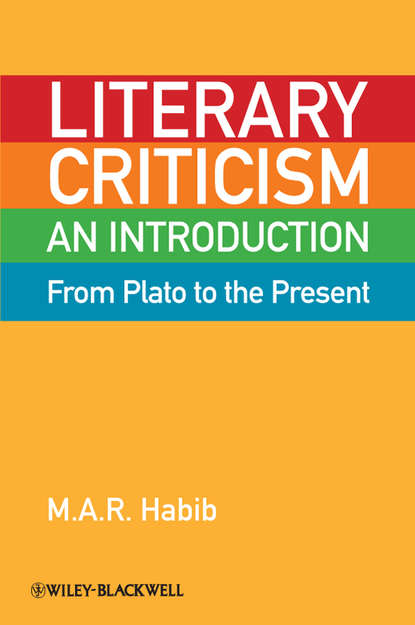- -
- 100%
- +
– С пылу с жару! Тушканчиковые шпикачки! – вливался в гомон другой бойкий голос. – Надеваются на пальцы!
– Молодильный крем! Пощиплет да отпустит! – голосила сморщенная старушка с бидоном молоковатой слизи.
Гмур-чертыхун макнул палец в бидон, дегустируя продукт, издал категоричное: «Бэ» и помчался дальше вдоль торговых рядов.
– На сытый желудок и совесть просыпается, – выкрикнул он и умял краденый расстегай.
– Простите, – робко извинялась за него Лалика, оплачивая съеденное, пока чертыхун на другом прилавке вгрызался в тугую кожицу джемовой груши, добираясь до её жидкого нутра и сразу переходя к следующей.
– С длинным носом – всё без спроса! – лаконично объяснял он свои проделки и на всякое возражение скалился и по-кошачьи шипел. Мало у кого на гмурином базаре не было длинного носа, чтобы эта присказка служила маломальским оправданием. Однако наглость он отрастил побольше, чем у гмура-сделочника, торгующего недвижимостью, как конфетами на развес.
– Два дома по цене одного! – прямо в ухо Лалике заорал он, выдёргивая из её рук кошелёчек, чтобы подсчитать, сколько у неё при себе монет.
Он безошибочно угадал в ней богачку и потому никак не отставал в надежде сбыть явную рухлядь:
– Это же лучшая сделка столетия! Оба дома – редчайшие образцы человеческой архитектуры. Крыши почти без изъянов времени и увенчаны гнёздами горлиц. В собственном саду имеется рукомойник из подлинного серебра. И вся эта размеренная роскошь пронизана безмолвным дыханием провинциальной поэтики, – выпалил он до тошноты зазубренную речь из рекламного проспекта.
– У меня уже есть дом, – протестовала она вежливо, но ему не терпелось поскорее скрепить контракт лисьей слюной и убраться в место потише, где подают горячий чай с пустырником и где после обеда можно ещё и вздремнуть. Из-под жилетки он извлёк скрученный в трубочку контракт и жуликовато огляделся по сторонам:
– Ну? Решено? По рукам?
Он обмакнул в слюннице помпон на шляпе, похожий на паппус одуванчика, занёс над документом и уже почти шмякнул в него эту лохматую печать. В последний миг его отогнала сметливая старушка с чёрной, как в дёгте вымоченной, курицей под мышкой:
– Кто же покупает дома на Пачули-Базаре! Вот мошенник.
И обращаясь к Лалике, предложила елейным голосом:
– Хочешь яйцо, деточка?! Из скорлупы моих наседок получается лучший во всём городе пигмент для губного вазелина, – но вдруг сбилась с мысли и оглянулась по сторонам. – Ты, кстати, не видела мой прилавок? Только что он был прямо здесь, а через миг исчез.
«Совсем сумасшедшая», – решила Лалика и, спасаясь от навязчивых торговцев, нырнула в толпу, как в детстве бросалась от тётушкиных наставлений в край ржаного поля.
Хотелось всего сразу: и дутый жаккард с модными зацепками от заячьих лап, и театральный веер для подачи знаков флирта, и костяной мундштук, который пригодился бы для солёной соломки. Пока она сметала с прилавков любую подмигнувшую ей блестящим боком безделицу, чертыхун успел незаметно смолотить краденую стерлядь, измазав рыбьим жиром руки, нос и сусликовую горжетку. А Рубирубино уже попался в романтические сети, раскинутые торговками выпечкой, и с равнодушием принимал от них горы пирожков и булочек, из которых позже, дома за обедом, Лалика с гмурами будут выковыривать любовные записки.
Одним своим появлением он производил настоящий фурор и, лишь приподняв бровь и улыбнувшись краешком рта, за раз влюблял в себя по дюжине девиц. Лалике то и дело приходилось возвращаться за ним, заявляя свои законные права и уводя его под руку, невозмутимого и покорного. Справедливости ради надо сказать, что и она купалась в почтительном внимании, как только в ней узнавали бельфелину. И если Рубирубино принимал комплименты с благородным металлическим достоинством, то она от похвалы таяла и неизменно щебетала в ответ что-нибудь милое.
На гмуриных улицах ей не нужно было прятать лицо под шарф, как в остальных частях города, и, прогуливаясь с Рубирубино, она нередко слышала вслед восхищённые возгласы: «До чего же красивая пара!» Но порадовавшись лишь миг, уже представляла, как ей стукнет страшные сорок или, того хуже, пятьдесят лет, а он так и останется восковым совершенством со слаженными шестерёнками. И тогда те же прохожие будут злословить: «Чем же эта жуткая старуха прельстила столь прекрасного юнца?!»
И, не дожидаясь сорокалетия, когда будет уже не до радостей, она скупала побрякушки и безделицы, счастливая настолько, насколько это вообще возможно в здравом уме.
– Смотрите-ка, там Щавелёчек! – просияла она, позабыв и о покупках, и о старости.
– Померещилось. Пойдём, – бросил чертыхун, украдкой вытирая испачканные рыбьим жиром руки и лицо о белоснежный кочень подвернувшегося кстати гуся.
– По-твоему, прямоходящий и говорящий ёж мне мерещится? – рассмеялась она. – Ещё скажи, таких не бывает, и вообще, дорога мне к мозгоправу.
Они часто препирались: чертыхун славился резким норовом, да и Лалика феей не была.
– Я уверен, это не наш ёж.
Если гмур решил темнить, он и не такое выдумает. И между прочим, до сих пор ни один из гмуров не дал ей внятного ответа, кто же накануне пробрался в дом и так страшно хрипел: «Меныш… жж… фелин… жж… хитим…» и куда он делся? Сразу сотня отговорок: «Некогда», «Не помню», «Пусти».
– Как это, не наш ёж? А чей? Скажешь тоже! Второго такого нет, – рассыпалась она дерзким смехом и полезла с локтями через толпу напрямик к Щавелёчку, поглощённому выбором заводной жужелицы для взбивания яиц.
От горячего дыхания его распушённые усы и шёрстка на щеках живописно покрылись инеем. А сухой морозный воздух так измял его мордочку, что ей срочно требовался сеанс травяного отпаривания в спа-салоне у Ведьмы Улиты. Сквозь запотевшие очки он не сразу разглядел Лалику и отпрянул, когда понял, кто перед ним стоит:
– Моя Желудёвинка! – от радости он хлопнул себя по бокам, осыпаясь слюдянистыми снежинками.
Разодетый по зимней гмуриной моде, он был безупречно элегантен и почти строг, если бы не уморительно милый фетровый цилиндр. А сапожки с небольшими каблучками (ох уж эти ежиные изыски!) делали его почти одного роста с Лаликой.
– Что ты тут делаешь средь бела дня? Ты же днём спишь. И вообще, я думала, ты уже в зимней спячке! – сострила она.
– Так ведь сегодня аукцион диковин и редкостей. Не мог же я такое проспать, – воскликнул он, целуя ей руку. – А ты, кстати, знала, что спячка это миф?! Да-да, животные инсценируют спячку, чтобы хоть зимой люди от нас отстали. У нас под землёй не тесные норы, как они думают, а просторные дома – с кухней, ванной и кладовой. Ты ведь уже была у меня в гостях?! – он словно позабыл, была ли.
В его тоне сквозило что-то неуловимое, слегка назидательное, и между ними вдруг возникла странная, ничем не оправданная дистанция, а ведь недели не прошло с того танцевального вечера, когда во время парной выплясницы среди всех светских красавиц он выбрал именно её и, подавая лапку, назвал прекрасной бельфелиной. Сейчас же он глядел на неё, пусть и ласково, но как на малое дитя, и впрямь, казался «не нашим ежом». Она вновь растерянно схватилась за виски, унимая проклятое жамевю.
Как от близости хищника затихает лес, все вокруг на полуслове стихли, и кто-то даже зажал рот непонятливому хнычущему сопляку.
– Ой, нам пора, – испуганно шепнул тормошливый гмур и, подхватив Лалику в охапку, точно полуживую куропатку, поволок к выходу. Но не успели пройти и три шага, как позади надрывно завизжал гмур-чертыхун:
– Только не кусай меня!
В почтенном поклоне, драматично закрывая голову руками и жалобно щурясь, он обращался к реющему на ветру чёрному полотнищу, острой стрелой пронзающему небо. В парализующей тишине лишь пощёлкивали шпикачки на вертелах да тревожно сопели растревоженные гмуры.
Подбежав к чернильному вихрю, Лалика наконец разглядела высокий конусовидный колпак, длинноносые туфли и многослойный ведьминский шлейф, какой рисуют в пособиях по борьбе с искусами тьмы. Это была немолодая женщина, всё ещё красивая, но не по человеческим лекалам. Остроносая, скуластая, с чёрными губами и злющими глазами, какими глядят плотоядные чудовища из ямы сонного паралича.
– Вы что, хотели его укусить? – выпятив грудь и загородив собой гмура, завопила Лалика и приготовилась принять раннюю и глупую смерть.
Но гмур успокаивающе почесал ей спинку и заверил:
– Мы шутим, милая. Лакрамора никогда не укусит гмура. Это был бы нонсенс.
Лалика всё ещё стояла зажмурившись, когда сквозь подобострастное хихиканье гмуров услышала голос Лакраморы:
– Неужто это… она?! Глазам не верю. Вы забрали её совсем крошкой!
Она говорила о Лалике так, будто та была глуховата или вовсе не понимала слов. – Вы же хорошо её кормите?
– Ты же знаешь! – разобиделись гмуры, складывая ручонки узелком у надутых подбородков. – Рульки, печенья, студень… – перечисляли долго и с такой страстью, что чуть сами слюной не захлебнулись.
Со стороны создавалось впечатление, что Лалика вовсе не важная гмуриная особа, а проблемный питомец.
– Ладно, ладно, – смягчилась ведьма, поверив настойчивым речам гмуров, и неожиданно погладила девочку по щеке, отчего у той едва глаза не вылезли из орбит.
Лакрамора была на базаре тоже в сопровождении гмуров, но на удивление неприветливых и нервозных. Впервые гмуры не встретили бельфелину ни светской беседой, ни любезными дарами. Более того, они нарочито избегали знакомства, держались поодаль и лишь настороженно на неё косились. А когда она ловила их взгляды, спешно задирали высокие воротники.
Оставив Лалику в покое, ведьма наклонилась к гмурам и принялась нашёптывать им какое-то важное поручение:
– Шесть старых, запомнили? Не детских. От них никакого толку… Смешать с аптечными забудками… – она говорила очень тихо, почти неразличимо для человеческого уха. – Растолочь в порошок, скатать в шарики и на три луны под самый печальный камень… Повторите.
Гмуры чётко повторили рецепт, кивая с обиженным видом, – её недоверие их задевало. Она выпрямилась, шумно выдохнув:
– Меня это спасёт, понимаете?
– Ты зря беспокоишься, – наперебой заверили они, и в доказательство самой серьёзной готовности начали выцарапывать инструкцию на вощёной обёртке от сыра.
Было ли их послушание вызвано страхом перед её мощными проклятиями или они действительно водили опасную дружбу с ведьмой, сказать было сложно. Но как бы то ни было, Лалика испытала самую настоящую, жгучую и острую ревность. Ранило её не столько их заискивание и услужливость, сколько та фамильярность, с которой они трогали её рукава и отпускали шутки, непонятные для посторонних.
Заметив в толпе Рубирубино, Лакрамора тотчас разительно переменилась: поникла растоптанным цветком, замолкла и как-то по-детски поджала губы, испачкав зубы помадой. Лалику было не обмануть: она точно видела, как на мгновение сверкнувшая в ведьминских глазищах нежность сменилась на плаксивую жалость, причиной которой было что-то поистине печальное.
Никто ничего и заметить не успел, и вот уже Лакрамора вновь прежняя: непроницаемая и неприступная, как графитовый ледник.
– Машинное масло, – протянула она, издалека вдыхая всеми лёгкими запах Рубирубино. Она мигом раскусила в нём механическую фальшивку – очевидно, у неё был намётанный глаз на чудеса гмуриной инженерии. Медленно подошла к нему, рассматривая с той жадностью, с какой гмур-чертыхун только что вгрызался в джемовую грушу.
– Однажды, когда бельфелина будет готова с тобой навсегда проститься, замурует тебя в склепе, глубоко под дном Луногара, – изрекла она пророчество и с шелестом крыльев летучей мыши растворилась в толпе.
Придя в себя, Лалика бросилась к Рубирубино.
– Не бойся! Я никогда так с тобой не поступлю, – утешила она его неизвестно зачем: он никогда по-настоящему её не слышал и не видел, как если был бы заточён в подводный склеп прямо сейчас.
К середине дня солнце иссякло и забрало с собой очарование множества товаров, манких лишь в его лучах. Навьюченные покупками и подарками, гмуры заплетались ногами и, утоляя жажду, клали в рот кусочки снега.
– А чего шесть старых, не детских? – на обратном пути допытывалась Лалика.
– М? – не сразу понял гмур с чутким носом.
– В рецепте Лакраморы.
– А! – сообразил он. – Зубов.
Глава пятая
Так и не сделав трудный выбор между шалью на носу и полумаской на глазах, Лалика решила отправиться в театр без всякой конспирации – под покровом тьмы, по подземному тоннелю, прямиком в ложу его сиятельства.
– Придём, когда в зале уже потушат свет, а уйдём, пока не зажгут, – командовала она. – Никто на меня и не взглянет, это же «Рассыльный Зла», главный спектакль года!
Лалика, впрочем, прекрасно понимала, что в таком вместительном зале непременно окажутся её знакомые, а то и сама родня, и втайне упивалась фантазиями о том, как Кура-мать и тётушка Тутия выпучивают глаза, увидев беглянку в сопровождении герцога, а через миг теряют её из виду под чёрной завесой дымовой гранаты, принесённой в театральной сумочке.
– Но хотя бы волосы твои лунные нужно спрятать, – уговаривал гмур с чутким носом. – В городе ты одна такая. С распущенными волосами тебя за милю видно, как светозарного филена.
– Филина?
– Нет, филена. Это некто вроде серафима из книг, только настоящий.
В шесть рук ей накрутили на голове прелестных узелков и закололи шпильками с муслиновыми цветками, почти полностью спрятав под ними её курчавое богатство. Подвели глаза кошачьими стрелками, подложили в корсет два мотка беличьего мохера (красота неописуемая!) – и вот она уже не худосочная девчушка из обветшалого пригорода, а обворожительная гмуронесса на выданье.
Она оценивающе прищурилась, разглядывая себя в трюмо.
– Не нравится? – опешили гмуры.
– На гмуриных улицах все меня узнают как бельфелину, и сразу столько мне чести. Все кланяются, руки целуют, отвешивают комплименты. Но мой статус ненастоящий, ведь вы его сами выдумали. Другое дело – Рубирубино. Его любят за красоту. Вот она – невыдуманная.
– Красота – та ещё выдумка. И меняется год от года и город от города, – с учёным видом завёл верховный гмур, незаметно вынимая из её сумочки пиротехнические шарики и крошечный антикварный стилет. – Всего век назад такие, как Рубирубино, считались женоподобными обмурзками, а теперь, во времена кинематографа и легкомысленных музык, его черты объявили эталоном. Но увидишь, уже назавтра этот триумф обернётся забвением.
– Но я хочу, чтобы у вас была причина меня любить. Вот если бы я умела летать или виртуозно играть на фортепьяно…
– Мы тебя любим без всяких причин. Они совершенно нам не нужны, – перебил он.
– Но это нечестно, – возразила она неуверенно, розовыми щёчками выдавая смущение.
– Мало ли что нечестно! – парировал гмур-чертыхун, укладывая всё конфискованное добро обратно в её сумочку. – Чучело хорька на Пачули-Базаре за четверть медного пупеля – тоже нечестно.
– А вы, кстати, нашли моё защитное имя? Название планеты с сутками в двадцать восемь часов? – вспомнила она. – Как раз к выходу в свет.
– Перерыли почти всю астрономическую секцию королевской библиотеки, – развели они руками, – пока безрезультатно.
Когда гмуры темнили, но не из циничного расчёта, а по велению сердца, их ушные мышцы непроизвольно напрягались, отчего носогубные складки разглаживались и придавали лицам подозрительно честное выражение. «И почему с ними всегда так: вроде бы вопрос невинный, а уши напряглись?!» – насторожилась она, но сказать ничего не успела.
В потолочном люке возник тормошливый гмур, выудивший из чердачной паутины, как ему казалось, решение всех проблем:
– Нос с усами! Для маскировки тебе нужен накладной нос с усами!
Примерили, расчесали усы, припудрили резиновый нос, но, увы, идея оказалась провальной: в таком виде Лалика была ещё больше похожа на свой портрет с розыскной листовки.
Счастье любит, когда ты к нему чуточку не готов. Как в парадоксе земляничного лукошка: взял с собой в лес корзинку – уйдёшь с пустыми руками, а не взял – вот тебе ягодные поляны до самого неба, да ещё и редчайший трюфель в довесок. От этого вечера Лалика ожидала чего угодно: унизительное разоблачение, столкновение с городскими сыскарями или публичную порку от Куры-матери, но действительность оказалась куда благосклоннее.
Путь до Гранд-Театра по тоннелям занимал всего полчаса неспешной ходьбы. Летом в шёлковых туфлях пришлось бы трястись на дрезине, чтобы их не стоптать, а зимой в тёплых сапогах прогуляться было одно удовольствие. Накануне в Ночной Оранжерее гмуры срезали цветов для Дивы Сулемани и несли охапку вчетвером, укрытые сквозистой вуалью влажных листьев. Лалика прихватила бы с собой и Рубирубино как эффектный аксессуар, неизменно вызывающий всеобщее восхищение и припадочную зависть. Он смотрелся бы не хуже клатча в сапфирах или эгрета с вихрящимся пером, но, несомненно, привлёк бы столько досужего внимания публики, сколько не удостоился даже ручной мопс леди О'Поссум, в прошлом театральном сезоне с утратой достоинства переживший кишечную неурядицу.
На последнем повороте к закулисному проходу их чуть не сбил с ног нахальный гренадер в пыльном балахоне – громадный, басистый хам, тоже опаздывающий к началу. Башенные часы где-то высоко в дебрях каменных сводов глухо отбивали восемь, и Лалика вдруг усомнилась в разумности своей затеи: явиться после третьего звонка это вернейший способ прослыть такой же сельской невежей. И без того опаздывая, они потеряли несколько минут на то, чтобы оправиться от последствий столкновения с этим зловонным и сквернословным смерчем – не хватало только усугубить впечатление неряшливым видом.
Под угасающие звуки увертюры они вбежали в ложу и, по-кротовьи щурясь от сияния сцены, на ощупь расселись по креслам. Лишь с первыми нотами вступительной арии Дивы Сулемани, переглянувшись и пересчитав друг друга по носам, обнаружили, что именитые хозяева ложи так и не соизволили явиться. Воспрянув духом, Лалика приосанилась, взмахнула юбками, как стряхивают муку с передника, и с упоением погрузилась в пучину музыки.
Из-под купола с грохотом литавр вылетела несравненная Дива Сулемани, держась на невидимых стропах, как на заклинании. Никто в зале не смел ни вдохнуть, ни шелохнуться, пока она, влекомая лучом прожектора, благополучно не приземлилась на залитый светом алтарь сцены. «Это, конечно, не летательный костюм, – с завистью подумала Лалика, – но мне непременно нужен такой для выступлений в Домашнем Театре».
Голос Дивы был точно изомальтовый шар: туго натянутый и почти прозрачный. Он выплыл в зал, перекатился гладким боком по партеру и, ударившись о ложи, отскочил и распался на сотни дрожащих пузырей. Они лопнули сочными брызгами трелей, и шар с удвоенной силой надулся вновь. А потом внезапно взорвался под куполом и прерывистым потоком обрушился в оркестровую яму. Вытек едва слышным шёпотом, тончайшей плёнкой прилип к лицам, прежде чем взметнуться, хлестнуть по щекам и сгинуть.
– Браво!!! – проревел зал, и у Лалики выступили сладчайшие слёзы.
Лорнируя соседние ложи, она заметила знакомый профиль: пружинистые кудри над мраморным лбом вдвое выше обычного, утёсистый нос и совершенно ничтожный рот – маэстро Клерлюм. В ответ на её любопытствующий взгляд он сверкнул пенсне и, узнав гмуров подле неё, резко вздрогнул всем телом, как на кочке. Это был верный знак того, что переговорный процесс продвигается и не ровен час состоятся их долгожданные занятия.
Пение и музыка совершенно её одурманили, как горячая пузырьковая ванна или стремительный спуск с ледяной глыбы, но в паузах до неё всё же доносилось тревожное жужжание мыслей, застрявших где-то в затылке: «А вдруг мы заняли чужую ложу, или перепутали дату, или моё имя в приглашении было ошибкой, или герцог передумал, или вовсе умер, или…»
– Милейшая бельфелина, для меня невероятная, невероятная честь! – взахлёб радовался знакомству герцог Шпацшиканиирен, возникший буквально ниоткуда. Он с жаром прижимал её руки к своей груди, после каждого слова делая дыхательный причмок и улыбаясь во всю зубастую ширь.
Сидя в кресле, Лалика оказалась с ним лицом к лицу, и их носы непременно бы соприкоснулись, будь для этого малейший зазор в этикете. Это был самый низкорослый и, пожалуй, самый головастый из всех гмуров, что ей доводилось встречать. Если герцогиня полюбила его не за богатство и титул, то уж точно за впечатляющий объём головы.
– Ваше сиятельство, – залепетала Лалика, порхая ресницами в такт движению своего веера. – Должна признаться, мне не случалось бывать здесь прежде, и я совершенно очарована.
Его упитанная стать, смело подчёркнутая зеркальным шёлком камзола и тугими чулками, указывала на жизнелюбие и неиссякаемый поток светских и плотских удовольствий. Энергичный и по-гмуриному юркий, он совсем не выглядел на свой почтенный возраст и ничем не выдавал принадлежность к чопорной аристократии.
В прошлом у герцога была одна беда: сытый, он воротил нос даже от деликатесов, а голодный – сметал любую дрянь. Увы, то же самое происходило и в делах сердечных. Всё изменилось в тот знаменательный день, когда он женился на Пулетте Штауфен. Бескомпромиссная и властная, она твёрдо взяла под контроль его желудок и сердце, подстроив распорядок дня и ночи под его сложную натуру, и тем самым безмерно его осчастливила.
– Мы все так любили Вашу предшественницу, – сетовал он, вскидывая свои маленькие ручки с той же страстью, что и актёры на сцене. – Ах, ну почему люди живут так мало! Как кошки или белки. Вспышка метеора в небе – ваша короткая жизнь… Вам сейчас сколько лет, милая? Ведь не больше пятидесяти?! – с надеждой уточнил он и поспешил объяснить, – я в этом абсолютно, абсолютно ничего не понимаю.
Пока Лалика искала подходящие слова, он уже потчевал друзей изысканными лакомствами – суфле и миндальным пузерелем, сопровождая трапезу обстоятельными рассказами.
– В стародавние времена гмуры бродили пузерель вовсе не на миндале – под землёй миндаль, знаете ли, не водится, – он игриво пихнул бельфелину локтем, намекая, где нужно смеяться. – А вот корни реликтовых орхидей были не такой уж редкостью: пролезали прямо через трещины в камне. Надёргаешь с потолка пучок-другой, промоешь от глины – и в дело. Корешки тщательно толкли, смешивали с тёртым мышиным трутовиком, доливали ключевой воды, профильтрованной через байковый лоскут, и всё это укладывали в бочку, в тёплое местечко, вроде преющей грибницы. Через полгода смесь начинала пузыриться, и это был верный знак, что пора шить наряды к Зимнему Карнавалу.
– Не знала, – протянула она.
– Ну, знания часто приходят с запозданием: только отрежешь волосы в носу, так сразу и поймёшь, зачем они там росли.
Лалика уставилась на его нос, опасаясь, что его сиятельство продемонстрирует печальные последствия этого незнания, но он вновь сменил тему:
– Вы, кстати, заранее приглашены к нам на все грядущие зимние балы, пиры и концерты!
Объясняя, насколько широко для неё распахнуты двери его дома, он так далеко разводил руки, что полностью заслонял обзор сцены остальным гмурам. А описывая веселье, которое её ожидает, заглушал хоровое многоголосие и бас-барабан. Не такую бурлеттину Лалика ожидала увидеть в Гранд-Театре.
Однако вскоре, ко всеобщему облегчению, он выдохся, раскинулся на подушках и застыл в полудрёме заядлого театрала. И тогда Лалика наконец смогла разглядеть её – герцогиню Пулетту, недвижно восседающую в глубине ложи. Считается, что после замужества всякая девушка превращается из солнца в луну – из сияющей звезды в чей-то спутник. Но не Пулетта, она осталась звездой.
По наивным представлениям Лалики, герцогиня была едва одета, и лишь дымчатое манто отделяло её от светского казуса. Усыпанная сонливо блещущими бриллиантами, она затмевала всё, что казалось Лалике восхитительным: и танцы теней от кружевных занавесок, и утренний сад сквозь хрустальную призму, и белую бабочку, уснувшую на макушке у Муты.
Даже со своего места Лалика улавливала запах, удивительно схожий с благоуханием священного гмуриного растения, чьё редкое цветение ей однажды посчастливилось застать в Ночной Оранжерее. Этот изысканный аромат мог принадлежать лишь такой красавице, как Пулетта, или самому цветку. Очевидно, духи, вобравшие его пыльцу и нектар, были созданы исключительно для неё и обладали той же чарующей силой. Влюблённый герцог то и дело с пылом погружал нос в её душистое манто и издавал звуки, в которых без труда угадывался экстаз. И, признаться, упрекнуть его было невозможно.
Разительный контраст герцогской четы невольно вызвал в Лалике болезненные раздумья о собственной паре с Рубирубино – этим живым олицетворением совершенства. Окажись он здесь, рядом с герцогиней, равной ему по красоте, их союз был бы столь ослепителен, что мог нарушить космическое равновесие и вызвать вселенский катаклизм.