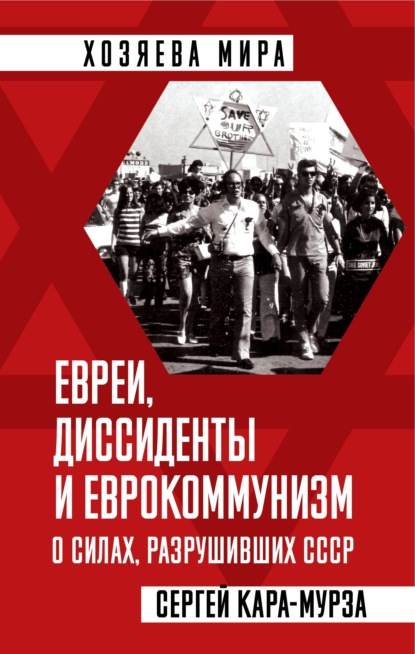Современное язычество. Люди, история, мифология
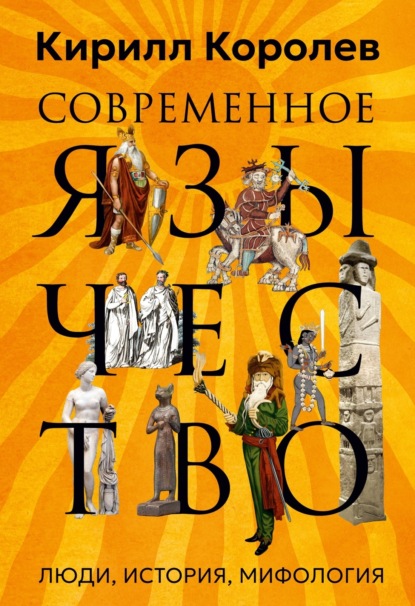
- -
- 100%
- +
Отчасти с этим утверждением можно согласиться, – действительно, от вероучений некоторых радикальных языческих общин рукой подать до рассуждений о расовом превосходстве и «чистоте крови»: например, известны скандинавские общины, допускающие в свои ряды только тех, в чьих жилах течет «северная кровь», – кто может доказать, что среди их предков были германцы. Однако безоговорочное отождествление всех современных язычников с националистами (и уж тем более с экстремистами) вряд ли правомерно.
Во-первых, на таком основании в националисты можно записывать вообще всех, кто интересуется, скажем, дохристианскими древностями на территории Европы, хотя людей привлекает всего-навсего сам факт наличия древних памятников, которыми можно гордиться как достоянием и наследием своего народа или этноса. А во-вторых, среди направлений современного язычества достаточно и тех, которые вправе именоваться универсалистскими и которые не предполагают внимания к национальной составляющей, – та же викка, к примеру, совершенно безразлична к вопросам «почвы и крови». Так что обобщать здесь не слишком-то уместно, пусть национальные направления в современном язычестве все же и преобладают.
Попробуем разобраться с тем, насколько справедливы упреки в национализме и экстремизме в сторону современных язычников на примере такого национального направления язычества, как славянское родноверие.
В 1990-х и начале 2000-х годов в прессе появлялось множество публикаций, посвященных русским националистам-язычникам, к которым относили всевозможных правых радикалов и скинхедов; отзвуки этих рассуждений слышны по сей день. Быть может, отдельные язычники в самом деле примыкали к той, по словам социолога Владимира Прибыловского, «квазирелигии национализма и ксенофобии», которая на короткий срок утвердилась на постсоветском социальном пространстве, но большинство родноверов не проявляло ни малейшего интереса к политике (а национализм есть, конечно же, форма политического участия масс). Более того, в 2002 году полтора десятка славянских языческих общин приняли Битцевское обращение (своего рода «декларацию» родноверия), в котором прямым текстом сообщалось, что родноверы осуждают «любые проявления национал-шовинизма»; это обращение было реакцией языческого сообщества на кампанию в прессе и на нараставшую в обществе моральную панику в отношении язычников.
Под моральной паникой в науке принято понимать волну общественной тревоги, связанную с той или иной группой, якобы угрожающей моральным устоям или безопасности общества; обусловленная различными фобиями и стереотипами восприятия, такая паника раздувается падкими до сенсаций СМИ и нередко приводит к социальным изменениям, в том числе к принятию соответствующих репрессивных законов. Опасаясь подобной моральной паники, родноверы не ограничились лишь одним декларативным обращением; многие руководители славянских языческих общин выступали против так называемых «Русских маршей» и прочих политических акций, а также призывали общинников избегать публичной демонстрации языческой символики и вообще воздерживаться от действий, которые могут быть сочтены радикальными.
В результате сегодня, два десятилетия спустя, славянское родноверие сделалось почти полностью аполитичным, – но пресса и отдельные ученые время от времени все равно извлекают (видимо, по инерции) из «чулана памяти» жупел русского языческого национализма, давным-давно устаревший и не соответствующий текущему положению дел в языческой среде.
Сходная картина наблюдается и в других национальных «секторах» современного язычества, будь то герма-но-скандинавское асатру, балтийское «родоверство» или та же марийская вера предков. При всей своей несомненной этнической составляющей современное язычество старательно отгораживается от политического участия и едва ли заслуживает тех обвинений в радикализме, которые обычно выдвигаются против так называемых проблемных социальных групп (вроде футбольных фанатов).
По классическому определению социального антрополога Эрнста Геллнера, национализм – признак «большой культуры обезличенного общества». Современные язычники в процентном отношении составляют очень и очень малую долю населения тех стран, где это явление отмечается; то есть усматривать в современном этническом язычестве, маргинальном по своему общественному статусу, националистическую угрозу – явное преувеличение.
Но даже если допустить, что такая угроза существует, нельзя забывать о том, что современное язычество как социальное явление многомерно, что у него существуют не только политическое, но прежде всего религиозное, а также культурное, историческое, психологическое и даже экономическое измерения, причем политика здесь как минимум второстепенна. Сводить почитание «родных богов» исключительно к политике – значит целенаправленно или неосознанно закрывать глаза на важнейшую из сторон язычества, а именно на его религиозную основу.
Исторически язычество в религиозном смысле представляло собой протест – своего рода контррелигию, духовное и обрядовое возражение против той формы религиозности, которая тогда господствовала в обществе. При таком понимании, сформулированном египтологом Яном Ассманом, первым практическим воплощением язычества можно признать государственный культ единого бога Атона, введенный египетским фараоном и религиозным реформатором Эхнатоном (1300-е годы до н. э.) вместо привычного древним египтянам многобожия.
Да и христианство, в культуре которого и сложилось, собственно, понятие язычества, тоже поначалу выступало как контррелигия. Но по мере христианизации Европы и других континентов это вероучение неумолимо становилось главенствующим, а представления о язычестве как об особом типе архаической религиозности, альтернативной и оппозиционной христианству, стали приобретать то значение, которым они во многом обладают по сей день.
Романтические воззрения на язычество соотносят эту религиозность с древнейшими человеческими культурами, «языческие пережитки» которых европейские интеллектуалы старательно искали в народных и «высоких» культурах собственных обществ на протяжении XVIII и XIX столетий. Только к середине XX века исследователи религии осознали, что эти воззрения ошибочны, что нельзя трактовать христианство и другие мировые религии как неизбежный поступательный шаг на пути религиозного развития – от «неразумного политеизма», цитируя священника Александра Меня, к заведомо более упорядоченной и стройной системе верований. Язычество, при всей своей разнородности, равноправно с «большими» религиями и сосуществует с ними; оно принадлежит не прошлому, а настоящему, и нужно поэтому не искать его «пережитки», а попытаться понять, каковы признаки языческой религиозности и чем она может быть предпочтительнее для человека при выборе веры.
Конечно, может показаться, что этот подход перебрасывает мостик от язычества прошлых веков к язычеству нынешнему и подразумевает непрерывность традиции, за которую так ратуют многие современные язычники. Но прямой преемственности между язычеством историческим и современным, как уже говорилось, нет и быть не может: в конце концов, каждое явление свойственно конкретной эпохе с конкретными социально-экономическими условиями, определяющими среди прочего и типы религиозности. Тем не менее у язычества прежнего и сегодняшнего имеется общая черта – то самое качество контррелигии, которое характерно для всякого духовного учения, явно или неявно соперничающего с общепринятыми вероисповеданиями.
Если христианство помещает Божество за пределы мироздания, то в язычестве бог или боги находятся внутри мира, воспринимаются и «проживаются» человеком вместе с миром, и в этом отношении язычество одновременно религиозно и – применительно к христианскому вероучению – контррелигиозно.
Любая религия есть, упрощая, усвоенное мировоззрение, подкрепленное (или отягощенное) моралью, и по этому признаку язычество, прежнее и нынешнее, целиком и полностью соответствует определению религии. Любая же контррелигия опирается на осознанный выбор человека, разочаровавшегося по какой-либо причине в том вероисповедании, которое главенствует в современном ему обществе (тут можно вспомнить, к примеру, европейских протестантов, русских старообрядцев XVII столетия или «моду» на буддизм в христианских Европе, Америке и России/СССР в XX веке), и здесь язычество выступает наглядным образцом духовного нонконформизма для двухтысячелетней христианской эпохи.
Словом, язычество – в первую очередь тип и форма человеческой религиозности, в чем-то, разумеется, наивные и не такие утонченные, быть может, как «большие» религии, но вполне самоценные и самодостаточные.
Еще нужно выделить такую особенность современного язычества, как его, выражаясь научным языком, природоориентированность: почитание и даже обожествление природы составляют одну из главных его нравственных ценностей. Причем это почитание практически одинаково свойственно всем новым языческим направлениям, на какую бы национальную/этническую или культурную мифологическую традицию они ни опирались. Поклонение природе неразрывно связано со смутными представлениями о «золотом веке» далекого прошлого, когда человек жил в истинной гармонии с одушевленной природой; он приспосабливался к природе, а не приспосабливал ее к своим потребностям, поэтому современным людям, сберегающим «веру предков», необходимо возрождать «первобытный экоанархизм» (Роман Шиженский), ту самую первоначальную гармонию.
Даже если почитание природы не декларируется напрямую, как в культах земли-Гайи (earth-based cults, Gaia religion), то в манифестах и в сочинениях теоретиков различных языческих движений обыкновенно указывается, что мир вокруг погряз в «индустриальной скверне», губительной для природы, и язычникам предстоит переломить эту ситуацию, чтобы вернуть древнее блаженное единство с природой. В отдельных случаях «индустриальная скверна» переименовывается, как у одного из основоположников славянского родноверия волхва Велимира (Николая Сперанского), в глобальную потребительскую культуру, но и здесь спасением признается возвращение к природе, ведь, как писал Велимир в «Книге природной веры», человек – не хозяин природы, а ее составная часть и должен относиться к ней соответственно, потребляя ровно столько, сколько нужно для «достойного бытия».
Тут можно вспомнить знаменитую метафору классика социологии Макса Вебера, который рассуждал о «расколдовывании» мира в рационалистическую эпоху. Поклоняясь природе, язычники, по сути, стремятся «заколдовать» мир обратно, желая восстановить прежний естественный порядок. Этот порядок, конечно, не столько восстанавливается, сколько воображается – вполне в духе характерных для философии Просвещения представлений о «благородном дикаре». Как бы то ни было, единение с природой – несомненный языческий идеал, и поэтому, кстати, современные язычники нередко участвуют в различных экологических движениях и инициативах.
Производным, если можно так выразиться, от поклонения природе («родящей Земле») является языческий культ Великой Матери, или Богини, – самостоятельное направление в современном язычестве и часть идеологии многих других направлений. Шведская феминистка Моника Шьо (или Сьо, как транскрибируют ее фамилию в некоторых российских изданиях), активистка «движения Богини», утверждала, что, вопреки Зигмунду Фрейду, главным преступлением человеческого рода выступает не убийство отца, а изнасилование матери, шиллеровское «обезбожение Земли»: под матерью она понимала «вечную женственность, подвергаемую поруганию» в патриархальном, капиталистическом и христианском мире. Славя Богиню, язычники тем самым прославляют любовь, природу и саму жизнь.
Вообще, природа в разнообразии своих ипостасей может служить олицетворением современного язычества. Близость к природе, понимаемая очень широко, оказывается, если присмотреться, краеугольным камнем большинства языческих вероучений: «дух природы», «служение природе», «места силы» (преимущественно природные объекты) – все это значимые составляющие языческой экологии сознания.
Выше не раз упоминалось о том, что язычество, прежнее и современное, чрезвычайно разнообразно, что в нем имеется множество направлений. При беглом взгляде может показаться, что это обилие направлений из-за своего содержательного разнообразия едва ли поддается какой-либо классификации. Однако попытки внести порядок в мнимый хаос многочисленных языческих движений все-таки предпринимаются, причем как религиоведами, так и самими язычниками.
Например, американский язычник Айзек Боневиц, бывший друид и приверженец викки, предложил делить историю язычества на три этапа и распределять языческие направления по этим трем этапам. Первый этап – палеоязычество, или политеистические природные культы древних племен, причем сюда же относятся, по Боневицу, некоторые «большие» религии – классический индуизм, даосизм и синтоизм. (Занятно наблюдать такую трактовку этих религий в духе культурного империализма и гегелевской религиозной иерархии, по которой вероучения и вероисповедания Востока и Юга просто обязаны, в представлениях «белого человека», выглядеть архаическими и даже маргинальными.) Второй этап – мезоязычество, оно предполагает реконструкцию лучших вероучений и практик из палеоязыческого наследия и мировых религий; тут находится место таким общественным движениям, как масонство и розенкрейцерство, теософия и спиритизм, а также африканским в своей основе культам вуду, сантерии и кандомбле наряду с оккультным вероучением Алистера Кроули и ранними формами викки. Наконец, третий этап – неоязычество (neopaganism), или духовные движения 1960-х годов и более поздние, «очищенные» от налета монотеистических религий и «подверженные влиянию современного плюрализма»: Церковь всех миров Тимоти Зелла, друидизм, асатру и «либеральная викка».
Схема Боневица подчеркивает идею преемственности языческих вероучений (что ничуть не удивительно для современного язычника, которому для подтверждения собственных верований необходим авторитет прошлого) и оказывается крайне широкой: по сути, в эту схему не составит труда включить фактически любое эзотерическое учение, от древнегреческого культа Элевсинских мистерий до сегодняшних «сенсационных открытий» вроде славянской рунической тайнописи или «надиктованных инопланетянами» откровений. Однако несомненное достоинство этой схемы заключается во «взгляде изнутри»: это взгляд деятельного участника современного языческого сообщества, отражающий, насколько можно судить, представления современных язычников – во всяком случае, американских и западноевропейских – на развитие языческой религии и состав языческого движения.
Наука идет другим путем. Религиовед Майкл Стрмиска разделил все многообразие современного язычества на две крупные категории – язычество синкретическое (эклектичное) и язычество реконструкционистское.
Под синкретическим язычеством подразумеваются направления, которые заимствуют элементы вероучения и культа из разных источников. Таковы прежде всего викка и ряд учений нью-эйдж; кроме того, к этой же категории относятся, пусть и с оговорками, такие направления, как российское движение «анастасийцев», к примеру учение «Живой этики», американский «христопаганизм», псевдовосточный тенгризм и так далее.
Что касается язычества реконструкционистского, то здесь декларируется «возрождение» веры предков на основании этнографических, исторических и иных (нередко придуманных) источников. Таковы национальные по своему содержанию языческие вероучения – славянское родноверие, германо-скандинавское асатру, кельтский друидизм, армянский гетанизм, прибалтийские ромува и диевтуриба и пр.
Эта классификация тоже не лишена недостатков – скажем, она не учитывает возможность перетекания того или иного направления из одной категории в другую, как произошло с друидизмом, который из исходно национального британско-французского все больше становится синкретическим, – но все же она позволяет сориентироваться в пространстве языческих вероучений и составить первоначальное впечатление о «символах веры» современного язычества.
Другая схема, принятая в науке, исключает из современного язычества все учения нью-эйдж и прочие духовно-оккультные направления; в ней находится место только для трех собственно языческих категорий, довольно широких, впрочем, по своему охвату. Первая категория – это викка, или опыт личного развития и самосовершенствования через взаимодействие с иными, «потусторонними» планами бытия. Вторая категория – друидизм, под которым понимаются все религиозно-обрядовые практики, так или иначе связанные с воображаемой кельтской традицией («воображаемая» она в том смысле, что в этих практиках подлинная традиция, как правило, не столько восстанавливается, сколько придумывается – на основании современных представлений о ней). Третья же категория – это «исконное язычество» (heathenry), то есть реконструируемое язычество Северной и Восточной Европы: германо-скандинавские одинизм и асатру, славянское родноверие, финно-угорский шаманизм и тому подобное.
В таком обособлении «настоящего» язычества от всего того, что может казаться языческим прессе и широкой публике, но на самом деле таковым не является, имеется рациональное зерно – по крайней мере, с точки зрения современных язычников. Для них очень важно обозначить границы «своей» территории, обосновать религиозную истинность язычества и отделить свою веру от коммерческой эзотерики, популярной в современной массовой культуре, и от квазинаучных дилетантских фантазий.
Британский религиовед Колин Партридж предложил называть все обилие эзотерических представлений, бытующих в обществе, оккультурой (неологизм из двух английских слов, понятных без перевода: occult и culture). Это удачное определение распространяется на различные «девиантные идеи и практики» новой религиозности. Пусть язычество занимает в современном социуме маргинальное положение, оно все-таки вправе считаться коллективным мировоззрением, а сами язычники, разумеется, не согласны признавать свои убеждения «девиантными» и потому прилагают немало усилий к очищению языческих вероучений и обрядов от сомнительного содержания.
Недаром, например, современные русские язычники столь усердно открещиваются от любых связей с «псевдородноверием», к которому они относят расхожие домыслы по поводу «славянских рун», «славянских вед» и «новой хронологии». Все эти теории, как заявляется, ни в какой степени не близки «подлинному» славянскому язычеству и лишь дискредитируют родноверие.
В 2009 году общины «Круг языческой традиции» и «Союз славянских общин Славянской Родной Веры» даже выступили с совместным заявлением «О подменах понятий в языке и истории славян и псевдоязычестве»: из заявления следовало, что язычники категорически против того, чтобы в их ряды записывали последователей и сторонников «славянского руноведения» Валерия Чудинова, радикально-экстремистских «арийского космизма» Николая Левашова, «праславянской древности» Геннадия Гриневича или «славянского мироздания» Алексея Трехлебова (отдельные сочинения Левашова и Трехлебова включены Минюстом РФ в федеральный список экстремистских материалов). Правда, это заявление прошло фактически незамеченным, и сегодня в журналистских материалах и сетевых публикациях между настоящими родноверами и всей остальной отечественной оккультурой нередко ставится знак равенства, что продолжает беспокоить язычников. Отчасти именно поэтому родноверие вызывает порой достаточно острую негативную реакцию общества, чреватую новой моральной паникой с непредсказуемыми для движения последствиями.
На страницах этой книги совмещаются обе научные схемы описания язычества, вследствие чего к кругу рассматриваемых языческих направлений, вероучения и обряды которых составили материал для изложения, относятся следующие:
– асатру и одинизм, или германо-скандинавское язычество;
– ведовство и викка, или общеевропейское и американское «магическое» язычество с обилием условно кельтского наследия;
– друидизм, или кельтское язычество;
– культ Богини, включая сюда также поклонение Исиде и Гекате как проявлениям Великой Матери;
– «южные» направления язычества: кеметизм, условное древнеегипетское язычество; элленизм (именно так, в отличие от эллинизма как культурного явления) и римская вера (греческое и итальянское язычество); армянский гетанизм и семитское язычество;
– нативистские (этнические) религии и шаманизм;
– политеизм, европейско-американское почитание «всех богов»;
– родноверие, или язычество славянских и балтийских народов;
– уфология и прочие «религии человека наших дней» (по Карлу Густаву Юнгу).
Разумеется, задача дать сколько-нибудь полное описание всех без исключения языческих направлений в их историческом развитии и текущем состоянии нами не ставилась. Для решения такой задачи, во-первых, потребуется не одна книга, а во-вторых, современное язычество, как и всякое другое живое социальное явление, крайне динамично, и описание, верное, казалось бы, еще вчера, нередко оказывается ошибочным в наши дни, а уж завтра и подавно станет историей. Те же родноверы на раннем этапе развития движения и вправду склонялись к ультраправым воззрениям, но сегодня они в большинстве своем вообще аполитичны. Поэтому задаваться целью исчерпывающего описания попросту бессмысленно.
Также не рассматриваются многочисленные «околоязыческие» гипотезы и сенсационные «открытия», в изобилии представленные в сегодняшней массовой культуре, но лишь использующие «бренд» язычества для собственной популяризации.
Современное язычество и без того чрезвычайно разнообразно, так что любая попытка объять необъятное обречена на провал.
Даже беглый обзор новоязыческого вероучения позволяет осознать, насколько неоднозначно, противоречиво и разнородно это явление. Неудивительно поэтому, что любая попытка описать его более или менее последовательно сопряжена со значительными трудностями. Иногда складывается впечатление, будто между отдельными направлениями современного язычества нет ничего общего, что каждое из них возникает и развивается локально, без взаимодействия – хотя бы опосредованного – с другими. Однако это впечатление ошибочно, и сегодня в науке крепнет мнение, что разные новоязыческие религии составляют все же аморфный, но единый религиозно-культурный «текст», в котором вполне возможно проследить общие черты.
Британский историк Рональд Хаттон, автор нескольких книг о друидизме и викке, предложил для анализа современного язычества модель описания, которую он назвал «четырьмя языками»: это четыре способа «говорить о язычестве как явлении человеческой культуры» и, можно добавить, как режиме человеческой религиозности.
Первый язык, по Хаттону, «язык великого искусства, литературы и поэзии», то есть возведенная в статус непререкаемых шедевров античная классика. Это древнее язычество, которым следует гордиться, по заветам европейских классицистов-филэллинов XVIII столетия. Пример такого язычества – бесчисленные отсылки к античным мифологическим образам в литературных произведениях, восторг перед греческими и римскими статуями в музеях, восхищение сохранившейся античной архитектурой. Сегодня на таком языке говорят порой не только об античности, но и о народных дохристианских культурах, которые почти автоматически причисляются к «языческим».
Второй язык можно назвать негативным: «Язычники – люди, которые поклоняются идолам, приносят кровавые жертвы, их религия отражает первобытную степень дикости и невежества». На этом языке обычно рассуждает о современном язычестве духовенство мировых религий, и на нем же обыкновенно предпочитает изъясняться массовая пресса, подкрепляя такие материалы обвинениями в антиобщественном поведении в адрес язычников.
Третий язык сопоставляет современное язычество с интересом к древней мудрости и древности как таковой. Еще в эпоху Ренессанса в Европе среди интеллектуалов велись беседы об «изначальном богословии» (prisca theologia) и «вечной мудрости» (philosophia perennis), якобы существовавших в дохристианскую эпоху и впоследствии «растоптанных» и «забытых». Поиски древних народных «корней», свойственные многим нынешним культурам Европы, Азии и Америки, нередко приводят к тому, что ищущие начинают изучать языческие верования (в их историческом и современном воплощении, если не «пересказе»), чтобы лучше узнать ту или иную национальную/этническую культуру. По замечанию Хаттона, этот язык крайне важен для становления европейского нового язычества; если присмотреться к славянскому родноверию, нетрудно убедиться, что и на славянской почве язык древности вполне востребован.
Наконец, четвертый язык описания язычества – язык романтический: это язык поклонения природе и антицерковных (в том числе и антихристианских вообще) высказываний, язык прославления «благородных дикарей», проживавших в органической среде, которую не успели опорочить индустриальное развитие и «мракобесная теология».