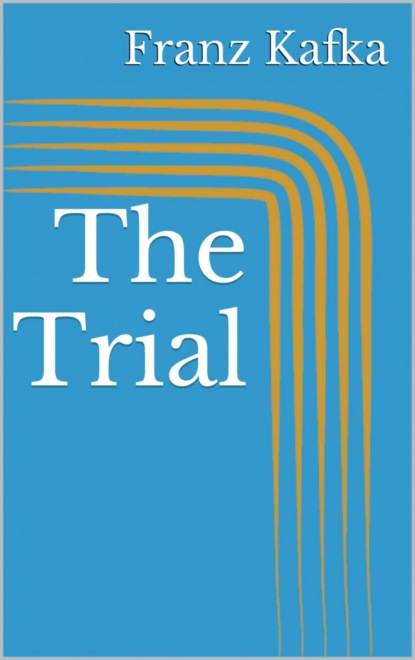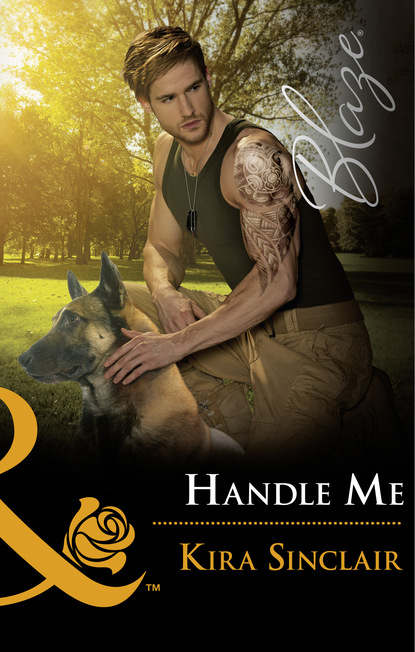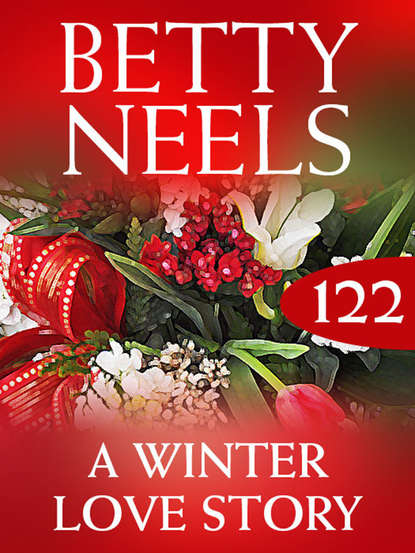Современное язычество. Люди, история, мифология
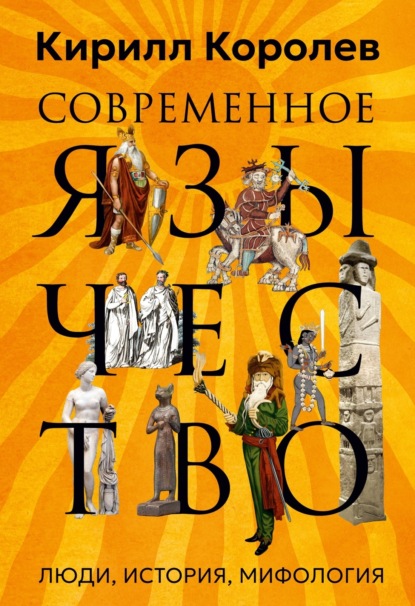
- -
- 100%
- +
Первые два языка в модели Хаттона – языки внешние, или этные, если воспользоваться рабочим термином современной социальной антропологии (англ. etic), то есть способы описания явления снаружи, при стороннем взгляде. Тогда как два остальных языка – языки внутренние, или эмные (англ. emic) по той же терминологии, характерные для самих участников явления, взгляд изнутри. (Термины etic и emic как производные от слов phonetic и phonemic предложил в 1950-х годах американский лингвист Кеннет Пайк; по-русски иногда говорят также об «этическом» и «эмическом», но тогда возникает неизбежная путаница, ибо термин «этический» начинают связывать с этикой.)
В целом эту модель можно признать достаточно удобной и подходящей в первом приближении для обсуждения современного язычества. В настоящей книге этные и эмные точки зрения будут регулярно сравниваться, дабы нагляднее проявлялись их сходства и несовпадения; таким образом получится, хочется надеяться, развеять некоторое количество мифов, окружающих современное язычество, и сорвать, перефразируя Дмитрия Мережковского, «завесу немоты» с «молчанья страшного языческого бога».
Глава 2
Становление современного язычества: краткая история до середины XX века
Язычник Ницше. – Предыстория: от Возрождения до романтизма. – Кельтомания и «тевтонская старина». – Друидизм. – Балтийское язычество. – Фёлькиш и «тевтонский дух». – Арманические руны. – Ранний одинизм. – Язычество в германском нацизме.

Кажется, стоило Фридриху Ницше провозгласить, что Бог умер, как по всей Европе стали появляться разнообразные новые религиозные культы, притязавшие на право потеснить и даже искоренить «опорочившее» себя христианство. Конечно, антихристианские выпады Ницше, при всем неоспоримом влиянии этого философа на просвещенную европейскую публику, не являлись побудительной причиной для такого развития событий. Уже с эпохи Реформации среди образованных людей вызревало мнение, что христианство нуждается если не в замене, то хотя бы в обновлении, и чем крепче становилось это чувство, тем охотнее люди брались за поиски альтернатив.
При этом для самого Ницше язычество – будь то религия Диониса или Заратустры, нападки на «помышления рабов» или прославление «белокурой бестии» – было скорее метафорой, нежели осознанным отказом от привычной религиозности. В конце концов, недаром он называл своего «Заратустру» пятым евангелием и рассуждал о новом пришествии благой вести. Однако так уж совпало, что эти философские упреки в сторону «религии угасания и смерти» дополнительно удобрили европейскую религиозную почву и дали многим мыслителям-традиционалистам, от Германа Вирта до Алена де Бенуа, лишний повод призывать к восстановлению язычества как религии, не затронутой «христианской пагубой».
Ниже мы увидим, что возврат к язычеству – разумеется, возврат условный, скорее вымышленный, чем реальный, – начался в Европе задолго до знаменитых слов Ницше. В каждом отдельном случае за стремлением вернуть «веру предков» стояли совершенно конкретные обстоятельства и убеждения, но все-таки возможно выделить в этой пестрой картине социальных взаимодействий некоторые общие черты, которые позволят понять, почему Европа после полутора тысяч лет господства христианской веры не просто взялась перенимать чужую религию, а вспомнила о давно как будто забытой вере собственной.
Предыстория: от Возрождения до романтизма
Древнее язычество, некогда процветавшее в античной Ойкумене, окончательно пало приблизительно в VI веке нашей эры, когда византийский император Юстиниан объявил жесточайшие гонения на все вероисповедания империи, за исключением христианства.
Этому событию предшествовал, если ограничиться лишь рамками нашей эры, краткий миг торжества двумя столетиями ранее, когда при императоре Юлиане Отступнике язычество стало равноправным с прочими религиями, но до образования полноценной языческой «церкви» дело все же не дошло.
Впрочем, и после гонений Юстиниана христианские священники в проповедях не переставали громить языческие обряды и суеверия, вкладывая в слово «языческий» самое разное содержание, – вплоть до того, что объявляли язычеством те варианты христианства, которые в чем-либо отличались от принятых в конкретном государстве (христианский канон еще сложился не до конца). Европейские хронисты сообщали о походах против «язычников», имея в виду то народы Северной Европы, то балтов и славян, а то и мусульман. Более того, в Великом княжестве Литовском язычество считалось допустимым до принятия христианства правителем Ягайло в конце XIV века.
Конечно, это были принципиально разные язычества, и уравнивать средиземноморские культы, испытавшие вдобавок сильное ближневосточное влияние, с языческими культами севера и востока Европы вряд ли правомерно. Однако такое «подспудное» и почти всеобщее бытование язычества даже после утверждения христианства, пусть в совершенно различных социальных условиях, подталкивает некоторых исследователей к рассуждениям о длительном существовании языческой Европы. Многие теоретики современного язычества охотно подхватывают эти рассуждения, подкрепляя ими собственные взгляды на непрерывность традиции. Вот только непрерывность при внимательном рассмотрении оказывается мнимой – на рубеже XIV–XV столетий «старое» язычество исчезло по всей Европе и превратилось из живой религии в наследие древних народов, в культурный и символический ресурс.
Осознание этого факта состоялось в эпоху Возрождения. Демонизированные было христианством античные языческие боги вернулись – уже как возвышенные аллегории Любви, Красоты, Порядка и прочих добродетелей. Византийский философ Гемист Плифон в своем трактате «О законах» и вовсе предложил принять новую государственную религию, отличную от христианства и ислама, – религию олимпийских богов, избавленную от кровавых жертвоприношений. Другие мыслители приступили к поискам «изначального богословия», будто бы свойственного древним народам; по замечанию историка Воутера Ханеграффа, «язычество словно достали из закромов».
Кроме того, в ту эпоху европейцы активно осваивали территории за пределами привычного круга земель, устанавливали новые торговые отношения и рассылали христианские миссии в отдаленные края; эти контакты с новооткрытыми культурами заставляли задумываться о том, насколько универсально европейское мировоззрение, в том числе в религиозном выражении, и справедливо ли отвергать все нехристианские верования как языческие и подлежащие искоренению. Да и в самой Европе все отчетливее ощущался интерес к национальному прошлому, благодаря чему языческое наследие, причем не только античное, постепенно становилось предметом изучения – и даже модным увлечением.
Именно это произошло, к примеру, с культурным наследием кельтов. В XVII–XVIII столетиях Западную (и отчасти Восточную) Европу охватила так называемая кельтомания: просвещенная публика отказалась от уничижительных насмешек в сторону «диких кельтов» и принялась наперебой восхищаться доблестью «славных галлов», сражавшихся некогда с римлянами, скупать и коллекционировать старинные рукописи и предметы кельтского – ирландского, шотландского, валлийского и бретонского – быта, искать «стародавние камни», интересоваться кельтской музыкой и кельтскими языками. Причина была проста: в кельтах вдруг увидели своих предков, наследие которых стало осознаваться как значимое для складывания современных наций.
Дополнительно «кельтоманию» подстегнула публикация в 1761 году «Поэм Оссиана» шотландского поэта Джеймса Макферсона – одной из наиболее известных в истории литературы мистификаций. Довольно долго читатели пребывали в уверенности, что Макферсон в самом деле отыскал и просто перевел на современный английский язык сочинения легендарного ирландского барда III века Оссиана, сына Фингала.
«Оссианизм» стремительно распространился по Европе; Гёте вложил в уста своего героя Вертера такие слова: «Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера», и с Вертером наверняка бы согласился любой европейский интеллектуал той поры; поветрие достигло и России, под чарами «Поэм Оссиана» побывали едва ли не все русские стихотворцы того времени, от Державина до Пушкина.
О кельтах в России
Один из пионеров отечественной любительской фольклористики Григорий Глинка (1776–1818) утверждал, будто скандинавские «Эдды» «повествуют о чине, порядке и происхождении цельтийских (кельтских. – К. К.) богов». Вальхалла была для Глинки «цельтийским раем», а Одину служили «цельтийские жрецы». Эти представления, отчасти обусловленные политическими соображениями, разделяли не только в России, но и в Европе, где среди германских народов – точнее, среди германоязычной элиты – кельтская древность довольно долго трактовалась как общее языческое наследие и лишь позднее уступила место древности «тевтонской».
Забавно, кстати, что в сочинении Глинки «Древняя религия славян» (1804) мимоходом упоминался историософский миф, популярный сегодня среди некоторых российских язычников и сторонников теории «русского приоритета»: «Славяне жили в соседстве с теми и другими (с греками и кельтами. – К. К.), и станется, в своих мечтаниях подражали и тем и другим, а может быть, и подлинниками в оном (в поклонении богам. – К. К.) обоим были».
А поскольку эти якобы древние тексты рассказывали о деяниях богов и подвигах героев, «кельтомания» затронула и религию: языческие культы кельтских богов старательно описывались по обрывочным сведениям в античных и средневековых хрониках – или и вовсе придумывались и выдавались за подлинные, как было с «Поэмами Оссиана» или с «монотеистической религией друидов» (см. ниже).
С тех самых пор «кельтомания», то ослабевая, то вновь усиливаясь, сделалась одной из составляющих общеевропейской культуры; в этом качестве она проникла и в новую религиозность современной эпохи, о чем свидетельствуют, в частности, такие новоязыческие направления, как друидизм и викка.
На севере Европы в XVII веке разворачивались иные процессы: в Швеции, например, усиленно конструировался готский миф – провозглашалось, что древние готы, покорители Рима, были выходцами из Скандинавии, следовательно, «варварское» северное наследие, вообще-то, древнее христианства, и этим наследием нужно гордиться. Натуралист Олав Рюдбек ничтоже сумняшеся заявлял, что Скандия (нынешняя Скандинавия) – прародина большей части человечества, колыбель культуры и веры: дескать, именно от «древних северян» греки и римляне заимствовали свою поэзию и мифологию, а египетские языческие культы были основаны «странниками из Маннхейма» («людского дома», то есть Скандинавского полуострова). Когда были опубликованы «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» и некоторые северные саги, где действовало племя геатов, эти тексты в Швеции признали лишним доказательством готской древности и исконности «готской веры».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.