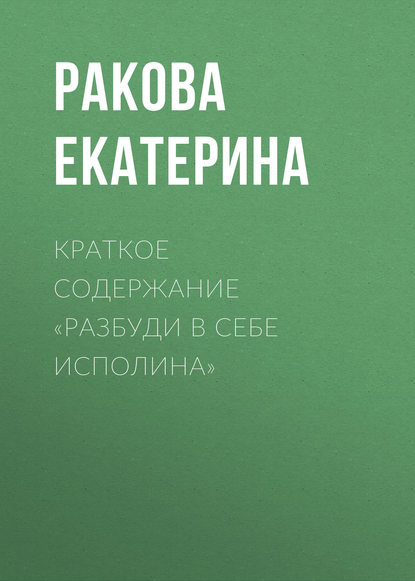Нулевые. Россия с небольшой поправкой к реальности: где-то в горах Камчатки существует бездна, названная Разломом: кто-то говорит, что это место, где мир духов соприкасается с миром людей, а кто-то — что это аномалия, странная и опасная, в которой можно встретить и чудо, и смерть.
С Разломом связаны двое — муж и жена, Куннэй и Ван-И. Куннэй по-якутски значит «солнце» и Ван-И ее так и называет — солнцем. Бабушка Куннэй была удаган, шаманкой, она и ее учила видеть жителей с той стороны.
Волею судеб Куннэй остается в доме друга своего мужа, Моро, который на поверку оказывается айыы, духом в теле человека: ее тянет к нему и она уходит к нему, выбирая не просто другого мужчину — она выбирает мир, где живут духи.
В то время как муж Куннэй, обрусевший китаец Ван-И, занят испытанием терапии последствий влияния Разлома. Ван-И умен, в чем-то идеалист — но вынужден быть частью бюрократической машины, спасение жизней в которой — не гарантия и даже не цель, а случайный побочный эффект.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Коллекции
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация