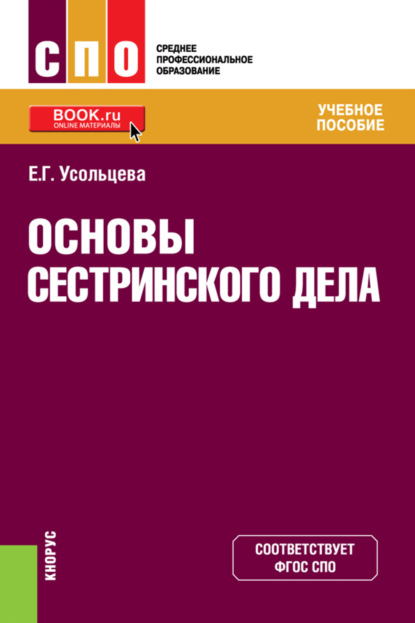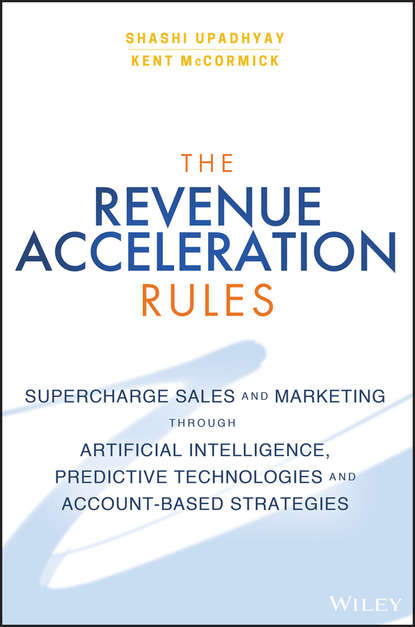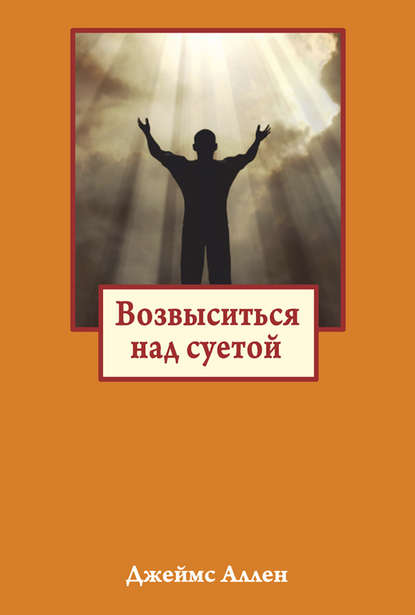- -
- 100%
- +
Пауза.
– Вот видишь, тогда зачем спрашивать? – резонно заметил Моро, сел за стол чуть наискось от нее и отхлебнул кофе.
Куннэй проводила глазами едва заметную под бородой тень, обозначавшую его кадык.
– Так как тебя зовут?
Куннэй было хотела было спросить «Что?», возмутиться даже, но не стала.
– Куннэй. Ты не помнишь?
– Плохая память на имена. Кюннэй?
– Куннэй. Значит «солнце» на моем родном языке, если так будет проще.
Моро пожал плечами: «не будет».
– Что ж, Куннэй, постараюсь запомнить. Ты не злись на меня, в конце концов, в тебе есть вещи поинтереснее имени, – сказал и сделал неопределенный жест рукой.
Она отпила: кофе был вкусным. Хотя и сваренным в кастрюле и забеленный молоком – долго-долго она всем говорила, что не любит кофе с молоком, но сейчас… это явно было меньшее зло.
– Вещи поинтереснее? Это какие, например?
Он сидел молча долгие две секунды. Отхлебнул еще кофе, встал, подошел к магнитофону и после секундных колебаний втолкнул в него черный с алыми буквами диск. Тоскливо и потусторонне потянулось:
Yaw itam it
Awk haykyanayawk…
Вернулся, сел:
– Всякие вещи. Разные. Покажешь подвеску?
Куннэй сжала идола пальцами и, после секундного колебания, сняла, протянула Моро:
– Аккуратнее только. Это идол, он… очень ценный. Оберег. Знаешь, до того, как я встретила Ван-И, я толком никуда не уезжала из дома, тем более так далеко, как сейчас. Почти другой мир… хотя банально звучит, глупо даже.
Моро взял идола из ее рук ласково, – на мгновение, радостное, долгое мгновение соприкоснулись их пальцы, – поднес к глазам.
Далеко и тоскливо звучала незнакомая ей музыка, и пели на странном, непохожем ни на какой языке голоса:
…Yaw itam hiita qa löl mat awkökin
Yaw yannak yangw sen kisats…
– Костяной, значит. Из чьей кости?
– С-странный вопрос.
Моро пожал плечами:
– Почему? Люди часто делают обереги из памятных вещей… памятных веществ. Культ почитания предков, значит-ца, в более или менее выраженной форме. – Моро повернул в пальцах, посмотрел в закрытые, спокойные глаза идола. – Примитивизм.
– А вот и не смотри, раз примитивизм!
Куннэй вскочила и, перегнувшись через стол, выхватила фигурку из его рук, прижала к груди:
– Много ты понимаешь!
– Уж побольше твоего. Это кость близкого родственника, а? Мамы?
– Бабушки, – тихо сказала Куннэй и разжала руку: все так же смотрел идол, белый на смуглой ладони.
Моро смотрел на нее спокойно, ровно: «Продолжай».
– Она говорила сжечь ее после смерти, так и сделали. Так она вернулась к… огню, в общем. Все удаган, ойууны, – звонко срезонировал родной ей «йу» у края гортани, она осеклась, поправилась, – то есть, шаманы общаются прежде всего с небом и огнем, а после дымом возвращаются в него же. Говорят, в тот день от костра валил такой густой дым, черный-черный, до неба, а потом, когда уж прогорело… в углях лежал он вот. Идол.
– Говорят? А ты сама не помнишь что ль?
Куннэй покачала головой:
– Я болела, не могла прийти. Странная была болезнь, тяжелая. Может, и неправда все это… Знаешь, я кроме тебя никому это не говорила. Стыдно, что ли, слишком как-то лично. Хотя что ты можешь понимать в этом, людском.
Моро посмотрел на нее долго, испытующе: что-то было там, по другую сторону его чистых голубых глаз. Но что? – Куннэй не знала.
– Шаманы, значит. Всегда странно встречать кого-то в этом роде, тем более сейчас. Нонче всякие такие штуки вроде как не в моде, в моде вещи… поматериальнее, а? Верно говорю? – Моро улыбнулся, что-то в этой улыбке не понравилось Куннэй. – Шаманы… И ты что, тоже шаман?
– Нет. Не тоже. То детские глупости, так… А я того, поматериальнее.
– Да-да, точно: геолого-физический.
– Геолого-геофизический.
– Никакой разницы.
Играла музыка. Низкий далекий голос уныло и строго все повторял и повторял:
Koyanisqatsi…
Koyanisqatsi…
Koyanisqatsi… 2
– О чем поют?
– Коянискатси, – он пропел это слово так же низко, так же далеко. Моро явно был не обделен талантами. – Что-то вроде «жизни на грани распада» или «беспорядочной жизни».
– Ты понимаешь этот язык?
– Я даже не знаю, что это за язык. Но мне и не нужно знать, чтобы понимать смысл речи людей: потому что понимаю я не слова, а то, что за ними. Понимаю в обход языка. Иначе бы «духи» никогда не поняли людей, скажи? Вы же все так же называете нас духами, а?
– Странный ты.
– Просто вижу мир не так, как ты. Хотя отчасти… отчасти, может, и так же. Как ты там говорила, «в дыму и в измененном состоянии сознания»?
Куннэй пожала плечами.
Повисло молчание. Только сейчас Куннэй заметила, что та песня кончилась уже некоторое время назад. Наконец, он опустил взгляд к кружке, одним глотком допил остатки кофе, вытер усы тыльной стороной ладони и встал:
– Я на охоту сегодня…
Хмыкнул, задумчиво посмотрел в окно: солнце было высоко, но оно лишь обозначалось пятном в белесой пелене неба. На черную между грязноватым снегом и льдом землю по-ноябрьски вяло падал дождь.
– Хотя нет, лучше завтра. Вон туда, – он кивнул на окно. – Уйду до рассвета, так что не теряй особо. Может, за день-два и вернусь, может, нет… как пойдет.
Куннэй отпила кофе, наклонила голову:
– На охоту?
– Не глухая поди. Топь тут есть неподалеку… ну как неподалеку. Километров двадцать-тридцать. В общем, птицы там много всякой, а небо любит птиц.
«Небо любит птиц», – повторила Куннэй про себя. Что-то она почувствовала странное в этих, таких простых, словах.
Она сжала кружку, спросила:
– А можно с тобой, а? На охоту.
– На охоте лучше без людей.
Стыд кровью прилил к ее щекам, она опустила голову к столу: конечно, глупо было и думать.
– Сама пожалеешь ведь. Да и для тебя есть занятия и получше, – пожал плечами Моро.
Встал, поставил кастрюлю в раковину, кружку в кастрюлю.
– Какие такие занятия?
Моро обернулся на нее, остановил взгляд в паре сантиметров выше ее головы. Куннэй все думала, повторять ей вопрос, не повторять, услышал он, не услышал – она вдохнула, открыла рот, повторила про себя первое слово фразы…
– Увидишь. Ты главное, человек, не стесняйся, будь как дома, – вдруг сказал Моро и ласково, нежно улыбнулся. По-кошачьи.
Куннэй улыбнулась ему в ответ без уверенности, но с просьбой о пощаде.
***– Главное – эт, человек, любовь, – сказал Моро, сжал пальцами топор и ласково приложил лезвие к бодро вращающемуся кругу точильного станка.
Куннэй неуверенно улыбнулась:
– Аг-га…
На всякий случай отошла на пару шагов подальше от него, и вовремя: от соприкосновения металла с абразивом разлетелся пучок искр.
– А это разве не опасно здесь? Тут же все такое, ну, знаешь…
Она повертела головой, от рассохшихся досок пола, к таким же доскам стен, между которыми густыми полосами текло теплое, ласково-желтое солнце, к стене аккуратно сложенных дров, одно к одному, с кусками коры, с подтеками смолы. Она вдохнула и, медленнее, выдохнула густой запах дерева, наконец, нашла нужное слово:
– Тут все очень легковоспламеняющееся, – сказала Куннэй.
– Да не ссы ты, – махнул рукой Моро, проверил пальцем остроту лезвия и снова приложил той же стороной. Провел по всей длине, от нижнего до верхнего угла, поднес к глазам. – Как будто первый дровник, ну в самом деле…
Куннэй очень хотелось кое-что ему сказать, но она не стала. Только вздохнула, смела рукавом опилки со стоящего рядом пня и села, положила подбородок на руки.
– А зачем нам топор?
– Нам? – поднял на нее глаза Моро, покачал головой, – ну что люди за люди… Нам-то незачем, а вот мне – нужен. Так, посмотрим-ка…
Отнял лезвие от круга, коснулся лезвия пальцем, удовлетворенно кивнул, а после стер футболкой оставшуюся на топоре кровь и приложил его другой стороной.
– Какой ты сегодня загадочный.
Он задумчиво смял подбородок, пожал плечами и ничего ей на это не сказал. Куннэй опустила голову чуть ниже на руки: тепло легло солнце на щеку, грело. Вдруг – она приподняла голову, заправила волосы за уши, села на самый край пня, так что выступавшая кора продавливала ее мягкие, здоровые ноги. Опустила руки между колен, глаза сощурила так, что солнце упало и отразилось от их второго дна.
– Слу-ушай, Моро…
– Гм? – подтвердил наличие слуха Моро, скосил на нее глаза, но тут же вернул, вновь занявшись топором.
– У меня возник… точнее, не то чтобы прям возник, не хочу, чтобы ты думал, что я об этом прям думала, потому что это вовсе и не так, но… но если, как сказал бы Ван, от эмпиризма шагнуть к идеализму, к умению мыслить теоретически, оно же, в некотором смысле, сослагательно…
– Я смотрю, наличие Ван-И все-таки оставило на тебе след.
– А в этом разве что-то плохое?
– Не. Мне даже как-то легче стало: его словоблудные таланты не пропадают бесславно, слушатель есть, все дела. Это… – он обнажил зубы в широком зевке. Среди искр, запаха металла и дыма Куннэй различила очертание длинных острых зубов, раздвоенного языка. Наконец, он закончил, – это обнадеживает.
– Специфическое у тебя представление о человеческих отношениях и его целях.
– Ну а то как же! – с гордостью сказал Моро, поднял над головой топор и словил блестевшим теперь лезвием луч остаточно, по-осеннему теплого солнца. Опустил, посмотрел ребром. Цокнул языком и вернул лезвие к станку. – Самое специфическое из всех представлений. Так что там хотела спросить? Не стесняйся, будь как дома, путник.
– Спросить? Да, спросить, причем гипотетически… да, верно, и хочу подчеркнуть: исключительно, слышишь, Моро, исключительно гипотетически!.. Мне стало интересно с научной… нет, какая тут наука: с обывательской точки зрения.
– Ага.
– Ну во всяком уж случае не с личной, я ведь порядочная, в конце концов, замужняя женщина… нет, девушка. Что-то я все глупости собираю.
– Ага.
По тону его голоса нельзя было понять, слушал он ее, не слушал – но Куннэй предпочла не отвлекаться на такие пустяки.
– Кхм-кхм-м, ну так вот: теоретически есть какие-то… так, дай подумать как сказать…
Вдруг Куннэй покраснела сложила вместе пальцы, затем полностью ладони, наконец, решилась:
– Итак…теоретически. А есть какие-то объективные причины невозможности союза между человеком и, ну, драконом?
Моро остановил станок, поднял на Куннэй серьезные синие глаза, глубоко вздохнул. Сказал:
– И это ты хотела спросить?
– Да. Так есть…
– Не, нету.
Куннэй открыла было рот и замолчала, забыв его закрыть.
По всем внешним признакам она определенно о чем-то крайне напряженно думала. Моро вернулся к своему делу, в тишине прошла долгая минута.
Две минуты.
Три.
– Что, неужели совсем никаких?
Он зевнул, на этот раз прикрыв рот плечом, после чего посмотрел на нее, улыбнулся:
– А что, без запретной невозможности и неинтересно, а, человече? Может, еще и наращиваешь экзотику? Сначала этнический китаец Ван-И, потом… ну, получается что я.
Моро довольно прищурил глаза и с душой воткнул топор на половину лезвия в пол. Куннэй вскочила, снова села, перекинула ногу через ногу, отвернулась от негг.
Не смотреть ему в глаза, не смотреть ему в глаза, не смотреть…
– И вовсе ты не причем, Моро. Говорю же, что теоретически. Сам подумай, это было бы логично: ты, все-таки, дракон, по всей видимости тысячелетнее существо и, опять же по всей видимости, принципиально отличной от людской природы, так что… ну, было логично предположить. А еще у тебя нет, не знаю, гарема с сотней наложниц, вот мне и стало интересно!.. Теоретически.
– Как у людей все просто: можешь – делаешь, так, а?
– Ну, я бы добавила еще хочешь. «Хочешь – можешь – делаешь»… вот так, да.
Моро молчал. Куннэй снова повернулась к нему: как и всегда, Моро был спокоен. Не спеша достал сигарету, поджег от газовой зажигалки (только сейчас Куннэй заметила, что на корпус был наклеен сине-алый дракон, бескрылый, китайского типажа), втянул и выдохнул дым. Вдруг ощерился, провел ногтем у первого премоляра, Куннэй прищурилась, беззвучно очертила губами несколько слов – вполне человеческие крупные зубы обратились в клыки, ноготь – в острый, с глубокой трещиной коготь…
– Что, интересное показывают?
Куннэй тут же затрясла головой, но поспешно остановилась, кивнула: «конечно, интересно». Но больше решила пока не всматриваться по соображениям вежливости. Моро вдохнул, выдохнул, сказал:
– «Хочешь, можешь»… если бы все было так просто, эть! А питание? А медицинское сопровождение? Гаре-ем!.. Ну, человече… За, как ты предположила, тысячелетние существование я кое-что в этом понял, так что… Эх, да что тебе говорить. Кстати, а насколько твой вопрос, того, теоретический?
– Полностью теоретический, – сказала Куннэй и услышала, как бьется огромное, беспокойное сердце в обоих ее ушах.
– Ну, это твое дело.
Он сжал сигарету между зубов, легким движением могучей руки вынул топор из досок пола и, казалось, с принципиально новым усердием провел лезвием по станку. Куннэй глубоко вздохнула. Спросила:
– А топор все-таки зачем?
– Мне зачем топор?
– Тебе.
Моро пожал плечами и не посмотрев на Куннэй, с непроницаемым лицом ответил:
– У мужчины таких личных вещей не спрашивают. Понимаешь, к чему веду?
Куннэй сузила глаза, посмотрела на Моро. Моро поднял брови, посмотрел на Куннэй. Она наклонила голову – но на полукивке повела головой из стороны в сторону:
– Не-а.
Моро пожал плечами, улыбнулся ласково-ласково и ничего не сказал. Последний раз провел лезвием по станку, жестом попросил ей дать еще вон тот топор, поменьше – и аккуратно приложил и его к кругу, и в синих глазах отчетливо мелькнул металлический, кровожадный блеск.
Одна особо бойкая искра отлетела, упала на пол рядом с ногой Куннэй и потухла, оставив пятно на доске.
***День был просто чудесный.
Совсем по-весенному, – казалось, прощально, – светило солнце, таял свежий белый, скудный до прозрачности снег. Тонкие, совсем нагие березы сменились елями, соснами, кедрами, и небо над головой становилось все меньше: его замещала зелень. Вечная, пышно-темная зелень… Куннэй запрокидывала голову, смотрела вверх, на неровный кусок ясного неба, прижимала к груди вверенный ей моток веревки.
Красиво.
– Не отставай, человече.
Моро шел впереди. Непринужденно время от времени подкидывал то вместе, то поочередно два наточенных топора, ловил. Подкидывал выше – и снова ловил.
– Не отстаю я, не отстаю.
– Веревку не посеяла?
– Нет.
– Вот и славно.
Куннэй кивала, улыбалась и судорожно вспоминала молитвы.
– Оп-ля! – басово воскликнул Моро, особенно весело кинул топор, и тот застрял в ветвях в пяти метрах над ними. – О, как интересно получилось.
Моро остановился, перехватил рукой второй топор и задумчиво почесал бороду. Куннэй подошла, встала по левую руку от него, подняла голову вверх.
– Разве?
– Ага.
– Довольно высоко, – сказала Куннэй. – Жаль.
Моро повернул к ней голову, задумчиво посмотрел сверху вниз. Это было неизбежно: она определенно отставала в своем развитии примерно на двадцать пять сантиметров и не менее чем на шестьдесят килограмм чистого достоинства.
Куннэй скосила на него глаза:
– Я что-то не то сказала?
– Не, ничего, – сказал Моро. – Ну что, как достанем топор?
– Дай подумать… может, я залезу и попробую столкнуть… то есть, ты тоже можешь попробовать залезть, но ветка довольно тонкая, так что может обломиться, и поэтому… а еще у нас зачем-то есть веревка, так что…
– Все мимо. Отойди, пожалуйста.
Она кивнула, сделала шаг назад, и Моро ударил кулаком по стволу: могучая дрожь прошла по земле, гулко и жалобно она отдалась в кронах сосен и елей – и топор упал и вонзился в мягкую от воды и мха землю туда, где минуту назад стояла Куннэй. Моро его поднял, отер о штаны и вновь пошел вперед, теперь уже не выпуская из рук.
– Какой же ты…
Куннэй не договорила, а Моро ничего не услышал. Или сделал вид, что не услышал.
И чем дальше они шли, тем темнее, гуще был лес, реже – бледно-желтые пятна солнца. Не слышно стало птиц. Только шелестела земля под его и ее шагами, только холодом дышала тьма от готовящейся к зиме земли. Моро шел быстро, не оглядывался на нее, и Куннэй приходилось смотреть в оба, чтобы не отстать и не остаться один на один с бездонно-безмолвным лесом. Ели совсем остались позади, начались пушистые, с далекими вершинами, с тяжело-мягкими ветками кедры.
Зачем же все-таки топор? А веревка? Зачем же?..
Но спрашивать Куннэй не стала. Почему-то – не стала.
И когда солнца скрылось, когда холод отчетливо осел на землю и на кожу Куннэй – только тогда Моро остановился. Он молча отдал ей топор, тот, что поменьше, отошел на шаг. Моро долго посмотрел ей в глаза, замахнулся и…
Куннэй закрыла голову рукой, другой – сжала топор, зажмурилась, жалея о своей короткой глупой жизни, о том, что уехала из дома – вся жизнь кувырком, в одно мгновение пронеслась перед ее глазами: бабушка, дом, Ван-И, город, Моро; и все показалось бессмысленным, жалким, и все-таки она более отчаянно, более ярко, чем когда-либо, поняла, что она была так близка к тому, чтобы понять, чтобы стать ближе к тому, что ей действительно…
Лезвие с глухим стуком вошло в толстый ствол дерева.
– Ты совсем дура, а, человече?
– Что?
Она открыла глаза, не убирая руки от головы: Моро покачал головой, размахнулся и еще раз с силой ударил по дереву. Куннэй моргнула, осознавая происходящее. Еще раз моргнула.
Ой.
– Ты что подумала, а? Дуэль на топорах на лоне природы?
– Я? Подумала? Не-ет, что ты, какой подумала, то есть… конечно, нет, в смысле… – Куннэй улыбнулась, повела руками в воздухе, словно пытаясь нащупать дальнейшие слова. Вдруг топор выпал из ее руки, глухо ударился о землю. – Ой, как неловко получилось-то… Прости, пожалуйста.
Моро усмехнулся, потрепал ее по голове тяжелой рукой:
– Ничего, человече, на этот раз ты прощена. Вообще дуэль на топорах – отличная идея, но ты явно недостаточно достойный для этого противник.
Он убрал руку с ее волос, перехватил топор.
– Да и Ванька бы расстроился, а?
– Д-да… пожалуй.
Моро кивнул, замахнулся и с силой опустил топор на ствол. Лезвие вошло глубоко, параллельно земле. Он уперся ногой о ствол, вынул топор, замахнулся…
– А мне что делать?
– А кстати.
Моро замер, воткнул топор чуть выше сруба, взял веревку из рук Куннэй, отмотал кусок, сжал конец в зубах. Вдруг налетел ветер, на глаза Куннэй набежали слезы, Моро смазался, растворился – и в следующую секунду кедр был обвязан веревкой вокруг ствола, чуть выше нижнего уровня веток.
– Держи, иди во-он туда и тяни на себя, понятно?
– Зачем?
– Будешь страховать. И подпевать.
– Что?
– Иди-иди уже. Кстати, крикни, как дерево начнет падать, лады?
– Лады.
Моро махнул ей рукой, мол, «иди уже», повел плечами, скинул куртку, обнажив крепкие руки и волосатую под тонкой майкой грудь. Вытащил из ствола топор, замахнулся, вдохнул так, что натянулась майка под животом и грудью и…
– Эх ду-у-убинушка-а-а, ух!.. – с силой опустил топор, вынул, замахнулся, – ухне-ем.
Куннэй обошла дерево, так, что за широким стволом она и не видела Моро, но все так же отчетливо слышала его громкий, низкий и удивительно чистый голос. Она уперлась ногами в мягкую от палой хвои землю, как могла крепко сжала веревку, надула щеки.
– Эх зеле-еная са-ама пойде-е-ет…
Бойко вошел топор в ствол, отлетели щепки. Моро замахнулся, ударил снова, уже не параллельно, а под углом и чуть выше предыдущих надрубов.
– Поде-ернем, поде-ернем, да ух!.. – вогнал, с чувством замахнулся. – ухне-е-ем.
– А оно на меня не упадет? – робко спросила Куннэй, напрягая слабое горло.
– Не должно, – безмятежно ответил Моро и ударил с новой силой. – Как, запомнила слова?
– Запомнила… кажется.
– Славно. Ну, давай: эх, ду-у-уби-и…
И к его басу присоединился тихий, высокий голос Куннэй:
– …би-инушка ух!.. нем.
– Эх зе-еленая са-ама…
– …пойде-ет…
Но с каждым новым ударом, с новым слогом она чувствовала, как давно забытый ей трудовой азарт вливается в ее тело, как крепнет ее голос, как врастают ноги в землю и руки – в веревку, которую она держала.
Все глубже Моро вгонял топор, отлетали клинообразные куски дерева, вырубаемые им – и вдруг раздался треск. Веревку в руках Куннэй дернуло вперед, вырвало, и она видела, как далеко-далеко, словно бы вязко качнулась верхушка дерева, накренилась в сторону подруба…
– Моро! Оно падает, Моро!
Он прервался на половине строки, по земле и к небу пронесся горячий, странный ветер…
«Взлетел», – поняла Куннэй и подняла голову, туда, где он, конечно, должен был быть. Туда, где она его не могла видеть, не сейчас. Туда, где за падавшей многотонной громадой дерево открывалось небо…
Кедр упал. Тяжело качнулись ветви, раздался треск, она закрыла уши – и увидела, что Моро, блестящий от пота, счастливый, стоял рядом с ней. Он выдохнул, горячий пар его дыхания застыл в воздухе. Сказал:
– Что-то я перестарался, а?
– Разве?..
– Ага. Не должно оно… фу-ух… того, само падать.
Тяжело вздымалась грудь Моро, от него остро и пряно пахло потом, но глаза блестели – он радостно, прямо смотрел на Куннэй, и она чувствовала, как в эти минуты она близка ему.
– Зато… – Куннэй неуверенно улыбнулась, встретилась с ним глазами, – зато как упало, да?
– Отлично упало, чуть не сдох.
Моро рассмеялся и тяжелой рукой дружески, братски прижал ее плечи к себе.
– А ты начинаешь мне нравиться, человече.
Ей стало тепло-тепло, легко от его слов, грудь наполнилась дрожью. Она снова перевела взгляд на дерево, величественное, тяжелое, теперь – поваленное, сладко пахнущее свежей, голой древесиной.
– С-спасибо.
И все же Куннэй подняла руку к его руке, попыталась убрать пальцы с плеча, такие теплые, крепкие пальцы – и Моро тут же отпустил ее, отвел глаза. Он подошел к дереву, достал куртку из-под одной из ветвей, натянул на еще мокрые, остывавшие руки, спину.
И вдруг Куннэй поняла, что солнце уже клонилось к закату. От этого ей стало очень, необъяснимо грустно.
Наверное, потому что завтра еще до рассвета Моро уйдет.
Она потрясла головой, отгоняя эту мысль, спросила:
– А теперь… что с ним делать?
Моро достал сигарету, подпалил ее от зажигалки, затянулся… Пожал плечами:
– Да ничего не делать. Этот кедр ждет гниение, передача своего телу тем, продолжение жизни в телах других, ну и все в таком духе. Ты как, плавать умеешь?
Куннэй долгую секунду не знала, что и сказать. А после:
– Слушай, но… как же так можно, Моро? Зачем все тогда? Зачем мы…
Но Моро махнул рукой, перебил:
– Во-первых, изъятие этого дерева на строительные или другие какие нужды ударило по местной этой… как ее… экосистеме. А так – червячки всякие будут рады, личинки, грибы…
В глазах Куннэй отчетливо читалось простое слово «неубедительно», так что Моро продолжил:
– А во-вторых, потребность в материальной цели ограничивает. Вот доживешь до моих лет… хотя не, не доживешь, – он усмехнулся, затянулся, выдохнул. – Не хмурься ты, а? Ну так что, плавать-то умеешь?
– Да.
– Вот эт хорошо. Поплаваем сегодня, значит. После хорошей работы всегда хорошо бывает поплавать.
***Знакомая тяжелая дверь, шаг за порог – и под ее ногами была свежая трава, а вокруг – пропитанный искусственным желтым светом, напоенный запахом цветов и влагой теплый воздух оранжереи.
Вот мы и снова здесь. Вдвоем.
Куннэй покраснела, но тут же отбросила такие мысли, – нет-нет, да ни в жизнь, друг-моего-друга и не более! – и уверенно шагнула дальше, туда, где рябью отражались лампы на глади искусственного пруда. Моро зашел следом, плотно прикрыл дверь и тут же, у порога, снял с ног ботинки, носки, закатал штаны до колен, обнажив волосатые, с крупными тяжами мышц, икры, и уже голыми ступнями пошел к воде.
Между травой пробились корни, обвили его стопы и тут же набухли, вытянулись вдоль земли – Моро потрепал их, сказал:
– Но-но, что, уже соскучились? Экие вы тва-ари…
Он подошел к дереву, – трава не распрямлялась за ним, а ждала, хранила его следы, – ударил ладонью по стволу.
– Ну, шельма! Ну что, Куня, хорош?
Он кивнул на дерево, на его лопнувшую в нескольких местах кору, обнажавшую белый, блестяще-липкий от смолы и сока ствол.
Наверное, ядовитый.
– Д-да, – неуверенно сказала Куннэй, подошла к Моро ближе, стараясь наступать на как можно более голую землю. Напрасно: за ней никто не тянулся. Ни корня. – Милое деревце.