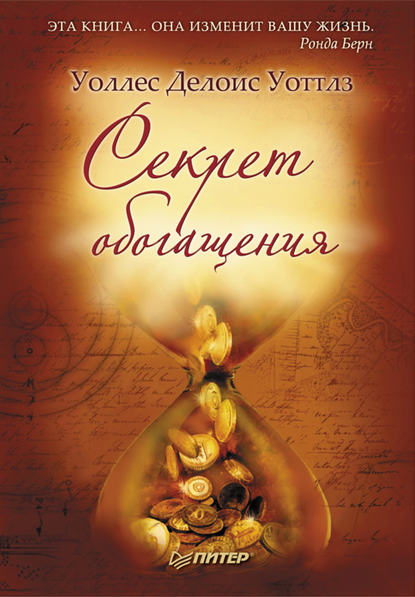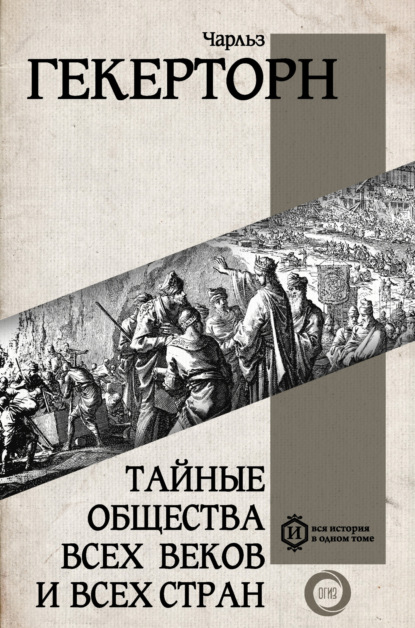- -
- 100%
- +
– Деревце, говоришь?
Моро улыбнулся, потрепал рукой по густой листве над головой и, чуть погодя, достал сигарету из кармана, поджег и легкими, пружинящими о землю шагами подошел к ней.
– Просто деревце? Что, не видишь ничего такого?
Он выдохнул, и в облаке дыма она едва различила острые клыки, раздвоенный язык…
– Не вижу, – сказала Куннэй. – Говорила же, мог бы и запомнить.
– Да-да, помню я… дым.
Сжал ее плечо, кивнул в сторону дерева, тоскливо-приветственно тянущего руки к Моро, к своему хозяину, а после втянул и вытолкнул сквозь зубы сигаретный дым совсем близко от ее лица, так, что она чувствовала щекой тепло его щеки.
– Эн-н-на… – протянула вполголоса, отыскивая резонанс с воздухом, с удушающим запахом.
И дым перед ее глазами растянулся и застыл в тощем, возвышавшимся над деревом… нет, идущим прямо из него силуэтом человека. Безротого, с огромными, поросшими зеленой плотью глазами, с руками, корнями уходящими в землю.
Они тянутся к Моро. Иччи… нет: это демоны, абаасы.
Она застыла, повернула голову к Моро. Он размял шею, шагнул в дым – тот застыл чешуей на гибко-длинном теле. Она видела его нечетко, он просвечивал, волнами сливался с воздухом и все-таки оставался различим, хотя бы штрихами. Дракон изогнулся дугой, разрезал воздух и обвил тонко-скроенного древесного духа. Они были повсюду: там, здесь, у самого края глаза – она полу-видела, полу-чувствовала нечеловеческое, странное, чужое присутствие. Куннэй подняла голову, встретилась с глазами сначала Моро, затем…
Человек?
Куннэй нервно вдохнула и вдруг закашлялась, рукой разогнала остатки дыма, меняя его скорость и характер движения, а значит – теряя и связь. И когда Куннэй открыла глаза, стерла запястьям выступившие от дыма на темных глазах слезы, Моро был уже просто Моро.
Он соскочил с неба на мягкую траву, и стоял теперь между ней и тихим, вяло в безветрии шевелящим листвой деревом. Плюнул на пальцы, затушил сигарету и убрал в карман.
– Ну, вот и познакомились. Хороши, а?
– Очень. Они?..
– Да так, мои приятели. С той стороны.
– Однако. – Куннэй присвистнула, запрокинула голову: но над деревом была только пустота, блеск стеклянного купола чуть дальше. Ничего. Она знала, что даже если, скажем, бросить камень, то он ни за что не зацепится. И все-таки… – Слушай, Моро, а эти твои, ну, приятели не опасны? Для людей там, а?
Он махнул рукой.
– Да не, милашки же, – только и сказал Моро.
Прошел мимо Куннэй, встал у берега, вдохнул глубоко, всей грудью, шумно выдохнул. Расправил пальцы на ногах, сгреб ими песок, мелкую гальку у берега, снова расправил, цокнул языком.
– Хорошо жить, и жизнь хороша.
И вдруг страх в сердце Куннэй пропал, стал далек, даже смешон, стыден ей: ничего не случится рядом с ним. Ни за что не случится.
– Драконы приносят удачу, – полушепотом, не осознавая слов сказала Куннэй. Улыбнулась.
– Что ты там говоришь, человече?
Он обернулся на нее, посмотрел своими веселыми, чистыми, как небо, глазами, все еще казавшиеся ей странными на суровом бородатом лице. Куннэй улыбнулась ему, сказала:
– Ничего, змий. Слушай, ты иди без меня, а я, может… так, по берегу поброжу.
– Зря. А чего так?
– Ну, видишь ли… не голой же плавать, в конце концов.
Моро пожал плечами:
– Почему нет? Как по мне, лучшая форма одежды – ее отсутствие. Эх, было время… Ну, ты как знаешь, человече.
Она пожала плечами и, вдруг почувствовал жар у щек, опустила голову, так, что тяжелые черные волосы закрыли лицо и лоб. Куннэй подняла к себе ногу, потянула вниз молнию на ботинке: та поддалась не сразу, была упертой, но Куннэй – еще упертее. Скинула первый ботинок, затем второй – стянула носки, закатала брюки высоко на бедра – и по колено зашла в воду, холодную, но приятно-холодную.
– А здесь тоже живут твои… приятели?
– Где, в воде? Не, здесь живу только я, – сказал Моро. И добавил, – Периодически.
Одним движением он стянул с широкого торса майку, липкую от остывшего пота, развязал узел на штанах. Куннэй отвернулась. И только слышала плеск, и легкие брызги упали на ее футболку, остались темными точками. Отвернулась, досчитала до десяти:
Раз… два… три…
И повернула голову: Моро гибкими, сильными движениями плыл к середине гладкого озера. Вскидывал руки, ронял их, поднимал белые брызги, пену – она тянулись за ним белыми полосами, но распадалась, таяла…
Безмятежность.
Куннэй зашла чуть глубже, расставила пальцы, погрузила ладони в воду, зачерпнула, умылась, снова зачерпнула, обмыла шею, намочила волосы, ворот – поежилась… И вдруг вернулась на берег. Не отрывая взгляда от Моро, теперь такого маленького, едва видного, она парой суетных движений стянула брюки из плотной ткани, кофту, не с первого раза, но потянула и разъединила крючки на замке лифчика, набросила волосы на плечи, сняла, но тут же вернула на шею костяного идола. Напрасно: все равно на нее никто здесь не смотрел.
Разве что приятели Моро.
Эта мысль показалась ей даже забавной. Но тем бодрее она наступила на камни, побежала, раздвигая сильными ногами плотную прозрачную воду, наконец, оттолкнулась, вдохнула, сжала зубы в предчувствии холода – и с головой нырнула вперед. Сначала неловко, привыкая к воде, но после – плавно и ленно она поплыла вдоль берега. Она плыла, а вода смывала с нее грязь, пот, беспокойство, усталость…
Куннэй перевернулась на спину, погрузила уши в воду: чернилами растеклись ее волосы. Куннэй не слышала ничего – ни плеска движений Моро, ни шелеста листвы, ни своего дыхания, а только глубокий, спокойный гул невидимых, но слышимых течений воды вокруг нее. Открыла, но тут же сощурила глаза: лампы светили так ярко, что она ничего не могла заметить, кроме пятен их света, и еле различала небо выше, там, за стеклом купола. Она зажмурилась, подала вверх живот, грудь, так, что соски показались над поверхностью и их холодом обнял воздух. Куннэй расслабила спину, опустила ноги глубже, оставив только голову, шею…
Полная безмятежность.
Руки стали тяжелыми, она перестала ими двигать, застыла. Зажмурилась… Вдруг лампы погасли, кончился день – и для нее, и, прежде всего, для зеленых приятелей Моро, и когда неровные пятна, отпечатки ламп на сетчатке ее глаз рассеялись, Куннэй увидела закат: бледно-розовый, растянутый по редким облакам – и облака, и уходящее солнце отразились в воде, скрыли под собой ее тело, так, что осталось только лицо. Она вдохнула, выдохнула…
И через зыбкую, плотную бесконечность солнца не стало видно, небо перестало быть розовым, стало серо-голубым, предсумрачным. И ее плеча кто-то коснулся:
– Ты что, заснула?
– А?..
От неожиданности Куннэй взбрыкнула ногами, не почувствовав дна – тут потеряла баланс, нырнула, вода обожгла ее нос и горло, но чьи-то горячие руки сжали ее подмышками, больно прижав левую грудь, рывком дернули вверх. Она с шумом вдохнула, закашлялась, отерла залитые водой глаза руками:
– Ты… совсем дурак, что ли?
– Сама дура, утонешь ведь.
Конечно, это был Моро. Наконец, проморгалась, посмотрела на него, едва различимого в полумраке сумерек и жжении глаз. Она чувствовала, как там, внизу, перетекала вода от мерных движений его ног и вдруг ей стало неловко, к щекам прилила кровь.
– Ладно, дура. Отпусти только, больно же.
– А сама доплывешь?
– Я не…
Теплые руки исчезли, холодом к ее коже снова прилила вода – Куннэй задвигала онемевшими, сонными ногами, но было так ленно, холодно… Секундное колебание – и она схватилась за Моро, скользкого от воды, сжала чуть выше локтя его горячую руку.
– Не доплыву, – сказала она. – Поможешь?
Моро посмотрел на нее: горели голубым его глаза, так странно, не по-человечески. Кивнул.
– Ладно. Держись за шею. И не дыши.
Куннэй хотела переспросить, но только глубже вдохнула, закинула тонкие руки его на шею и сжала, прильнув грудью к его горячей спине.
Моро отвел руки, и он нырнул, утянул ее за собой… Они плыли у самого дна, и Куннэй видела в слабых, голубых отсветах проникавшего сюда света блеск чешуи мощного, отталкивающегося от воды и повторявшего ее течение собственными изгибами тела.
Наконец, ее коленей коснулась земля, оцарапала галька. Дракон исчез под ее руками, распался в водяной поток и ветер, как только она подняла голову над водой и судорожно вдохнула. Убрала волосы с лица, встала, подставив нагое тело казавшемуся холодным воздуху.
Шаг, еще шаг – и Куннэй упала на траву и песок, вдохнула полной грудью, снова убрала волосы с глаз: рядом стоял Моро. Снова человек-Моро. И на его коже блестели оставшиеся капли воды, соединялись в ручейки, цеплялись за волосы на теле.
– Тебе не холодно?
– Я же змий, а? – сказал Моро, потряс головой, сбрасывая воду. Совсем по-собачьи. – А вот тебе лучше будет вытереться, заболеешь еще. Умрешь… ну, как вы там, люди, обычно делаете когда не надо.
Она усмехнулась, села… И вдруг Куннэй, спохватившись, прижала руки к мягким, со сжавшимися от холода сосками грудям, опустила голову.
А ведь мне не стыдно. А ведь я так, приличия ради.
– У тебя есть тут какая-то одежда?
Моро не ответил ей, вдохнул, – мучительная минута, его шаги, шелест, – и через пару минут он протянул ей полотенце и тяжелый, аккуратно свернутый халат.
– Полагаю, сгодится.
Куннэй кивнула: сгодится.
И пока она поспешно растирала холодную воду по коже, пока заворачивалась в огромный, явно не по размеру ей халат, Моро толкнул дверь и на траву, прямо к ногам Куннэй упал длинный прямоугольник света.
– Приходи на верхний этаж, фильм смотреть будем. Есть хочешь?
– Да.
– Ладно. Поняла куда идти-то, а, человече?
– Поняла.
Моро прикрыл за собой дверь и ушел, не обернувшись. А вот Куннэй смотрела ему вслед и чувствовала, словно упустила что-то важное, очень важное, но и сама не знала, что именно. Подняла голову к куполу, прислушалась к странно в безветрии оранжереи шелесту листьев: совсем скоро наступит ночь.
***Чай был черный, с сахаром, бутерброды – простые, но вкусные: колбаса, масло, хлеб. Ужас как вкусные, самые вкусные на свете, хотя Куннэй и знала, что дело не в них самих, не в этой колбасе и не в этом хлебе: дело в лесе, в озере, наконец, в самом Моро.
Она жевала увлеченно, стараясь, чтобы крошки не падали на полы временно-ее халата и на красную кожу кресел, но они все как-то туда попадали, и Куннэй поспешно стряхивала их рукой, тут же отпивала чай.
– Все то же сегодня смотрим?
– Ага.
– А какую серию?..
– Очевидно, вторую.
Куннэй кивнула, с усилием запихала последний бутерброд, раздув щеки, прожевала, проглотила и приготовилась смотреть.
Они сидели на одном ряду, через кресло: между ними были тарелка из-под бутербродов, кружки с чаем. Куннэй говорила не ставить туда, мол, разольется все – но не разлилось. Она мельком, как будто бы невзначай посмотрела на Моро, а тот, свежий, в чистой футболке, с блестяще-мокрыми волосами, смотрел на экран.
И она смотрела, как он.
Циферблат отсчитал от десяти до нуля, исчез, сложились в надпись белые буквы: «центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького», и откуда-то издалека хрустально и точно возникла знакомая мелодия.
Началась вторая серия.
Куннэй повернула голову: Моро был красив в этом белесом, отраженном свете. Во всем нем была какая-то даже удивительная для него одухотворенность. В который раз она подумала, что, пожалуй, никогда не сможет понять Моро. А значит, не стоит и пытаться.
– Не отвлекайся.
Куннэй надула щеки, скрестила руки на груди, задрала голову к экрану, на котором Отто фон Штирлиц, также известный высшему советскому командованию как Максим Исаев, клал в камин скомканный конверт и смотрел, как чернеют его сгибы в пламени.
Она смотрела, сначала – прикладывая усилия к тому, чтобы не отвлекаться, чтобы преодолевать сон, а после – легко. Привыкла. Несколько раз, – когда Штирлиц расставлял пешки на шахматной доске, когда Мюллер оправлял рукава пиджака, окруженный серо-бетонными стенами казематов, наконец, когда пастор слушал далекое от земли и от ее сует пение сыновей органиста, – Куннэй оборачивалась на Моро, но тот смотрел не отрываясь, очень пристально. Это было странно, ведь он точно смотрел не первый раз и, наверное, даже не второй, но все-таки…
Во всем этом была какая-то загадка. И Куннэй смотрела дальше.
Наконец, в серой воде утихла рябь, зыбко отразилось такое же серое небо, черные линии по-весеннему голых ветвей. Титры. Тишина.
Только теперь Моро потянулся, широко зевнул, оперся руками о подлокотники и встал.
– Ладно, я спать пойду.
– Хорошо, – вполголоса сказала Куннэй, тоже встала, поправляя на груди свой… нет, его халат. – И я пойду. Халат я постираю, кстати, а то…
Моро повернул к ней голову, внимательно посмотрел:
– Это зачем?
– Ну, я просто…
– Давай без этого. Не любишь же неловкие ситуации, а?
Куннэй улыбнулась, хотела, видно, что-то сказать, коротко вдохнула… и замерла. Не стала. Только долго, испытующе посмотрела на него.
Завтра ты уйдешь.
Может, и Моро об этом подумал, и потому как-то неуверенно, криво улыбнулся, сказал:
– Не умри ты тут завтра-послезавтра без меня, а то перед Ванькой неудобно. Такой он хороший парень все-таки, Ванька.
Она кивнула, опустила голову: и зачем он только о Ван-И?.. И вдруг вдохнула, подняла голову:
– Но я…
…шорох, тень у края глаза – и никого уже не было ни перед ней, ни за ее спиной. Моро ушел.
– …я могла бы пойти с тобой. Завтра.
Только у потолка щелкнул и совсем затих кинопроектор ей в ответ.
День четвертый
На следующее утро дом и впрямь был безукоризненно пуст. Куннэй не любила одиночество. Оно нагоняло тоску, тревогу, совсем немного – паранойю.
Она спускалась по лестнице, слушала свои гулкие шаги, говорила себе:
– Так-так, Куннэй, не впадай в уныние: тебя ждут восхитительные… эм-м… неопределенное количество дней, совершенно лишенных какого-либо человеческого общества. – шаг, еще шаг… и, чуть погодя, добавила, – И нечеловеческого, впрочем, тоже лишенные. Эх, да что я…
Вдруг замолчала, сжала в кулаке идола у шеи, обернулась рывком: кто-то здесь был, смотрел на нее. Куннэй знала.
«Кто-то с той стороны», – и от этой мысли стало холодно и жутко.
И все-таки она взяла себя в руки: вдохнула, выдохнула, одернула свитер. И пошла по лестнице, все быстрее и быстрее перебирая ногами по холодным ступеням. Лестница кончилась, она прошла до кухни, поставила чайник.
Газ горел в свете дня прозрачно, едва видно. Она поднесла к нему ладонь, приложила к блестящему боку чайника: теплый.
Может, Моро его уже сегодня грел.
Она улыбнулась этой мысли, положила голову на руки: такая простая, глупая мысль, а приятная. Почему-то очень, очень приятная. И продолжила смотреть на огонек там, под чайником, слушала шорох огня.
«– Слышишь, балам, как огонек дышит? У него душа есть, он твой друг, помощник твой.
– Какая такая душа? А он о чем-то говорит мне, а?
– А ты слушай, балам, слушай…»
Как и всегда, она помнила только всякую ерунду. И вдруг Куннэй почувствовала холод на спине, огонек чуть затих.
Кто-то здесь есть.
Замерла. Аккуратно повернула ручку на плите, дождалась, пока в чайнике исчезнет поднявшийся внутри пузырьками пара гул, говор. Но по мере того, как наступала тишина, в ней все ярче говорило предчувствие – давили стены, потолок, мебель, оставленная без хозяина, весь дом, оставленный без хозяина… Куннэй бросилась к окну, рукой нашарила ручку, сжала, надавила вниз, на себя – по-зимнему морозно из окна на нее дыхнула осень, тишина разбавилась ветром и далекими голосами птиц. И снова – дом как дом. Куннэй глубоко вдохнула, выдохнула:
– Что-то ты становишься нервной, Куннэй.
Она хотела закрыть окно, но опустила руку: потом. Вернулась к столу, снова зажгла от спички газ под чайником, выдвинула первый ящик, второй… Наконец, нашла: пачку лапши, пару десятков банок мясных и рыбных консерв, соль, сахар, одинокое в холодильнике молоко, банку груздей, банку гвоздей, несколько коробков спичек, а также – ручку с пустой в клетку тетрадью. Отодвинула стул, протерла стол, открыла тетрадь, расписала ручку быстрой косой спиралью и, старательно выводя буквы:
«План дел на сегодня:
1. Приготовить завтрак
2. Употребить приготовленное
3. Оздоровительно погулять
4. Позвонить Ван-И
5. …»
Оторвала руку, с минуту помедлила: было что-то еще. Что-то важное. Но… Встряхнула головой: нет, никаких «но»! Слишком мучительно чего-то не знать, слишком глупо – не хотеть знать. А потому она вернула ручку, и:
«5. Что-то узнать о Моро. Хоть что-то».
– Хорошо, что никто этого никогда не увидит, позор-то какой.
Хотела зачеркнуть, смять листок и выбросить, но – не стала. Дописала ниже:
«К выполнению приступить немедленно, соблюдая всю осторожность и произвольную очередность».
И через двадцать минут сорок пять секунд она вполне спокойно и целеустремленно пережевывала и глотала лапшу с крупно порезанными солеными груздями, запивала чаем с молоком.
А после взяла спички, вытолкнула пальцем лоток, вытянула за головку одну, но покачала головой: конечно, не здесь. Почему-то она твердо знала, чувствовала, что этот камень, дерево этого стола, любой иччи любой вещи здесь не знает ничего о Моро.
Куннэй сунула спичку обратно, коробок – в карман, вышла из кухни и методично, метр за метром, комната за комнатой, стала мерить шагами ворс ковров, открывала серванты, доставала из них тонко-хрустальные, отлитые из двух цветов стекол вазы и грубые, костяные кубки, разворачивала свернутые в трубы холсты, сложенные стопками черно-белые, реже цветные фотографии – на них были люди и места, которых она никогда не видела, которые ничего не говорили ей. Мужчины, женщины, старики, дети, помимо – множество странных, напоминавших древних языческих богов тварей в шерсти и чешуе, с мягкой грудью под чешуей и шерстью… Многие рисунки были небрежными, явными и часто неумелыми срисовками, отпечатками – и все-таки под кончиками пальцев, по дрожи в груди Куннэй отчетливо различала дыхание Времени.
Но Вещи молчали о своем хозяине. Вещи были мертвы.
И тогда она сворачивала обратно, складывала все так, как оно лежало ранее, вытирала о штаны остававшуюся на руках сизую пыль, шла дальше.
Дом был полон Вещей. Она перебирала, смотрела на них методично, стараясь угадать хоть в чем-то личность их владельца – но не видела и не угадывала ничего. И чем дольше она шла, тем тверже знала, куда ей следует идти.
Туда, где друзья.
***Ноги Куннэй приятно и ласково холодила синеватая трава. Грело плечи и вороные косы искуственно-желтые, искусственно-прямоугольные солнца: Куннэй стояла посреди оранжереи. Снова.
– Вы многое знаете о своем хозяине, правда? О своем… друге.
Деревья ответили шелестом, трава набухла, вытянулась, но только лишь: она не разобрала слов. Она опустилась на колени, старалась сосредоточиться.
– Простите, я давно не говорила с… подобными вам. Даже слишком давно, все как-то в моей жизни было ужасно далеко от этого, то одно, то… другое. Моро прав: говорить совсем не то, что видеть. Прошу, не сердитесь, если скажу что-то не так, я ведь… знаете, я ведь так хотела уехать подальше от дикости, от тайги, хотела в город, думала, вот, где настоящая жизнь, но сейчас… все обернулось как-то глупо. И пусто.
И вдруг замолчала, вскочила на ноги.
Да о чем это я! – Нет, это ничему не поможет. Глупо.
Коробок спичек в ее руках был наполовину пуст, с почти стершейся наждачкой сбоку, но – лучшего не было. Она зажгла спичку, смотрела, как сжимается и чернеет дерево в ручном пламени. Секунду – обожгло пальцы…
– Ай-йш… – резко втянула воздух через зубы, поморщилась от боли.
Бросила, загасила ногой, взяла вторую, напрягла горло, выдохнула с длинной вибрацией:
– Ый-йя… ый-йя… ый-йя… – гортань и нос зудили с непривычки, но она продолжала, наконец, нашла нужную частоту.
«Ты должна чувствовать, Куннэй, что говоришь не ты, а то, что за тобой, то, что внутри тебя – только так и говорят духи. Так говорят и иччи, и арайыы, и абасы», – будто слышала она вновь далекий, родной, так знакомый ей голос бабушки.
Она сбросила последний слог, коротким рывком втянула воздух, вытянула губы – звук сжался, распался на ее голос и иные, тонкие, похожие на птичьи голоса. Она уцепилась за один, заглушила прочие, и он резонансом отразился в голове:
– Йу-йу-йу… йои-йои-йои-и…
Чиркнула спичка, вырос огонь – Куннэй тряхнула кистью, погасила его. И от тонкого, наполовину изуродованного тела спички потянулись тонкие ленты дыма. Они смешались с голосом Куннэй, стали плотнее, гуще, наконец, легли тенью на пруд, на траву, на стволы и кроны деревьев перед ее глазами, и среди дыма непривычно отчетливо и до ужаса материально проступили огромные, длинные, похожие на людей силуэты.
Они стояли среди деревьев, срастались с ними своими длинными, похожими на ветви гибкими кистями, шевелились на головах темные от налипшей земли корни-волосы, блестели тонкие, спящие на безротых лицах глаза. Снова зашелестели деревья, обрушился ветер, которого не было и быть не могло в крытом куполе оранжереи:
– Человек… зачем приш-шел, человек… что ты возьмеш-шь от нас, человек, что сможеш-шь дать взамен?..
Их упругие корни, взрыхлив землю, проросли, вытянулись из земли и обвили ее щиколотки. Но успокаивающе и нежно потеплел идол на ее груди: «не бойся, Куннэй». И она неловко с непривычки, но вполне разборчиво вплела в вибрацию своего и не своего голоса слова:
– Моро диэн-н киһи туһунан-н тугу бил-лэҕин-н? [якут. Что ты знаешь о человеке по имени Моро?]
Сильнее впились корни в ее ноги, оплели дальше, на второй круг, поднимаясь к коленям:
– Она спраш-шивает про Моро… Моро… Как она может спраш-шивать про Моро?.. Моро…
Куннэй втянула носом воздух, на секунду сжала зубы, но вновь спросила, не меняя интонации, смотря в звериные, а может, и вовсе не живые глаза духов перед ней:
– Моро диэн-н киһи туһунан-н тугу бил-лэҕин-н? [якут. Что ты знаешь о человеке по имени Моро?]
Они не могли не ответить. Куннэй знала это. И не могли соврать. Снова раздался шелест, и она отчетливо, почти без усилий различала в нем слова:
– Моро – не человек, он наш-ш хоз-зяин, хоз-зяин этой земли, многие, долгие года, сотни лет – хоз-зяин… хоз-зяин… Моро – з-змей… з-змей… Моро стал жить среди людей, Моро принимает облик подобный им, чтобы они считали себя равными… равными ему… но он не откажется, он не может отказаться от своей сути, от своей природы… И он вернется, вернется к ней, к сути…
Вдруг голоса стали далекими, начали тускнеть глаза высоко над ее головой. Куннэй спохватилась, зажгла и потушила вторую спичку, вдохнула в дым голос, и снова так же четко слышала:
– …уш-шел на охоту, отмечает конец былых-х времен, радуются многие… он убьет с-сегодня многих-х… многих-х… но он не трогает людей, никогда не трогает на охоте людей, х-хотя и зря, зря, зря…
Шепотом засмеялась листва и трава, заменявшая духам рты, плотнее, до боли впились в кожу Куннэй корни, обвили еще на круг, достав до коленей.
– Урукку кэм-м бүтүүтэ? [якут. Конец былых времен?]
– Вс-се так… конец… конец с-старого времени… Миры с-сливаются, с-слипаются, с-соединяются… Появилось первое соприкосновение между той с-с-стороной и этой, люди назвали его Раз-зломом, Раз-зломом, миры стягивают их душ-ши, души тех, кого не должно быть на этой с-с-стороне, на этой земле… но это все, что мы с-скажем тебе, человек. Человек, что ты отдаш-шь за наш-ши слова? Что можеш-шь дать? Может, с-свою кровь?.. Или нес-сколько лет жизни… жизни…
Идол уже почти обжигал ее кожу, впились острые концы корней – еще немного и залезут в вены и тогда… Куннэй одернула себя: нельзя думать о «тогда». Вдохнула и:
– Ылым-маҥ. Моро… [якут. Не возьмете. Моро…]
– Мы не берем того, что принадлежит Моро, мы не берем ц-ценностей Моро… Не берем ц-ценностей… Но ты… разве ты его ценность, человек?.. Всего лишь человек, слабый, слабый… Ты правда уверена, что ты его ц-ценность?.. Ц-ценность… ц-ценность…
Куннэй закричала из-за всех сил, пригнулась к земле, закрыла голову руками, а вокруг нее с влажным рокотом разломилась земля, вздыбилась набухшие от жизни пласты травы, сквозь разломы потянулись корни.