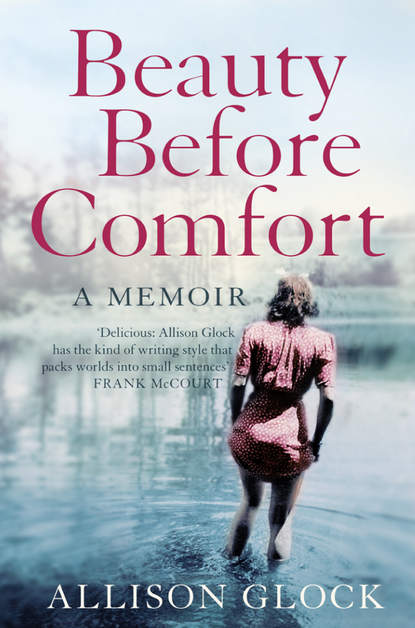- -
- 100%
- +
«Вот и все», – только и подумала Куннэй и вдохнула тяжелый запах земли.
Свет совсем исчез, все голоса стихли, на шею легли тяжелые корни, но вдруг среди этой тишины Куннэй различила приближающийся рокот. Дрожала земля.
Кольцом вокруг Куннэй земля треснула, и среди ее влажных пластов появилось блестяще-гибкое, зеленое тело дракона.
– Арх-ха-а… Проч-чь от нее, проч-чь…
Чешуя отошла от кожи, иглами встала дыбом, он схватил зубами пучок измазанных в земле, натянуто-гибких корней, с коротким треском перекусил – завыли деревья оглушительно громко, протяжно. Куннэй подняла голову, но не могла закрыть уши: руки ее все были прикованы к земле. Потянула – корни не поддались… И потому она только смотрела, как гибко и сильно двигается вытянутое, похожее на змеиное тело Моро, – конечно, это был Моро, – как дым огибает его клыки.
– Не надо, с-стой… с-стой!… – шелестели кроны, – Она спросила о тебе… украла… украла… ц-ценость…
– Не ваша ценность.
И дракон вновь острыми зубами разрезал корни. Снова треск, вой, ветер – и, наконец, корни одрябли, ослабли, и безвольно опали с ее тела. Куннэй вновь была свободна, только в сжатой руке оставалось что-то. Она с усилием поднялась на четвереньки, раскрыла ладонь: спички. Всего лишь смятый коробок спичек.
Кровь билась в ее ушах, в глазах вдруг потемнело, и последнее, что она почувствовала – гладкое, гибкое тело Моро совсем рядом с собой.
***Она определенно лежала на подушке. Определенно поверх шершавого, с толстыми нитками вышивки покрывала. Было мягко, чуть прохладно – она поежилась, не размыкая глаз попыталась нашарить край покрывала или, может…
– Проснулась, значит.
– А?
Куннэй рывком приподнялась на локте, оглянулась: ее окружали совсем незнакомые ей стены. Под ней – кровать, широкая, такая же незнакомая – и только у открытого настежь окна с пушистыми, присыпанными снегом и светом соснами, стоял знакомый ей Моро.
Хотя она не знала, может ли считать его знакомым. Моро повел плечами, разминая мышцы.
– Знаешь, я вообще шутил, когда говорил не умереть тут без меня, но… ты удивительная девушка, Куннэй. Не так часто в жизни я бываю под впечатлением, пожалуй, все реже и реже, но сейчас… сейчас весьма.
В его обычно спокойных глазах сквозило удивление и что-то близкое к восхищению. К ушам Куннэй прилила краска, неосознанно она сжала покрывало руками, потянула на себя, стараясь скрыться от то ли похвалы, то ли обвинения. И вдруг заметила: бежевое покрывало было расшито цветами. Листьями. Стеблями. Спиралью шел орнамент от краев к центру – и на мгновение ей показалось, что снова стебли и корни тянуться к ней и уже готовы сомкнуться над ее головой, а за ними, с той стороны…
Под покрывалом обнажился бело-голый, без простыни, матрас.
Моро здесь не спал.
Перевела взгляд: стены, комод у стены, совершенно пустой, с полуоткрытой дверцей шкаф, снова покрывало: листья и цветы.
Может, никогда не спал, не жил.
Куннэй втянула голову в плечи, оторвала взгляд от покрывала, перевела на Моро:
– Прости, пожалуйста. Я… я не знала, что так получится. Ты говорил «приятели», а я… да уж, никакой я им не приятель.
– Да ладно тебе, за что прощать-то. Твое?
Он что-то ей кинул, она поймала: коробок спичек. Тот самый.
– Знаешь, я долго живу. Но впервые вижу, чтобы кто-то смог… ну, знаешь, расспрашивать духов с коробком спичек. Хотя, впрочем, никогда и не интересовался вопросами общения со всяким потусторонним… Мне-то без надобности. Я и сам, может, потусторонний. Но с коробком спичек, значит, кхм.
Он сложил руки на груди, пожал плечами. Предплечья казались в таком положении даже слишком широкими.
«Хвастается, что ли?» – подумала Куннэй и глубоко вздохнула.
– Это, должно быть, талант, а, человече?
Он отвел от нее взгляд, посмотрел в окно: вечерело. В ноябре рано темнеет. Куннэй сжала в кулаке идола, все так же висевшего на шее, но, чуть помедлив, расправила ладонь, поднесла к глазам: костяное лицо было все так же безмятежно и слепо.
Верно, потому и безмятежно.
– Меня когда-то учили кое-чему, – сказала она тихо. – Но многого я уже и помню, так что так, по наитию. Кстати, как ты меня спас? То есть, как узнал, что…
– Это же мой дом. Я, понимаешь, чувствую, когда он неспокоен. И, кстати, слышал, о чем вы говорили, как вы говорили.
– И то, что я…
– И то, что говорила ты, само собой.
– Ты… подожди, как ты понял мои слова? Я думала, ты не знаешь языка.
– Говорил же: мне не и нужен язык, чтоб понимать. Ты ведь тоже не сопоставляешь, скажем, оттенок или темп шелеста листьев с конкретным значением, так?
Куннэй прищурила глаза, кивнула: «так».
– Ну вот, значит. Не сопоставляешь, а понимаешь их речь, когда у тебя есть дым, настрой и… ну, что тебе там еще нужно. – он сделал неопределенный жест рукой, подразумевая это «что-то». Продолжил не без самодовольства, – Кстати, даже приятно, что ты так интересуешься мной.
Она покраснела, перебила его:
– Странно было бы не интересоваться! А интересоваться – совсем не странно. Ничего тут личного, просто…
– Просто любопытство, – медленно, разделяя слоги закончил он за нее. – Любопытство свойственно людям, но проявляется по-разному. Вот, например, Ванька никогда не расспрашивал обо мне, считал это чем-то суетным, проходящим, что ли. Неважным. И мне это нравится в нем, я это в нем, можно сказать, ценю. Однако не о том речь: я чуть не опоздал, а?
Она пожала плечами: «пожалуй, и чуть не».
– И все-таки ты сказочная дура, Куня: слова, знания, видишь ли, ценны, а любую ценность надо возмещать. Базовая штука же.
– А если не возмещать?
Моро не ответил. Почесал бороду и плавно-неспешно подошел к ней, сел на кровать и положил тяжелую ладонь ей на ногу. Куннэй резко вдохнула, слова застряли в горле, где-то там же, где быстро бьющееся сердце. Спокойно сжал, ощупал. Убрал руку.
– Разденься.
– Зачем?
– Корни могли остаться под кожей. Или не корни.
Она вопросительно, долго посмотрела на Моро. Моро вопросительно посмотрел на Куннэй. Куннэй посмотрела на…
– Ну, не хочешь как хочешь, мне-то что.
Он упер руки в колени, встал. И пока угол между его бедром и голенью стремительно рос от девяноста к ста восьмидесяти, перед глазами Куннэй проносились разнообразные картины вен, грибниц, судорог и смертей в судорогах, срезы, многие срезы грунта с более и менее разветвленными корневыми системами…
– Нет-нет, я, того… я хочу!
Она села, потянулась к, – соскользнула и провалилась в в мягкое лоно кровати рука, – схватила его рукав, добавила:
– Пожалуйста. Мне как, только ноги, то есть, ниже пояса или…
– Или. Отвернуться?
Куннэй хотела возмутиться, хотела ответить «само собой!», может, даже обидеться на него, но почему-то не стала. Сказала:
– К-как хочешь.
Моро снова зевнул, обнажив крепкие, вполне человеческие зубы («И когда он успел устать?»). Не отвернулся.
Она встала, путаясь в рукавах, замках, штанинах, замках и прочих избыточных элементах одежды, сначала стянула кофту, потом джинсы, тонким жгутом свернулись в ее руках трусы… Движения отдавались легкой, будто издалека шедшей болью, но на вид кожа была вполне ровной, чистой.
Куннэй опустила руки, подняла голову, темные волосы обняли ее плечи. И только красные щеки выдавали в ней мнущееся в груди чувство. Моро смотрел на нее спокойно. Провел по животу, сжал грудь, – мягкий жир, кожа проступили между его пальцев, – но почти сразу отпустил. Обошел сзади, убрал волосы набок, обнажив шею.
– Нагни голову.
Куннэй послушалась. Ощупал, пристально вглядываясь в каждый слегка выступавший позвонок: первый, второй… Она чувствовала его дыхание. От этого становилось спокойнее.
Моро удивительным образом в равной степени навевал жуть и тотальное, теплое ощущение безопасности.
Между тем он отогнул ей ухо, ощупал кожу за ним.
– Ай!
Куннэй вскрикнула, неосознанно закрыла ухо рукой. Моро убрал ее руку, отогнул ухо снова:
– Больно?
– Было больно.
– А сейчас? – он с неожиданной для толстых пальцев аккуратностью провел по ушной раковине, от сгиба к мочке.
Сладкой вибрацией отдалось в ней его прикосновение, отразилось теплом у бедер. Куннэй сжала губы, дурманно опустила веки до половины. Вдруг зажмурилась, поспешно ответила:
– Нет, не больно.
Моро хмыкнул, отогнул второе ухо, медитативно и плавно повторил.
– Больно?
– Нет.
– Так?
– Т-тоже нет…
– Ясно. Ну, как-то так и думал, – наконец, заключил Моро и ничего нельзя было прочесть в его голосе.
Куннэй обернулась, надеясь по его лицу понять, насколько все плохо, – качнулись круглые груди, неловко задели его плечо.
– Что там?
– Да так. Ну, как у вас это называется-то… проклятие? Болезнь, может? В общем, суть-то одна и та же: у тебя взяли пару лет жизни. Ну, максимум десяток.
Куннэй застыла. Темные глаза помутнели, будто изнутри покрылись наледью:
– То есть… что значит взяли?
– Умрешь на несколько лет раньше положенного, – безо всякой интонации, буднично пояснил Моро. Приложил руку к ее шее. – Вот тут сейчас след он их руки, родинка, то есть. Пока спит, родинка-то, но позже прорастет, а когда прорастет, то и сразу в голову. Ну, это всего лишь пара лет, не так уж и существенно, верно?
Моро убрал руку, но она перехватила, снова прижала его тепло-шершавую ладонь к своей шее:
– Нет, неверно! Это… это же года, целые года…
Подбородок Куннэй мелко задрожал, как от холода, сжалось сердце. Она смотрела прямо перед собой, но ничего не видела:
– Три-четыре года… десять лет…
Хотела добавить что-то еще, но слова спазмом застряли в горле. Моро все же отнял руку, вполне дружески похлопал ее по плечу:
– Да чего ты, в самом-то деле. Смогла поболтать с потусторонним, наверное, сможешь и вылечить себя, не?
Куннэй молчала долгое мгновение. Подняла невидящие глаза:
– Что?
– Вылечи себя, – членораздельно повторил Моро. – И дело с концом.
– Не… не могу. Никто не может вылечить себя.
Моро хмыкнул, мол, вот оно как. Сложил руки на груди, смотрел на нее оценивающе. Почесал ухо о плечо. Еще раз посмотрел.
– Ясно.
«Что это «ясно» значит вообще?», – подумала Куннэй.
И в следующий миг Моро взял ее плечо, непоколебимо молча развернул спиной к себе, убрал волосы, отогнул ухо большим пальцем и вцепился зубами в кожу.
– Ай-й!.. – вскрикнула Куннэй, сжала зубы, но старалась стоять смирно: по какой-то неподдающейся объяснению причине у нее была склонность полностью ему доверять.
Моро прижал ее рукой к себе, так, что ткань его одежды впилась в ее кожу, к низу спины прижалась твердая припухлость, и она отчетливо и внезапно для самой себя вдруг вспомнила, что совершенно нага.
…он выдохнул – его дыхание обжигало словно огонь, может, оно и было огнем. От боли у нее выступили слезы, закатились до белков глаза, но Моро этого совсем не замечал. Втянул воздух вместе с ее кожей, сжал зубами, по-собачьи дернул головой: на пол упал темный сгусток ее крови, его слюны и чего-то еще.
Когда он отпустил ее, Куннэй упала на колени, прижимая руки к коже за ухом: она болела, казалась раскаленной, но… на удивление целой. Отдернула руку, поднесла к глазам: крови не было. А Моро устало сел на край кровати, провел ногтем мизинца между зубов: верно, что-то застряло.
– Что ты сделал?
– Сначала выжег… в смысле, умертвил, потом убрал корень. Считай, вернул причитающиеся тебе года – нехило так, а? Вот такой я добрый и очень щедрый: простого «спасибо» вполне хватит.
Моро улыбнулся беззастенчиво и весело.
Ну что за человек.
– То есть умертвил?
– Огнем. Я же все-таки дракон. Ты не волнуйся, кожу не задело: не с дилетантом дело имеешь. Ну так как насчет «спасибо»?
Куннэй сощурила глаза, старательно выбирая среди двух знакомых ей языков наиболее экспрессивно-матерные слова. И, наконец, сказала:
– Спасибо, век не забуду твоей доброты.
Куннэй была железной выдержки девушка.
***Пять пропущенных и все с одного номера: от Вана. Куннэй набрала смс-кой: «У меня все ок» и захлопнула аккуратный, с красной крышкой телефон. Убрала в карман, облокотилась о подоконник.
Вечерело. На лес за окном, беспричинно сейчас любимый Куннэй лес, опускалась тьма.
– Никаких окон, – категорически заключил Моро, подошел и двумя короткими движениями задвинул тяжелые шторы.
– И так темно.
– Недостаточно темно.
Куннэй знала Моро только третий день, но это было вполне достаточно чтобы понять: спорить с Моро бесполезно.
Милый, жуткий Моро.
Так что она покорилась и, после короткого колебания, опустилась на второе кресло первого ряда. Они снова были в мансардном слегка импровизированном кинотеатре, снова зашумела пленка. И Моро опустился по левую руку от нее, через одно кресло. На сером циферблате начался обратный отсчет: тридцать… двадцать девять…
– Ты снова отправишься на охоту, да? – спросила не поворачивая к нему головы Куннэй.
– Завтра утром. Часов в шесть или около того.
– Слушай, Моро… ты возьмешь меня с собой? В этот раз, а?
Моро замер, повернул к ней голову: Куннэй смотрела на экран. Двадцать один. Двадцать…
– Зачем это?
– Пожалуйста. Может, мне так будет даже проще остаться в живых, а? Обещаю тебе не мешать, а в чем-то, может, даже буду полезна… знаешь, мне кажется, то есть, я чувствую, что должна с тобой пойти, вот и все.
Моро смотрел прямо перед собой. Думал. Десять. Девять… Наконец:
– Ладно. В шесть утра выходим, не проспи.
– Хорошо.
Три… Два…
– А мы точно это смотреть будем? Может, вместе выберем что-то?..
– Нет.
Циферблат исчез, возникли уже знакомые аккорды, слова:
Не думай о секундах свысока.
Наступит время – сам поймешь, наверное:
Свистят они как пули у виска,
Мгновения, мгновения, мгновения… 3
Куннэй вдруг с некоторым даже удивлением вспомнила, что это была лишь, – а может, и уже? – третья серия. Уже или лишь?.. Куннэй не знала. Впрочем, это было нормально относительно всего, что хоть как-то касалось Моро: все вокруг нее было лишь и вместе с тем уже.
Почему? – Может, всему виной чувство конечности.
«Чувство конечности», – беззвучно, одними губами проговорила она. Это было так просто, ясно и все же поразительно.
Это было не мыслью, скорее ощущением, которое она не могла сознательно увязать ни с Моро, ни с этими пленками, прокручиваемыми где-то там, над ее головой – но это ощущение на долгие минуты захватило Куннэй, и она смотрела на экран и ничего не видела, не осознавала.
Перед ее глазами обрушился черно-белый дом: скелет перекрытий и перекладин, после – пыль, мягко-белая, как облако плотная. Пыль над землей и над каналами, пыль, дым – поволока поверх симметричной по кругу башни… Куннэй видела это и ничего не думала.
И только когда на экране возник священник в черной одежде с белым воротом, который говорил на непонятном Куннэй языке, она вынырнула из нечаянного транса, отбросила мысли о Моро и сосредоточилась на том, что было там, по другую сторону экрана.
Отто фон Штирлиц застыл у каменной колонны, напряженно смотрел вперед и словно вслушивался в несуществовавшие для него, но отчетливо слышимые ей резко-четкое, бездушное тиканье часов.
(06 часов 55 минут)
– Странно, что так написали время.
– Почему? – спросил Моро.
– Ну… обычно в двадцатичетырехчасовом формате время указывают. Вроде бы.
– В таком формате и есть.
– А… ну да.
Куннэй поерзала, удобнее устраиваясь в кресле, поставила локти на подлокотники, сцепила руки в замок, положила подбородок между суставами указательного и среднего пальцев, выдохнула. Дальше она смотрела молча.
Смотрела, как грустно, внимательно, совсем по-человечески смотрит пес с белой меткой на лбу, смотрела, как западают и возвращаются белые и черные клавиши механического пианино, смотрела, как принудительно-ровно, и все же тоскующие опускаются от дыхания плечи и грудь Отто фон Штирлица под серым, в полоску, пиджаком…
Расцепила замок, вытерла пот на ладонях о штаны, вернула, уже не сплетая пальцы, а нервно, бессознательно терла одну руку о другую, дышала, втягивала губы и видела, и как отчаянно-нежно смотрит Отто фон Штирлиц на женщину с простым круглым лицом на том конце зала. Как ждет, как все же ловит ее, такой же, как и его, взгляд. Видела новый, жидкий блеск в углах его глаз, все же не перетекавший в слезы.
И вместе с ним…
нет: отчасти вместо него
…Куннэй всем сердцем чувствовала пресловутую, пойманную ей только сегодня конечность всего на свете. Наконец, сцена закончилась: Куннэй устало откинулась на прохладную красную кожу кресла. И подумала: а тосковал бы Ван-И по ней?
А что насчет Моро? Мог бы он тосковать по мне?
Она, конечно, не знала. Но это словно бы и не интересовало ее, не сейчас. Лица, серые рыбки в серой воде аквариума, тоска, тревога – и, наконец, поверх кадра легли слова:
Я прошу, хоть ненадолго,
Боль моя, ты покинь меня. 4
Она закрыла глаза, задрала в голову и зачем-то слушала, пыталась запомнить то, что где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди, что там есть река, маленький сад, вишни… И пусть там, в ее далеко и ее давно не было ни вишен, ни сада, ни, может, даже грибного дождя, – хотя должен был быть, но она никак, мучительно никак не могла его по-настоящему вспомнить! – ей было радостно и очень грустно.
Закончилась пленка и все стихло.
Куннэй открыла глаза. Было темно, особенно после яркого света экрана, тихо. Так что она толком ничего не видела – по большей части она скорее чувствовала Моро. Чувствовала дыхание, тепло… И словно была к нему гораздо ближе, чем при свете.
Куннэй помотала головой: что-то сегодня в голову ей лезли странные мысли.
– Слушай, – вдруг сказал Моро.
Куннэй обернулась на голос, различила его силуэт, выступавший среди бархатной тьмы.
– Что?
– А ведь «связей, порочащих его, не имел» и «в связях, порочащих его, замечен не был» совсем не одно и то же. – он обернулся к ней, фосфорически блеснули его глаза. – А в чем именно разница, а?
Куннэй молчала. Моро ждал. Наконец, сказала:
– В степени доверия.
Куннэй не увидела, скорее почувствовала, что Моро кивнул. Шорох, затем – в его пальцах возник огонек зажигалки, он прикурил, выпустил дым. Куннэй поежилась, инстинктивно сжала в кулаке идола: воспоминания этого утра были пока свежи.
Но было темно, ничего не видно с дымом или без него – она немного успокоилась. И впрямь: в неведении счастье. Нечаянно, совсем некстати вспомнилась та кровать, бело-голый, необжитый матрас под покрывалом, вся комната – холодная, необжитая.
– Можно спросить кое-что?
– Можно.
– Это насчет, ну… – «…почему та спальня была не твоя, почему ничья?» хотела спросить Куннэй, но это было глупо и неуместно. Потому она на секунду замолчала, отыскивая другой, какой угодно другой вопрос, наконец, – Это насчет утра. Все-таки, почему ты меня спас? Почему помог? Наверное, для тебя моя жизнь настолько коротка, конечна, что не имеет никакой особой ценности.
Она слышала, как Моро встал, как по-кошачьи легко прошел к стене, щелчок – и вдоль потолка зажглось желтое скудное освещение. И все же лучше, чем мрак: все стало ясно, четко… Моро облокотился о стену, затянулся, выдохнул.
Теперь он снова определен, далек. Жаль.
– Знаешь, Куня, у тебя капец странные представления о духах или как там мы по-твоему называемся. Люди же грустят о собаках, ну? О хомяках. Аквариумных рыбках. Понимаешь, к чему я? Да и, знаешь… нравится же тебе создавать неловкие ситуации.
– Я и не создаю! Не… не намеренно создаю.
Он хмыкнул, выпустил дым:
– Думаешь?
– Да.
Дым оседал, рассеивался, но Куннэй и не подумала всматриваться в него, искать в нем правду. Она чувствовала, что должна была еще кое-что сказать ему, Моро, пару раз открывала рот, но отворачивалась: не могла. Моро затушил сигарету между большим и указательным пальцем. И неспешно, лениво повернулся к выходу, поднял руку: «Бывай» – но Куннэй вскочила, поспешно схватила за руку, тут же отпустила, спохватившись.
– Слушай, я хочу сказать… спасибо тебе. Ты очень хороший человек, Моро, правда, хотя… хотя и странный. Знаешь, после той… – она залилась краской, опустила взгляд, но продолжила, – после той ночи, первой, я думала, что ничего страннее со мной уже не произойдет. Подумала, что я буду злиться на себя, на тебя, что ты – кошмар, дьявол, но сейчас все почему-то кажется таким странным и далеким, что… что я уже и не знаю, как на что реагировать. И поэтому… нет, без причины, но все же я доверяю тебе, почему-то доверяю целиком и полностью, доверяю даже больше чем Ван-И, и мне очень стыдно за это, так что… то есть, я хочу сказать, что и на охоту я… хоть на край света, а может, и лучше бы было, если бы на самый край, так что…
Она на секунду остановилась, шумно вдохнула, подняла взгляд: Моро молчал.
– Так, это… о чем я говорила?
– Иди уже спать.
– Прости.
И вдруг Куннэй зажмурилась и порывисто обняла его. Долгая секунда, – она слышала свое сердце, чувствовала, как стыд жаром оседает на шее, – и Моро обнял ее в ответ. Так естественно. Спокойно.
– До завтра. Шесть утра, запомни, человече.
… он разомкнул объятия и исчез, только ветер пронесся по гулкой пустой комнате. И Куннэй обняла себя за плечи, стараясь запомнить такую радостную тяжесть его рук.
Ван-И. Жизненно-важные показатели
Ван-И методично насыпал в кружку две ложки сахара, размешал, пока чай не стал снова прозрачно-янтарным. День был долгим, а обещал быть еще дольше. Он поставил кружку на стол, взял трубку черного стационарного телефона: мобильный давно сел, а зарядку, он, как и всегда, забыл.
У Вана были достоинства, за них он себя не хватил, так как был врожденно скромен – зато за недостатки и, в частности, за рассеянность ругал себя регулярно. Ругал по-доброму, по-злому, с равнодушием, однако, вопреки надеждам, все имело если не нулевой, то близкий к нулевому эффект. Он поправил очки, набрал восьмерку, затем – знакомые десять цифр, каждые беззвучно произнося губами, приложил трубку к уху: на той стороне шли долгие гудки. Это хорошо: значит, на той стороне есть связь.
Первый гудок. Второй. Третий.
Снова поправив очки, Ван-И без определенной цели осмотрел комнату: пожалуй, идиллия. В окно вяло билась осенняя муха. Почтенный и лохматый Альберт Кириллович карандашом разгадывал судоку. Красивый, хотя и совсем седой Степан Викторович интеллигентно и деятельно, как он делал все, жевал конфету, пил чай… Вдруг рука его дрогнула, и в секунду пятно растеклось по белому халату («Ну, каналья…»). Медсестра Маргарита грела в микроволновке бутерброд. Наконец, на одиннадцатом гудке в ухо Вану знакомый, электрический сейчас голос сказал: «Алло?»
– Алло… То есть привет, Куннэй, это Ван-И. Да, знаешь, сел телефон, – Ван виновато улыбнулся, снял врачебную шапочку и пару раз провел по коротким жестким волосам, приглаживая. – Да… да, звонил… нет, сообщения не видел, прости. Ну, как ты там? Не отвечала, я подумал… конечно, я понимаю, но вчера ты не звонила, хотя я просил, ты так не делай, пожалуйста, я же начинаю волноваться.
Какое-то время только слушал, задумчиво кивая. Вдруг нахмурился, открыл рот, но, видно, не смог вставить слово. Чуть подождал, наконец:
– Подожди, какая охота? На… на кого охота?.. А. И ты… Спроси, пожалуйста, когда вы вернетесь, это же просто легкомысленно с… нет-нет, я не ругаюсь, кто ругается? Кто нервничает? Я рад, просто удивлен… пожалуйста, напиши, как сможешь. На самом деле, кто знает, может, оно и хорошо: не будешь скучать в мое отсутствие. Но ты должна понимать: работа.
Лицо Вана застыло, кажется, стало чуть более желтым, чем было. Он сжал между ногтей ресницы на нижнем веке, оттянул: явно машинально. Неосознанно. Обеспокоенно.
– Хорошо. Хорошо, видно будет. Рад, что не скучаешь, словом, но, прошу, будь аккуратнее и не отходи никуда от Моро, поняла? Я… – «…тебя люблю», но не договорил. Не любил говорить на работе, среди чужих. А потому просто, – Ладно, давай. Обязательно все же звони, как будет связь, ладно?
Он отнял трубку от лица и с тихим щелчком положил, откинулся на спинку кресла. Кресло было потерто, местами торчал желтый синтепон, стерся ворс чьими-то руками, локтями, но сидеть в нем было все еще вполне комфортно. Ван-И вздохнул, взял кружку и чуть отпил.
Кто-то прибавил звук на радио-приемнике, и Ван-И слушал, рассеянно, почти не различая слов:
– …я хотел бы заметить, что шаманизм не является религией в современном понимании по одной простой причине: религия предполагает наличие единой мифологической основы. Способ понимания и способ взаимодействия с реальностью, да, но – не религия.