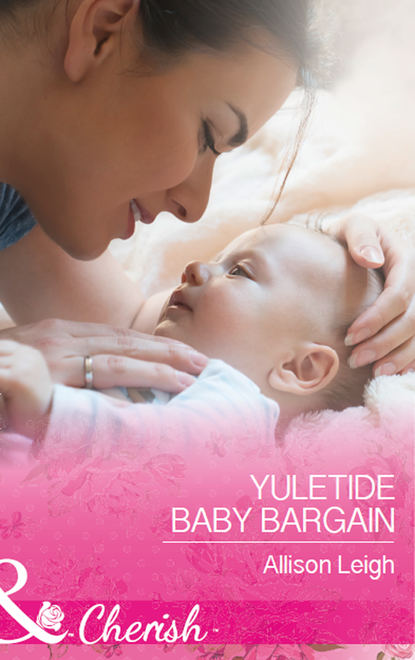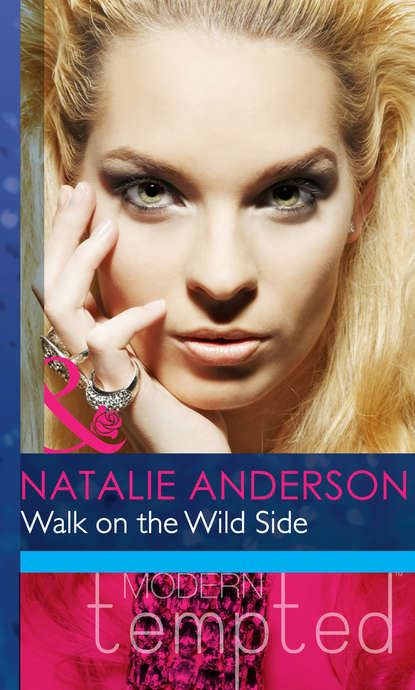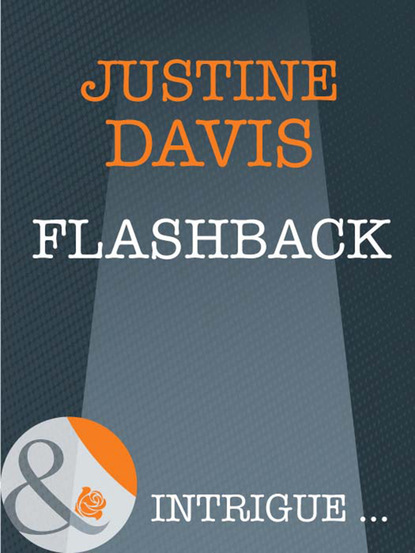ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО В КЛАССИЧЕСКИХ И ПОСТКЛАССИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ: Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук
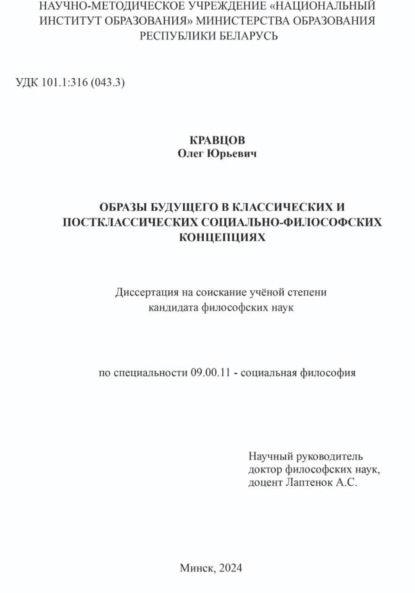
- -
- 100%
- +
Одной из главных задач прогноза является не «угадывание» будущего в деталях, а выявление его реальных возможностей. В ходе воплощения в действительность, возможность проходит три стадии: формальную (абстрактную), реальную и полную (конкретную). Формальная возможность находится на уровне гипотезы и характеризуется высокой степенью неопределенности относительно вероятности своей реализации. Формальная возможность переходит в реальную, когда настоящая действительность обретает свойство условно объективной определенности в отношении будущих состояний. Реальная возможность позволяет говорить о вероятности наступления тех или иных событий и строить относительно достоверные прогнозы. В момент своей реализации в действительности реальная возможность становится полной (конкретной) возможностью [89, с. 28-29]. Задача прогнозирования заключается в том, чтобы отделить возможные будущие состояния от невозможных, предположить вероятность наступления возможных состояний, учесть условия и обстоятельства, при которых эти состояния могут наступить.
В связи со сложностью социальных систем, вероятность в социальном познании зачастую является субъективной мерой объективной возможности, а, следовательно, относятся к субъективной стороне знания [236, с. 157]. В связи с этим встает вопрос о состоятельности оценивания прогноза в категориях «истинный», «ложный» [237, с. 292] или даже «достоверный» (подразумевая прогноз, подтверждаемый практикой). По нашему мнению, единственным критерием эффективности прогноза может быть способность повышать степень понимания социальных процессов и перспектив общественного развития (принцип относительной верификации) и, как следствие, повышать эффективности принимаемых на его основе решений. Сама природа прогнозирования не подразумевает абсолютной верификации, то есть, обязательного исполнения прогнозных положений (задача прогнозов-предостережений, например, заключается в обратном). Цель научного прогнозирования состоит в выявлении возможных направлений развития ситуации под влиянием тех или иных факторов. Прогноз – это результат когнитивной практики прогнозирования, информационный продукт, содержащий научно обоснованные выводы относительно вероятного будущего объекта исследования. Прогноз дает потребителю информацию и, соответственно, возможность, как минимум, представлять альтернативные варианты и быть к ним готовым, и, как максимум, планировать свои действия для корректировки будущих состояний.
Познавая и прогнозируя социальные процессы, человек тем самым вмешивается в ход событий [7, с. 71], запуская механизм обратной информационной связи между будущим и настоящим. Обратная связь между прогнозом и практикой повседневности способна носить разный характер и силу и, соответственно, по-разному влиять на мировосприятие, мышление и поведение людей в настоящем [80, с. 46; 60, с. 607-608]. Влияние знания о будущем на действия в настоящем выражено в эффектах самоопровержения и самосбывания социальных прогнозов. Эффект самоопровержения проявляется, когда нежелание осуществления негативного сценария приводит к действиям, препятствующим его осуществлению (самоопровергающийся прогноз). В обратной ситуации прогноз приводит к действиям, направленным на его реализацию (самосбывающийся прогноз). При этом самосбывающийся прогноз не обязательно желаем. Например, прогноз о скорой войне между государствами может привести к эскалации конфликта, гонке вооружений и к реальной войне, которую изначально не желала ни одна из сторон. К самоопровергающемуся прогнозу функционально близок прогноз-предостережение, задача которого – предупредить и предотвратить реально возможное нежелательное событие. Отсутствие обратной связи между знанием о будущем и практикой настоящего свидетельствует о слабой восприимчивости (индифферентности) общества к социальным прогнозам [5 – А, c. 233-235].
К. Поппер среди возможных способов дедуктивной проверки научных теорий отдавал приоритет тесту на предсказательную способность, то есть, соотношению выводимых из теории логических следствий и полученных эмпирических данных [8, c. 29-30]. Научное предсказание (прогноз) как продукт познавательной деятельности, обладает логической структурой научного объяснения и логической симметрией: любое научное объяснение является «предсказанием» задним числом, тогда как любое научное предсказание есть «объяснение», апеллирующее к законам науки. Исходя из принципов К. Поппера, прогноз представляет собой высказывание о будущих социальных явлениях, которое имеет под собой теоретическое обоснование и необходимо вытекает из научных законов. Прогноз и объяснение – взаимосвязанные части единого целого. Отсутствие прогноза ставит под вопрос научность данного объяснения как такового, так же как, следуя принципу логической симметрии, не менее критичного отношения требует прогноз без объяснения. Именно поэтому одним из существенных признаков научного прогноза является его теоретическое обоснование. Другими словами, научный прогноз должен иметь объяснение, а научное объяснение должно обладать прогнозным потенциалом.
Основания социального прогнозирования представляют собой иерархическую структуру взаимосвязанных элементов и являются «строительными лесами» [89, c. 5] процесса социального познания. Суждения и/или идеи (следствия), полученные на первом уровне познания, в свою очередь сами могут выступить в качестве оснований для новых суждений и идей. Соответственно, процесс объяснения социальных процессов, как правило, включает несколько уровней оснований и следствий.
Лестница оснований социального прогнозирования включает в себя философско-мировоззренческий уровень, философско-методологический уровень, конкретные методы прогнозирования, исходную информацию для построения прогноза и контекст социальной среды, в котором происходит процесс познания. Философско-мировоззренческий уровень включает систему взглядов, ценностей, убеждений, представлений о мире и месте в нем человека. Философско-методологический уровень социального прогнозирования представлен совокупностью концепций и теорий, научных подходов и способов, лежащих в основе познания будущего.
Философско-мировоззренческие установки являются структурной частью личности автора, их соотношение индивидуально. Они выступают в качестве базовых препозиций, принимаются аксиоматично, их влияние может не осознаваться исследователями, они могут не иметь, и не требовать убедительных доказательств [103, с. 20-21; 105, с. 260-261]. Влияние мировоззренческих установок происходит как на обыденно-практическом (чувственном), так и на рационально-теоретическом (интеллектуально-осмысленном) уровне мировосприятия. Знания задают рамки относительно достоверных представлений о реальности. Ценности наполняют прогноз смысловыми ориентирами. Убеждения выступают в качестве личных критериев истины. Исходя из мировоззренческих установок подбираются соответствующие научные теории и методологии, источники информации, интерпретируются объективные данные и факты. Результаты прогноза, как правило, не выходят за рамки заданных препозиций и обусловлены ими [6, c. 155, 198, 273]. Философско-мировоззренческие и философско-методологические основания задают границы и направления познания. Например, прогнозы, построенные на социальной теории, опирающейся на идеализм, не выходят за границы идеализма [89, c. 23]. Выход за рамки исходных препозиций означает выход за пределы собственных мировоззренческих границ [4 – А, с. 165].
Исходя из философско-мировоззренческих установок современного западного общества, будущее представляет собой продолжение существующих трендов, то есть, трендов, которые создаются самой западной культурой. Философско-мировоззренческая составляющая прогноза оказывает влияние на общественное сознание и приводит к формированию устойчивых представлений о перспективах мирового развития [93, с. 23; 105, с. 260-261]. Не имея возможности преподнести будущее в деталях, прогноз, тем не менее, активно формирует представления о нем в настоящем, программирует определенные модели мировосприятия и поведения. Мировоззренческая позиция Ф. Фукуямы, Э. Тоффлера или Д. Нейсбита прогнозирующих и утверждающих торжество западного пути развития, активно влияет и формирует мировоззрение, политические установки и практику действий внутри западного общества и за его пределами, запуская процесс «мировоззренческой детерминации» [238, с. 99].
Философско-мировоззренческими позициями и типом используемой научной рациональности в методологическом отношении детерминированы как индивидуальные, так и коллективные работы западных исследователей [101, с. 135-136]. Например, американским форсайтам присущи следующие характеристики: мессианство США как наиболее развитой державы, определяющей глобальную политику; технократичность, то есть главенство технологий по отношению к развитию общества; приверженность рыночным механизмам управления мировой экономикой; соблюдение геополитических интересов; нацеленность на отсутствие катастроф и глобальных конфликтов. Европейские форсайты характеризуются такими чертами как: нацеленность на энергосбережение и сохранение экологии; наднациональные устремления; оценка общеевропейских интересов выше интересов отдельных государств-членов [101, с. 37, 147]. Западные социальные прогнозы вписаны в текущий контекст, реализуя предсказательную и предуказательную функции, они либо предлагают ответ на современные вызовы и угрозы, либо презентуют способ реализации актуальных целей.
Также необходимо учитывать, что прогнозист является продуктом определенного типа социальной среды и априори выступает носителем установок, присущих этой среде [176, с. 13]. Философско-мировоззренческие установки прогнозистов могут быть детерминированы, например, политическими взглядами автора. Вполне закономерно, что прогнозы китайских коммунистов неизменно будут сводиться к торжеству китайской политической модели, прогнозы русских марксистов – к реваншу мирового коммунизма под патронажем России, а прогнозы исследователей-мусульман будут предвещать неминуемое торжество мирового ислама. Разногласия исследователей с общими установками будут касаться в основном путей и сроков достижения предзаданных целей. Влияние мировоззренческих установок на результаты конкретных прогнозов может быть раскрыто следующим образом: знание мировоззренческих установок авторов позволяет с высокой степенью уверенности предположить содержание и результаты авторских прогнозов, так же, как анализ содержания прогнозов дает, в свою очередь, представления об основных мировоззренческих установках прогнозистов.
Прогноз как результат когнитивной практики, является производным определенного типа социальной среды и заключает в себе свойственные среде мировоззренческие установки и поведенческие программы. Вполне объяснимо, что более конкурентоспособные социальные системы имеют больше шансов на реализацию позитивных для себя прогнозов и недопущение реализации нежелательных. Любая страна мира может построить для себя привлекательный прогноз развития и принять его за цель. Вопрос в том, хватит ли у этой страны ресурсов и возможностей достигнуть собственных прогнозных показателей. Нет ничего удивительного в том, что западные авторы, во-первых, прогнозируют будущее в рамках своей мировоззренческой парадигмы, во-вторых, позитивные для них прогнозы наиболее адекватны и реализуемы в силу высокой ресурсной (военной, политической, технологической, научно-технической, финансовой) обеспеченности.
Среди важных философско-мировоззренческих факторов, имеющих место в теории прогнозирования, следует отметить два весьма близкие по своей природе эффекта – «рецидив презентизма первобытного мышления» и «футурофобию». Рецидив презентизма первобытного мышления выражается в неприятии «иного будущего» или отсутствии представлений о будущем как состоянии качественно отличном от настоящего [239, с. 2-4]. В практике прогнозирования данный эффект проявляется, во-первых, в акцентуации исследователей на формальных экстраполяционных методиках, во-вторых, в результатах экспертных оценок и опросов, в которых будущее представляется незначительно улучшенным либо ухудшенным настоящим. Эффект «футурофобии» [239, с. 5-9; 47] проявляется в органическом неприятии большинством людей нововведений и изменений привычной картины мира (скорости изменений), расходящейся с привычным настоящим, тяготению к стабильности и постоянству быта. Авторами, производившими осмысление данных эффектов, отмечается их негативное отражение на текущих управленческих решениях и губительном влиянии на нововведения инновационного характера.
Среди философско-мировоззренческих оснований, имеющих влияние на выбор философско-методологической базы для социального прогнозирования следует выделить: представления об исходе прогнозируемых событий в ряду которых: оптимистические, пессимистические и эмоционально-нейтральные воззрения; восприятие хода развития цивилизации как прогресса человечества (прогрессизм) или его деградации (регрессизм); холистические (универсалистские) или атомистические (социально-атомистические, индивидуалистские) представления о развитии общества и универсума; монистические, дуалистические или плюралистические воззрения в отношении движущих сил развития; идеалистические или материалистические взгляды на Универсум; представление о темпоральности: отождествление или не отождествление социального и физического времени; метафизические или эволюционистские представления о мире; представления о конфигурации исторического движения.
Оптимистические прогнозы предполагают положительный исход в отношении прогнозируемых событий с точки зрения прогнозиста. В пессимистических прогнозах будущим состояниям субъектов прогнозирования дается негативная оценка. В эмоционально-нейтральных прогнозах не дается эмоциональных оценок относительно различных вариантов развития событий. К особой разновидности пессимистических прогнозов можно отнести алармистские (протестный пессимизм) и апокалиптические воззрения. Пожалуй, наиболее яркими представителями алармизма являются исследователи, принадлежащие к Римскому клубу. Характерным приверженцем апокалиптических взглядов является Ж. Бодрийяр, который в рамках постмодернистской концепции прогнозирует дальнейший регресс, отрыв от реальности и крах современного общества [115]. В качестве крайней формы пессимизма можно выделить финалистские (апокалиптические) представления, в которых будущее человечества, планеты и вселенной неминуемо движется к краху, самоуничтожению и аннигиляции. На уровне социума такой подход предполагает эволюционную запрограммированность человеческой цивилизации на неизбежное самоистребление в ходе термоядерной войны или глобальной техногенной экологической катастрофы (крайний пессимизм). На уровне планеты угроза видится в космической катастрофе, не связанной с человеческой деятельностью, вызванной падением на Землю гигантского метеорита, либо столкновением планеты с кометой. Вершиной финалистского подхода является неминуемый коллапс Вселенной, в котором исчезнут все материальные объекты, и Вселенная возвратится в первоначальное состояние квантового вакуума, или распадется на мельчайшие составляющие атомов [240, с. 35-36].
Оценки и интерпретации самой идеи прогресса в значительной степени зависят от ценностных предпочтений исследователей и их индивидуальных взглядов на прогресс. При прогрессистском подходе направление движения человеческой цивилизации отождествляется с прогрессом. Соответственно, регрессистский подход идентифицирует ход движения цивилизации с деградацией. Прогрессистский подход предполагает наличие в общественном развитии направленности в сторону повышения уровня системной организации от простого к сложному, от низшего к высшему, от дикости к цивилизации. Одной из главных тем в рамках прогрессизма, является определение критериев прогресса. С позиции выбранных критериев, одни и те же общественные тенденции могут трактоваться разными авторами как прогрессивные или регрессивные. Г.Ф.В. Гегель и О. Конт считали главными критериями прогресса – развитие идей, торжество духовного над материальным, К. Маркс – рост материальных средств производства, который неминуемо приведет к формированию нового общественного уклада, И. Кант – познавательные способности человека, уровень его нравственности и морали. Антипрогрессистских позиций придерживались Ж.-Ж. Руссо, Т. Адорно, Ж. Бодрийяр, У. Эко, К. Ясперс. Ж.-Ж. Руссо считал, что прогресс науки и искусства наносит непоправимый вред природе человека. К. Ясперс отмечал, что прогресс науки, техники и производства не ведет к прогрессу самого человека. Исходя из антипрогрессистских посылок, будущее общество представлялось как «готическое» в оценках Д.Р. Хапаевой [241]. Н.В. Мотрошилова [142] предупреждала о наступлении современного «варварства». У. Эко утверждает, что «средние века уже начались» [275]. «Поминки по Просвещению» справляет Дж. Грей [242]. Ч.К. Ламажаа пишет об «архаизации» общественной жизни [140]. Антипрогрессизм зачастую проявляется в выражениях типа: «остановка времени», «сброс» / «обнуление» времени, «социальная деградация», «варваризация» и др. [243; 142, с. 38]. К антипрогрессивистским можно отнести концепции «Империи» А. Негри и М. Хардта [276], «американизации мира» С. Амина [20], «макдональдизации» Дж. Ритцера [277], «креативного класса» Р. Флориды [278], глобализации З. Баумана [279] и У. Бека [280], «общественного капитала» И. Ставинского [281] и др. Ж. Бодрийяр видит в развитии современного общества только регресс и отрыв от реальности [115]. И.В. Бестужев-Лада видит корни регрессизма в патриархальном мировосприятии значительной части общества (в «проклятии» «презентизма первобытного мышления»), где культ поклонения перед предками («петля предкопоклонства») является характерной частью обыденности [239]. В такой картине мира предки наделяются идеализированными качествами, которые из поколения в поколение утрачиваются потомками. В результате будущее представляется как движение от «золотого века» к «серебряному», затем к «бронзовому» и далее к «каменному».
Холизм и атомизм представляют собой две противоположные философско-мировоззренческие позиции по проблеме соотношения и приоритетов между частным и целым. Холизм, как синоним универсализма, предполагает приоритет целого над частным, общего над личным, в то время как атомизм (в нашем случае – социальный атомизм) придерживается примата частного над целым. Онтологический принцип холизма гласит, что целое – есть нечто большее, чем просто сумма его частей, мир – единое целое, а часть целого имеет смысл только в контексте общего. Холизм, как философия целостности, предполагает наличие единых законов развития Универсума и человечества как его части. Исторический процесс и будущее человечества рассматривается через категорию всеобщего, через примат общества, государства, этноса, класса по отношению к отдельным индивидам. Мыслителям холистической ориентации зачастую свойственны идеалистические и монистические представления о первопричинах развития общества и Универсума. Согласно индивидуалистическим представлениям социального атомизма, единственным источником социальных законов и норм является отдельный человек, обладающий разумом и волей. Именно человек с его желаниями и потребностями, а не мир в целом, выступает главной категорией при социально-атомистическом подходе. Общество представляет собой взаимосвязи изолированных индивидов, вступающих между собой в социальные взаимодействия для реализации собственных интересов и целей [244, с. 201-202]. А. Конт-Спольвиль рассматривает атомизм как наиболее радикальную форму материализма, в которой толкование высокого происходит через объяснение низкого, духа через материю, порядка через хаос [245, с. 53]. В рамках социального атомизма, будущее представляет собой дальнейшую экстраполяцию индивидуалистских или технологических потребностей человека и общества в целом. Убежденный холист Г. Гегель утверждал, что только целое имеет смысл. Приверженцами холизма являются А. Ломан, А. Мейер-Абих, Дж. Холдейн, Э Гуссерль, К. Маркс, Э. Дюркгейм, Н. Луман, К. Уилсбер. На холизме основаны алармистский подход Римского клуба, концепция глобального эволюционизма, синергетический и мир-системный подходы. Наиболее ярким выразителем социально-атомистического мировоззрения являлся Т. Гоббс.
По отношению к движущим силам, влияющим на ход исторического процесса, концепции по своим философско-мировоззренческим основаниям можно разделить на монистические, дуалистические и плюралистические. При монистическом подходе исследователи могут вполне допускать влияние нескольких факторов, однако, в качестве определяющего выделяется один ключевой (доминирующий) фактор (технологический уровень, тип культуры, социально-политическая организация и т.д.), который определяет общий вектор развития. Дуалистический подход предполагает наличие двух неразрывно сосуществующих факторов, не сводимых друг к другу или даже находящихся между собой в противоречии (добро и зло, материя и дух, тело и сознание). Многофакторный (плюралистический) подход предполагает наличие множества сил, принципов и начал, взаимовлияющих на ход социальных процессов. Исследователи, придерживающиеся крайних позиций многофакторного подхода, настаивают на принципиальной невозможности предвидеть отдаленное будущее (Т. И. Ойзерман). В этом ключе, само социальное прогнозирование представляется признаком тоталитарного мышления (А. С. Карпенко). Классиком материалистической версии исторического монизма является К. Маркс, который рассматривал производственную деятельность в качестве первоосновы «всякой человеческой истории» [9, т. 3, c. 19]. Философский дуализм утверждает существование двух независимых субстанций, каждая из которых развивается по своим собственным законам. В социально-философском аспекте дуализм, как и плюрализм, означает отрицание первоосновы общественного развития как таковой [246, c. 437], а конкретно философский плюрализм заявляет о множественности причин или исторических факторов [245, c. 434]. Дуалистический подход к прогнозированию исторического процесса обнаруживается в трудах О. Шпенглера, «евразийцев» Н. Н. Алексеева, П. Н. Савицкого, Н. С. Трубецкого, в концепции «осевого времени» К. Ясперса и др. Философские основания дуализма и плюрализма в социальном познании критически проанализированы А. В. Момджяном. К монистическим он относит большинство существующих концепций, включая концепцию постиндустриального общества, концепцию «конца истории», концепцию столкновения цивилизаций. К плюралистическим, соответственно – концепцию микротрендов, алармистскую концепцию Римского клуба, синергетическую концепцию. Дуализм и плюрализм описывают будущее социальной системы как результат наложения и взаимодействия множества тенденций и ритмов развития» [100, c. 116-117]. Важной проблемой в дуалистических и плюралистических концепциях неизменно выступает методологический вопрос теоретической субординации факторов влияния [89, с. 98]. Плюралистический подход нашел широкое применение в социологии, экономической теории, исторической науке, политологии. В академической социологии предпочитают говорить о «системном» взаимодействии [122, c. 269] или о «констелляции» факторов [121, c. 106]. На плюралистической идее зиждется концепция постиндустриального общества Д. Белла, в которой сферы общества (технико-экономическая, политическая и культурная) разъединены и развиваются независимо друг от друга. В своих прогнозах он не исключал, что в будущем возможно существование как социалистических, так и капиталистических постиндустриальных обществ [35, c. 154]. В философии истории дуализм и плюрализм стали основополагающими принципами цивилизационного подхода, отвергающего единство человеческой истории. О. Шпенглер не соглашался с устоявшейся схемой всемирной истории, идущей через три исторические координаты: Древний мир – Средние века – Новое время и выдвигал идею равноценности западной и незападных культур. Единственным объединяющим фактором этих культур становилось лишь неизбежность полного вырождения и духовного упадка. Философ утверждал, что его «морфология всемирной истории» позволяет строить исторические прогнозы, схожие по точности с расчетами физиков. При этом, свои прогнозы он предлагал строить без опоры на «причинные закономерности», а прибегая к творческому «стихотворству», поэтическому воспеванию и предчувствию будущего [5, c. 34-37, 77-89, 137-138, 158-159]. А. Дж. Тойнби вместо «догмы единства цивилизации» [10, c. 88] выдвинул догму цивилизационного плюрализма. Причина генезиса цивилизаций, по его мнению, заключалась не в единственном факторе, а в комбинации нескольких. Он считал «заблуждением» представление о единстве и прямолинейности всемирно-исторического процесса на базе западного общества. Одной из причин данного заблуждения автор считал распространение экономической системы западной цивилизаци. При этом по убеждению А. Дж. Тойнби экономическая и политическая унификация мира никак не затрагивает культуру, которая «глубже» и «фундаментальнее» экономики и политики. К. Ясперс утверждал бессмысленность создания целостных концепций исторического процесса. При этом, в концепции «осевого времени», не смотря на множественную каузальность и «бесконечность» причинно-следственных связей, среди множественного выделяется также неизменное универсальное – «вера в единого Бога» [6, c. 198, 258, 267, 273].