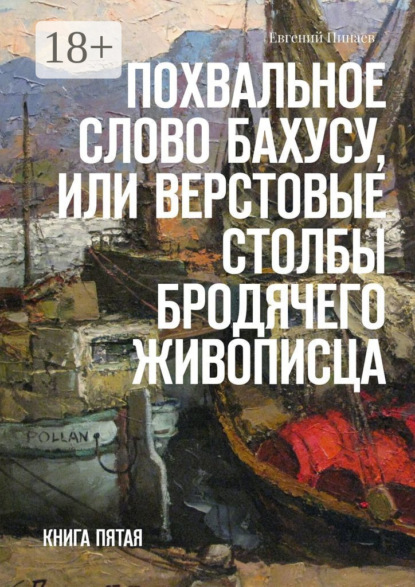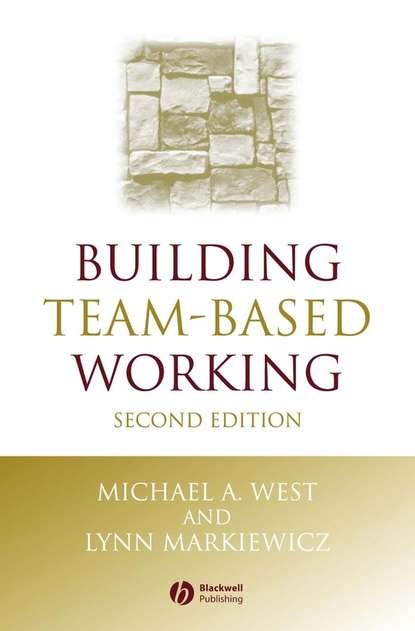- -
- 100%
- +
– А знаешь и правильно! Че сидеть-то одной? – бумага шуршит, когда Ольга перехватывает тяжелые цветы. – Ты что от него видела? Добра, что ли, видела? Света белого не видела. Как ни напишешь тебе, все он отвечает. Приехала тогда на Новый год – шея вся синяя, на руках следы хрен пойми чего. Ну?! Это мужик что ли? Давай, Дана, в субботу сгоняем в клуб, там развеешься, еще сто мужиков себе найдешь!
Розы пахнут ароматно, сладко, свежие, с мокрым срезом. Дана приценивается. Тысяч пять, наверное, такой букетище стоит – как новый пуховик на Даньку. Дана закусывает губу.
– Хочешь, продам тебе букет. Такой тысяч десять стоит, а я тебе за пять отдам.
– Ага, щас, – Ольга кивает глубоко, смешок получается слишком громким. – Мы что, в разных местах работаем? У меня зарплата чуть повыше твоей будет. Мне че, по-твоему, пять тыщ девать некуда? А букет хороший… – Оля вдыхает полной грудью. – Вот и верно, ты, Дана, девчонка видная, без ребенка – это с прицепом бы в тридцать четыре не взял никто, а одну че уж? Считай, квартира есть, машина, все при тебе. Букет ваще… А кто это у тебя богатенький такой?
– Даня… – нет, Дане не показалось: в сонме голосов совершенно точно один его. Она быстрым шагом выходит в коридор – Даня поднимает коробки с газетами, привезенными из типографии. На нем все та же куртка – только теперь в воротке угадывается шерсть свитера и заправленный шарф Даны. Она прислоняется плечом к стене.
– Ты как здесь?
– Подработка же, – Даня ставит одну коробку на другую – и он поднимает так, словно веса не существует, только картонное дно провисает под тяжестью. – А ты говорила, в вузе работаешь.
– Да я полдня там только, – Дана поправляет локон, убирая его из-за уха. – Ты вечером-то придешь?
Даня поправляет дно коробки коленкой, собирается что-то ответить, но его прерывает возглас.
– Какие люди и без охраны! Шишкова, ты, что ли?
По узкому коридору к ней, расталкивая людей (и откуда столько в маленькой редакции?), идет мужчина – тридцати пяти лет, с узким, вытянутым лицом. В коричневом пиджаке на серую футболку, в темных джинсах. Он смахивает снег с волос – сухой, высокий, постриженный под машинку, с открытым лбом и острыми скулами, прямым носом и четко очерченными губами, которые растянулись в странную, восторженную улыбку, которая, впрочем, быстро прячется, – и радостью загораются серые глаза. Он встает, закрывая Даню, и тот, поудобнее подхватив коробку и склонив голову к плечу, с секунду смотрит в спину подошедшему, затем, подмигнув Дане, парень просто разворачивается и уходит. Ладно, думает Дана с досадой, вечером он придет – и она расспросит, что за подработка такая перед ЕГЭ, когда самое время готовиться, а он таскает коробки. В окне в конце коридора отъезжает синий УАЗик с выведенной белой краской надписью «Почта России», и мужчина щелкает пальцами перед лицом.
– Не спать, Шиш. Че залипла?
– Привет, Антон.
Ее одноклассник из тридцать второй гимназии. Когда-то носил за ней портфель и залез языком в рот на выпускном – а наутро его забрали в армию, откуда он пошел в Новосибирский военный институт, потом, кажется, на юрфак. Иногда он приезжал в город летом – тогда они собирались классом в парке и пили до утра. Дане казалось, что он всегда старался остаться с нею наедине, да только рядом с ним всегда крутились девчонки. История получилась глупая, неясная, с открытым концом и незавершенным поцелуем в школьные годы. Насовсем Антон вернулся уже как старший следователь – и они с Даной как раз разминулись.
– Привет, Дана.
Антон стучит свернутыми в трубку бумагами ей по лбу.
– Вернулась, значит, – тон у него высокий, приказной, он шумный. – А где муж?
– Объелся груш.
– А у меня нет жены. Она объелась бе-ле-ны.
Дана закатывает глаза.
– Ты как тут?
– Да вот без пресс-службы мы остались, Дана Игоревна. Оленька ваша глупости пишет на сайт. Кому еще не озаботиться, как не следователю, который, по донесению оперов, несчастий им и лет жизни покороче, жопу в кабинете пригрел? – он раскатывает листок и, смешно сощурившись, читает: – «60 трупов за неделю». А заголовок знаешь какой? «Такие дела». Предотвращаю репутационный ущерб, пока нас прокуратура без смазки не выебала, извини за французский. Нельзя что ли релиз перепечатать?
– Меня песочишь? – Оля появляется позади, обнимает Дану за талию и кладет подбородок на плечо. – Гадкий ты, Антон Евгеньич, не был бы таким противным, может, приятное писала бы про контору вашу. Пошли лучше с нами в «Геометрию» в субботу? Дам шанс подружиться.
Антон снова сворачивает листок в трубку – почти зло и, ловко достав из красной пачки «Святого Георгия» сигарету, закидывает ее в рот.
– Я тебе шутки шучу, Ольга Андреевна? Совсем уже берега потеряла? – щелкает зажигалкой, и Дана машет ладошкой, разгоняя дым, дует через щелку в губах, отгоняя от лица, – не могу я в субботу, у племяшки день рождения.
Грудь поднимается, когда Антон шумно затягивается, серые глаза продолжают изучать лицо Даны, уголок губ поднимается в улыбке.
– Вернулась, значит. Я рад.
Он облизывает губы и зажимает сигарету зубами, и в этом ничего такого нет, но Дане видится в этом что-то хищное и страшное, такое, от чего она отступает на шаг и едва не роняет Ольгу. Она до сих пор боится – и страх в ней мешается с агрессивным вызовом, жаждой свободы и победы, Дана пожимает плечами и поворачивается к подружке вполоборота.
– А я схожу. Сходим, Оля, развеемся.
Глава 3. Подтекст
Даня открывает дверь и, сбросив кроссовки, сворачивает из коридора в ванную. В квартире еще темно – лишь на кухне горит свет. Это, конечно, не про физическое и телесное, это про духовное, нравственное и высокое – но он столько раз представлял смятую в ногах простынь, жар постели, поцелуй в шею, ладонь на пояснице, дыхание у щеки, что – твою ж мать, парень врезается плечом в косяк, спешит, даже про шпингалет забыл – все займет меньше минуты: он чувствует внутри тугой узел, яйца болят и поджимаются к члену. Даня чуть ли не подбегает к раковине, сдвигает брюки и резинку трусов под мошонку, освобождая упруго покачнувшийся член с багровой, почти фиолетовой от прилива крови крупной головкой. Ладонь быстро разминает горячую плоть, и на белую эмаль, оттертую до скрипа «Кометом», падает жемчужная капля. Не мастурбирует – с силой дергает, поджав таз, ловит ускользающий оргазм, задирает подбородок, зажмурившись, упираясь свободной рукой в стену рядом с зеркалом.
Ладонь на ее пояснице.
Губы на щеке.
Его губы на ее губах.
Ему десять – и он обвивает шею ручонками, как удав, готовый задушить, прижимается жарким ртом к нежным губам в розовой помаде, он бы рвал плоть до крови, сунул язык промеж зубов, и стало бы влажно, хорошо, приторно, как торт, купленный на день рождения, блять, он бы поднял изящную ножку, согнув в колене, вошел бы сзади, задрав ночнушку до самых ключиц, черт, ах, блять… Тугая струя бьет в дно раковины, еще и еще, Даня шипит сквозь зубы что-то бессвязное, что-то про Дану – какая она сладкая, какая хорошая, какая, блять, нужная.
Да, черт, кончил, как гребаный скорострел меньше чем за минуту. Тут же открывает ржавый у основания кран, смывая семя потоком ледяной воды. Даня моет начинающий опадать член, прочищая под кожей большим пальцем, заправляет в белье и натягивает брюки. Еще с десяток секунд стоит, сжимает раковину, старается отдышаться. Дыхание лающее, с хрипами, Даня поднимает глаза – и в зеркале отражается разбитое лицо с глазами голодного зверя.
Дана, я тебя съем. Закину на язык, как марку, перетяну у локтя жгутом и пущу по вене – наркоманы не отказываются от дозы, они за нее убивают: дай мне немного времени, я заманю тебя в свое логово, схвачу за шкирку, как волк тащит волчонка, уволоку в нору; запру дверь на замок и щеколды задвину насмерть – пусть прикипит железо, я никому тебя не отдам. Я не ребенок больше, мне не одиннадцать – я не побегу за отъезжающей машиной, размазывая сопли по чумазым щекам. Я проколю шины, воткну водителю отвертку в шею, я спрячу тебя в ладонях, никому и никогда тебя больше не покажу.
Я тебя
Никому
Не отдам.
Вода остужает лицо и мысли, руки еще трясутся, он снимает с истертой бельевой веревки полотенце и вытирает шею. Из красного тюбика Colgate мимо зубной щетки падает шарик трехцветной пасты, Даня чистит зубы, споласкивает рот, когда слышит из коридора что-то среднее между рычанием и словами. Утробное, тяжелое, с сильной вонью рвоты и перегара – Андрей неуклюже ползет вдоль обоев с розочками, цепляясь за стену, медленно перебирая ногами так, будто суставы закаменели. Один глаз заплыл и не открывается, в трещинках в уголках рта собралась омерзительная пена, на штанах – мокрое круглое пятно. Даня встает, подперев плечом косяк.
– Дядя Игорь тебе не сказал, где Дана работает?
Говорила, что на полдня в вузе, а где еще?
– «Город сегодня», – ворчит Андрей и покачивается, голос хриплый после долгого молчания.
Ах, как хорошо все! Губы Дани тянутся в улыбке, рука касается ссадины – там, где еще горел поцелуй Даны. Настроение прекрасное, и можно шутку.
– Обоссался, боец?
– А ну, блять… – пьяно хрипит Андрей, – заткнись нахуй!
Ха-ха! Улыбка кривит губы, Андрей и Даня никогда на равных не были: сначала Даня битый стоял в углу, потом – Андрей стал шугаться тени и резких взмахов. Отчим боится – Даня чувствует кислый запах страха, видит, как тот еще мужается, но трясется весь и сжимается телом. Даня оказывается рядом мгновенно, он не касается – брезгует, только смотрит в хмельные глаза и улыбается как безумный.
– Повезло тебе, что настроение у меня сегодня хорошее.
Сделав усилие, Даня с гримасой отвращения проходит мимо. Андрей – грязь на стерильно белом кафеле, моль в шкафу, соринка под веком, главная причина, по которой дома всегда пахнет «Белизной» и порошком «Лотос» для ручной стирки. Ох, как раздражает эта бесконечная вонь ссанины и блевоты из его комнаты, как бесит обрюзгший, помятый видок. Дом и при Ане всегда был в помоях – та вообще ни за чем не следила, только жрала водку и раздвигала ноги, или, вернее, ей раздвигали. Но Анюта хоть изредка, да мыла комнату и даже чистила матрас, а как гроб с ней вынесли – все, Андрей окончательно засрался и превратил свое место в хлев. Жалкая вошь на трупе собаки. Пусть существует – плевать, на все плевать теперь! Можно прикрыться побоями, тонкой курткой, ссорой – и напроситься в гости, чтобы она напоила чаем и уложила спать.
Даня быстро шмыгает в комнату. Здесь – чисто, педантично чисто, из приоткрытой форточки тянет зимой, свежим снегом. Линолеум только вздулся в стыках, по краям легла тонкая снежная пыль, но все аккуратно, даже прилично – Даня своей комнатой очень гордился. Сюда не стыдно привести друзей – или, может быть, девушку: до этого здесь, на кровати, туго заправленной покрывалом с оленями, лежало, постанывая, даже слишком много девочек, но вот той самой, самой прекрасной и милой Даны, еще не было, точнее сказать, пока не было. Значит, и девчонок считать глупо, ни одна не идет в счет, потому что ни одна из них не Дана – все это репетиция, я мастерство оттачиваю.
Впрочем, правда: здесь, можно сказать, Дану не стыдно раздеть.
Даниил качает головой, старается вытрясти морок из мыслей – я ее так люблю, что готов без постели, просто: сесть рядом, в глаза смотреть, касаться щеки рукой; просто лелеять, ею владеть, показать, что значит обожать. Он бы сел перед ней на корточки, положил щеку на бедро и закрыл глаза – да так и бы и умер от нежности.
Щелкает выключатель, медленно разгорается под потолком лампа в патроне, старенький, еще из девяностых, «Горизонт» на тумбе шипит белым шумом, в углу экрана мерцает огромная зеленая цифра третьего канала. Под ним – плотный такой, стального цвета DVD-плеер с отсеком для кассет, рядом – диски без подписей и кассеты: «Спирит: Душа прерий», «Лило и Стич», «Коммандо». Выцветший плакат Би-2, приколотый кнопками над кроватью, тускло блестит. Под подушкой в белой наволочке спит охотничий нож, который Даня получил от отца в пять лет, или, наверное, Даня это себе придумал. Папу Даня не запомнил, но он ему часто снился: большая фигура в кожаной куртке и с бритой головой, хотя, по рассказам, он носил пальто, и волосы у него были, как у Даниила, пшеничные. Нож сначала припрятала Анюта, потом бабушка, потом уже сам Даня. Он ему очень нравился – с темной матовой сталью, берестой в рукояти, – нож хорошо лежал в ладони и резал даже волоски.
Даня распахивает шифоньер – лак на дверцах побледнел, когда-то блестящие вставки облупились и пожелтели. На полках – стопки футболок, носки собраны в комки. Он достает идеально отглаженную рубашку, брюки, кидает на койку, потом быстро скидывает учебники в рюкзак. Садится на постель, израненный ножом матрас продавливается. Он надевает теплые, колючие носки – зимние кроссовки брал на вырост, немного великоваты.
Свет фонарика на «Сименсе» выхватывает надпись «Оля шалава» на стене подъезда и черные точки от спичек на побеленных ступенях сверху. Даня думает о том, как сегодня вечером сядет рядом с Даной – коленка к коленке, может быть, удастся подобраться ближе, носом вести по ушку, шее, что-то шептать интимно про примыкание и управление, и Даня готов стать зависимым словом, подчиниться главному и сесть у ног.
Теперь-то все пойдет легко – просто надо держаться рядом, положить поводок в ладошку, сжать пальчики; сейчас жалеет, потом проникнется, приласкает, возьмет за ошейник, к себе потянет, домой; туда, где светлая спальня, где смятая в ногах простынь и поцелуй в горячее плечо.
Ледяной ветер сбивает сладкий бред, на крыльце Даня идет по следам от сапог. Луна качается где-то за домами, снег летит медленно. Мороз сразу ударяет в лицо, забирается колючими ладошками под тонкую куртку. Лобовое стекло «Пежо» покрыто изморозью, но в пассажирском немного видно – Дана уже в машине: изо рта идет пар, она ежится, сует руки в карманы. Хочется дотронуться. Взять ладони в свои и держать, целуя пальчики.
Старенький француз всхрапнул, но завелся.
Даня садится в машину, застегивает ремень, Дана наклоняется, поправляет воротник, и он замирает, не дышит. Пальцы касаются шеи, волна мурашек ползет с затылка.
– Данечка, – шепчет горько, – ты ведь замерзнешь совсем. Я у папы возьму денег, купим тебе пуховик, м?
«Данечка» – неслышно вторит, так будет звучать оргазм, теперь фантазия станет ярче, объемнее, я прошепчу за тобой «Данечка», пока заливаю кулак спермой. Даня почти не думает – накрывает ладонь своей, жмет к щеке пальчики. Слова про пуховик доходят не сразу, как сквозь вату, да, точно, он же перед ней едва ли не голышом красуется, на жалость давит; о, Дана, я этим чувством себя к тебе привяжу крепко, обвяжу цепь у лодыжки, под самой косточкой – только себе цепь я на шею кинул, потяни потуже, я весь твой.
– У меня подработка есть, – произносит тихо, – мало заплатили просто в этом месяце.
Резкий и гневный выдох, Дана цепляется за руль. Машина трогается – Дана спрашивает о школе, об уроках, и Даня рассказывает, как становится тяжелее учиться и с приближением весны задают все больше, как учителя трясутся перед ЕГЭ, как добавилось факультативов и заставляют оставаться после занятий – а ему надо работать; как Андрей вчера вернулся пьяный и упал в коридоре.
Дана сжимает руль до кожаного скрипа и кусает щеку, брови буквально ходят по лбу – она крепко думает о чем-то, взгляд темных глаз стеклянный, неподвижный, устремленный за снежную пелену. Голос Дани срывается, он пытается говорить ровно, но сердце колотится от близости. Встречные фары освещают красивый профиль, трепещущие ресницы отбрасывают тени на исхудавшие щеки. Красные отсветы стоп-сигналов добавляют инфернальности, эфемерности; и Дане чудится, что он все еще дома, на изрезанном матрасе в стылой комнате, что все это – сон, который приходит к нему каждую ночь. Вот сейчас даже можно потянуться ладонью к шее, скользнуть за ушко и прижиматься лбом к виску, и Дана ответит – точно ответит, во сне она всегда взаимна.
Во сне Даня всегда обласкан, всегда любим.
Резкий толчок, машина клюет носом. Даня инстинктивно упирается ладонью в бардачок, качнувшись, но глаза приклеены к Дане. Не ушиблась? Все хорошо? Она замирает, щурится, словно по груди ударили, девичья ручка прижимается к ребрам, пальцы утопают в пышном меху шубки.
– Тебе больно?
Сердце у Даниила разбивается следом, кто-то тронул его Дану, кто-то оставил след за ушком, там, где он скоро поцелует и языком залижет. Вернулась – развелась, значит, Дана, он сделал больно? Испугал, бил, морил голодом?
Правое веко отлипает с трудом, и Даниилу приходится открывать глаз пальцем.
– Нет, – Дана качает головой и поправляет волосы, убирая локон из-за уха.
Школа. Машину тащит на снегу, и Даня замечает у кованых ворот Настю – девочка стоит, сжимая цветастый пакетик с изображением бантика; нарядная, нет, наряженная, в мохнатой шапке-ушанке, коротком пуховичке, юбке-карандаше до колена, в осенних сапогах, кожа которых плотно облегает узкие икры в светлом капроне. Нелепо, в такую-то погоду!
– Ну что, – говорит Дана беспечно, – до вечера?
Даня не сводит с нее серьезного взгляда и потом только улыбается уголком губ. Что бы ни испугало тебя, я найду способ тебя успокоить. Еще вчера ты мне снилась – а сегодня говоришь «До вечера».
– До вечера.
Дана с недовольным выдохом стягивает с себя шарф и набрасывает на Даниила.
– Накинь.
Вот и цепь – петля на шее, шерсть касается кожи, запах Даны – дорогой парфюм, дом, – бьют в нос, и Даня шумно втягивает воздух, как волк, учуявший хлев, боже-боже-боже, столько всего за раз, и Данечка, и шарф, и до вечера, столько подарков на мои восемнадцать, что голова кругом.
– Спасибо, Дана, – бормочет, и голос срывается, становится хриплым, чужим.
Дана отводит взгляд, щеки покрываются румянцем. Стыдно? Должно быть стыдно, любимая, ты надела на меня ошейник и теперь испугалась, что не удержишь. Даня выходит в мороз, захлопывает дверь, провожает машину взглядом. Пар вылетает облаком изо рта.
Поводок натянут, что аж звенит.
Поправив шарф, Даня перебегает дорогу на красный.
Зеленые глаза Насти тут же впились в лицо – Даня физически ощущает эти тоненькие укольчики. Едва не поскользнувшись, девочка торопится навстречу.
– С днем рождения! – выдыхает, тянется губами в липком розовом блеске к щеке, но Даня инстинктивно отстраняется.
– Насть, ну че ты…
Девичье лицо замирает в сантиметре от него, от Насти пахнет сигаретами, прикрытыми сверху мятной жвачкой. Взгляд скользит по его лицу, выискивая доказательства, цепляясь за детали, она нюхает воздух, как змея, втягивает цветочно-горький шлейф взрослых, женских духов, отстраняется резко, будто ножом ударенная – сгоряча и несправедливо.
– Это что? – голос срывается на хрипотцу, она пальчиком тычет в шарф. – От кого? Кто тебя подвез? – замечает во мраке ссадину на щеке, пластырь на носу. – Дань… Ты с Андреем подрался?
– Да так, – Даня пожимает плечами, – пошли лучше, пока не задрыгла вся… Дубак такой, додумалась одеться.
– Сам-то, – бросает она, но маленькими шажками идет следом, стараясь держаться на заледеневшем насте.
Стайка старшеклассников на крыльце курит, пряча оранжевые огоньки сигареты в покрасневших от мороза кулаках, они говорят громко, матерятся, хвастаются вчерашними попойками – от некоторых несет перегаром, Даня на бегу пожимает руки. Он не то чтобы особняком держится, так – толпиться не любит, к тому же Даниил больше по спортику, пьянками не интересуется, и все вроде бы к этому с уважением, все-таки про мать его знают, но и про батю тоже знают, поэтому как-то Даня сын авторитета получается больше, чем сын опущенной.
Вообще тому, кто назвал его сыном шлюхи, Даня сломал ребро.
Под ногами снуют первоклассники, неповоротливые, как пингвинята, с огромными, во всю спину, рюкзаками с изображениями Человека-паука и Гарри Поттера. Шестиклашки бросаются снежками, вымокшие, в снегу; воздух звенит от их визга. Тяжелые двери раскрываются, пропуская внутрь, здесь – еще громче, школьники галдят, кто-то включил на телефоне «Курит не меньше чем «Винстон», и Настя закатывает глаза. Даня сдает куртку в гардероб, убирает в рюкзак шарф, поправляет быстрым движением волосы. Подходит к стенду с расписанием, взгляд отвлекают нарисованные плакаты с 23 Февраля – 8А нарисовали физрука в образе фашиста, и Даня давит смешок, поднимается в класс. У окон на подоконниках списывают домашку и тусуются одноклассники из параллели. Даня так же пожимает руки парням, достает тетрадь по русскому – Тоха попросил списать, – заходит в класс.
Свет тут холодный; над встроенными деревянными шкафами, покрытыми белой краской в несколько слоев, черно-белые выцветшие портреты – красавец Курчатов с выразительным взглядом, Ньютон с пышной шевелюрой, Попов с седой бородкой и почему-то больше похожий на Троцкого. До звонка еще остается время, когда рядом с Даней за парту пристраивается Настя. Подарок скользит по коленям – чтобы никто не увидел и не стал дразнить. Мало кто вообще про день рождения Дани помнит – сегодня особая дата, но другая, траурная. Кожаный пенал – дорогой, пахнущий кожей, солидный, – ложится в руки.
– А то ходишь, как ребенок, с этим, – кивает на старый и потертый с мустангом из «Спирита». От Насти пахнет клубничным «Киссом» – успела сбегать, видимо, еще раз, разнервничалась из-за шарфа и уже нажаловалась на запах дорогих духов с куртки Юле и Дашке. Отдушка папиросок этих, длинных, тонюсеньких, с глянцевым розовым фильтром удивительно мерзкая.
Даня достает подарок на парту, ровняет с тетрадками, и мустанг смотрит ревниво, но насмешливо: я потому и потертый, потому что меня с собой каждый день носят; потому что каждый день касаются. Звонок дребезжит; ученики рассаживаются. Любовь Ивановна обводит класс взглядом из-под очков. Первым поднимает отвечать Ваню – он встает рядом со своим местом, кусает щеку. Учительница, сжав губы, смотрит на мучения.
– Ну, Попов, я что, что-то секретное у тебя спросила? Это на дом задано, – тон взлетает гиперболически, – смехота. Позор! Ладно – преломления не можешь назвать, так хотя бы закон отражения света назови!
Попов молчит – и весь класс замер, Любовь Ивановна округляет глаза, качает головой, дужка очков ложится в уголок морщинистых губ, накрашенных винного цвета помадой. Она командует:
– Так, Данечка, закон отражения света.
Даня поднимается, поправляет манжету, опирается пальцами на парту, на Попова не смотрит даже – Попов с портрета глядит на однофамильца и ухмыляется людской глупости.
– Угол падения равен углу отражения, – чеканит Даниил.
– Восьмой класс, – говорит весомо, – Даня с восьмого класса помнит, а ты… – тон рухнул гиперболически, – с учебника за восьмой начинать будешь, Попов.
– Так Даня ЕГЭ, вообще-то, сдает, – отбивается Ваня.
– Да я передумал физику сдавать, Любовь Ивановна, – Даня сразу обращается к учительнице и бросает взгляд в окно, где за отражением класса и снежной пеленой угадывается дорога, по которой она уехала. – Русский, математика… Может, литературу выберу.
– О как, – Любовь Ивановна хлопает густо накрашенными ресницами, поджимает подбородок к шее, – не дури давай. С таким-то складом ума. И кем работать будешь? С физикой все двери…
– Придумаю что-нибудь, – Даня пожимает плечами, – я ж на водителя от школы отучился. Сейчас вот… – он едва не говорит про день рождения; но сегодня не празднуют, – документы только осталось получить.
Остаток урока Настя бросает на него взгляды – быстрые, исподлобья, в которых прячутся и ревность, и обида, и что-то еще, что стыдно признать. От нее еще несет этой мерзкой отдушкой, и Даню мутит сильнее, чем от этих загадочных переглядок.
Когда до конца урока остается минут пять, Настя кидает в сумку тетрадь – сумочка-то женская, невместительная: пачка «Кисса», мятный «Стиморол», смятые десятки, блеск и тонкая пустая тетрадка на все предметы, вот и весь багаж. Притворство – Даня знает это. Звенит звонок на перемену – ученики встают, роняя стулья, спешат в аудиторию класса. Так происходит последние два года. Не для праздника, нет: Даня не носит конфеты на день рождения, потому что это делает другой человек.
Она заходит еще до звонка – с желтым безэмоциональным лицом, в траурной черной косынке и черной, но потерявшей яркость за годы носки, водолазке; седые волосы убраны, жиденький хвост лежит на остром плече. Кажется, что со слезами ушла вообще вся вода из этой женщины, и она превратилась в крючковатый сухостой. На ней обычно темные джинсы, заправленные в дутые сапоги, на подошву которых налип грязный снег.