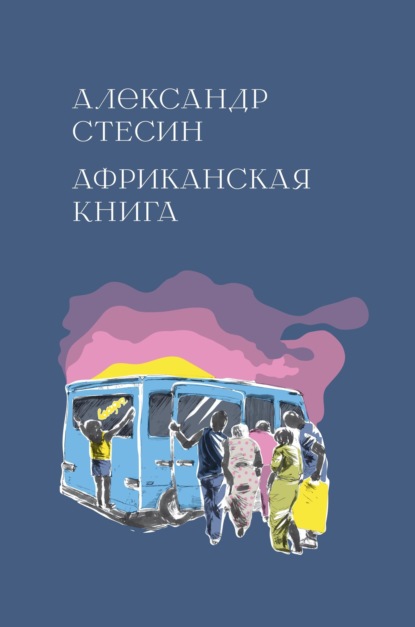Фонарщица

- -
- 100%
- +
Жизнь на борту китобойного судна нелегка, и уже прошел слух о том, что наш порт затянут туманом сверх меры. Оставить вахту на корабле – проступок известный, и часто капитан обнаруживает, что нерадивый моряк не появляется наутро, когда пора отплывать. Уорблер печально известен тем, что здесь исчезают китобои, ведь туман им в этом помогает. Если бы не наши носовые фигуры и не верфь, я думаю, что немногие капитаны рискнули бы бросить здесь якорь. Другое дело, когда в Уорблере пропадает кто-нибудь из местных – тут уж нам не до шуток, хотя такое бывает редко.
Я уже протерла и зажгла все фонари в округе, кроме одного. Грудь сдавливает напряжение. На небе меркнет последний свет, и ночь накидывает пелену тумана. Еще десять ярдов по улице, и я доберусь до северо-западного фонаря. Шаги даются с трудом, как будто к каждой ноге привязано по кирпичу. Не меньше. Я шарю рукой в пустоте, замедляя шаг.
Пальцы касаются холодного железа. Я вздрагиваю. Узнает ли оно отпечатки на кончиках моих пальцев? Чувствует ли, как кровь бежит по моим венам, тепло моей кожи? Знает ли оно, что я пришла к нему от Па? Суеверия и байки никогда не сравнятся с ужасом, испытанным по-настоящему.
Я перевожу дыхание, предчувствуя самое худшее. Поднимаю глаза и вздрагиваю. Отводя взгляд, я моргаю увлажнившимися глазами. Я все еще вижу его. Складки на его шее. Веревка глубоко врезалась в кожу. Помню, я подумала, как непристойно он высунул язык. А затем ужаснулась, что это первое, что я подумала.
Я качаю головой и прочищаю горло, а фонарный столб одиноко стоит в ожидании, когда я поделюсь с ним жарким светом. Через несколько минут теплое сияние разливается в воздухе, и я слышу, как Па говорит мне, крепко держа стремянку: «Молодец, девочка. Нести свет во тьму – это честь. У тебя призвание, Темп». – «Спасибо, Па, – отвечаю я, смеясь. – Но это нетрудно». – «О, ты бы удивилась, милая. Удивилась бы».
Я так и не поняла, когда он начал сдавать. Я понятия не имела, что он потерялся во тьме. Он даже виду не подавал. Единственное, что мне приходит на ум, – это что он не хотел нас тревожить. Почему он не сказал нам? Не знаю, смогла бы я помочь. Но он оставил меня в неведении, и маму, и Пру… это шло вразрез со всем, чем он был. Со всем, что он ценил. После этого я уже ни в чем не могла быть уверена.
Кто-то кричит. Крик вонзается невидимым крючком мне в пупок, и я вздрагиваю. Стремянка шатается под ногами, и я спрыгиваю, пока она не упала. Сердце норовит выскочить из груди. Я, спотыкаясь, иду на этот крик, шаркая ботинками по булыжной мостовой.
– Эй?
Крик донесся с востока. Я бегу к ближайшему фонарю и к следующему.
– Есть тут кто?
Я закрываю глаза и вслушиваюсь, пытаясь уловить любой звук, который подскажет мне, куда идти. Слышно только мое тихое горячее дыхание и запах влажной земли. Неужели крик мне померещился? Он прозвучал так отчетливо. Я открываю глаза и вижу неясный свет фонарей на улице и в окнах ближайших домов. Никто не выглянул, чтобы посмотреть, в чем дело. Мир замер, ничто не шелохнется. Я жду с минуту, прежде чем вернуться к своим инструментам. Иду я медленно, навострив уши, затем останавливаюсь и еще раз оглядываюсь через плечо.
Ничего. Никаких призраков в тумане. Только я, фонарный столб и образ Па, висевшего там, пока все лупили на него глаза. Сердце у меня тогда захолонуло, и всякая надежда разбилась вдребезги. Осколки вонзились мне в легкие, и меня пропитало горе. Когда констебли бросились вперед, оттаскивая меня от тела Па, я закричала, как кричат дети, внезапно вырванные из детства. Генри напустился на Мэтью: «Ты должен был срезать его!»
Крик, что я услышала, должно быть, прозвучал у меня в голове. Воспоминание все время витает где-то рядом. Я делаю глубокий вдох, отгоняя подозрения и страх. С моих губ срывается мрачный смешок.
Пру всегда увещевает меня, когда я выхожу на работу. «Смотри там, Темп. Даже фонарщики могут дать маху в тумане». Как будто я не знаю. Но она права, хоть я ей никогда и не сознаюсь. Окидываю взглядом улицу напоследок, а сама думаю, правда ли человек может сгинуть в тумане. С концами. Может, так оно и бывает, если теряешь бдительность: туман тебя истачивает. Постепенно. День за днем. Год за годом. Не это ли с тобой случилось, Па?
Я прикладываю руку к фонарному столбу и легонько сжимаю пальцы. Урчание в животе побуждает меня идти, к дому и ужину, приготовленному Пру. Всю дорогу до дома тишина, крик – просто еще одно воспоминание, которое растворится в тумане. И все же не получается совсем не замечать занозу сомнения, засевшую у меня под кожей. Я оглядываюсь через плечо. Со временем эта заноза, без сомнения, выйдет сама собой. Ну еще бы.
Глава 2

– Чувство времени у тебя безупречное, – восклицает Пру из-за камина.
Хотя стремянку я оставила на крыльце, остальные мои инструменты лежат на своем месте в прихожей рядом с масленкой, которую я возьму утром. Я гашу фонарь, кладу его рядом с сумкой, затем снимаю куртку и вешаю на крючок вместе с кепкой.
– Ты же знаешь, твоя похлебка манит меня, что зов сирены – моряков.
Пру улыбается, и на ее щеках появляется довольный румянец. Мама уже сидит за столом, перед ней исходящая паром миска. Вымыв руки, я тянусь к ленивому пламени, тепло огня окутывает меня, пока Пру заканчивает разливать похлебку из котелка в наши тарелки. Ее волосы собраны в простой пучок, но в свете камина они отливают золотом. Она напевает старую ирландскую песню, одну из любимых у Па.
Раньше меня огорчали эти обрывки нашей прежней жизни и то, как мы пытались залатать прорехи у себя в душе. Но без них нам, наверное, было бы хуже. Что касается этой песни, Па напевал ее всякий раз, когда они с мамой покачивались в танце перед камином, соприкасаясь лбами и взявшись за руки. Мы с Пру хихикали, прикрываясь ладонями, но им, казалось, было все равно. Они радовались каждому моменту, проведенному вместе.
Жар очага незаметно прогоняет беспокойство и озноб. Когда я занимаю свое место за столом, Пру ставит перед нами миски и протягивает руки к нам с мамой. Мой урчащий желудок едва ли не заглушает ее негромкую молитву, пока над миской поднимается дразнящий пар.
– Аминь, – говорит Пру, пожимая мне руку.
Я набрасываюсь на похлебку с нежнейшей картошкой и кусочками моллюсков. Такими восхитительно теплыми и сочными после сухих овсяных лепешек, что я ела днем. Моллюски не настолько соленые, чтобы жгло во рту, и в то же время достаточно соленые, чтобы я могла почувствовать вкус океана, в котором чего только нет. Не успела я глазом моргнуть, как моя ложка уже скребет по дну миски.
– Вкуснотища.
Пру трогает маму локтем. Словно встрепенувшись ото сна, мама поворачивается и медленно тянется за ложкой. Ногти у нее длинные, гладкие и чистые, благодаря заботе младшей дочери. Они так не похожи на мои, испачканные сажей и отдающие маслом. Пальцы Пру огрубели от постоянного шитья, стирки и работы в саду. А у мамы руки человека, чуждого мирских забот. Красивые, как у привидения.
Сестра кряхтит, я поднимаю взгляд и вижу, что она на меня хмурится. Она наставительно качает головой, и от стыда у меня пересыхает во рту. Она на два года младше меня, но все равно может хорошенько пристыдить за неодобрительные мысли о маме. Я снова опускаю глаза в миску, отгораживаясь от маминого тихого чавканья.
– Было что-нибудь сегодня? – спрашивает Пру находчиво после того, как я встаю и наливаю себе добавки из кастрюли.
– Между прочим, кое-что было. Я наткнулась на Сюзанну и Молли. Молли передает привет.
Пру кивает, но видно, что ей это ни капельки не интересно. Она сидит на краешке стула и словно подрагивает – не девушка, а фитилек, окаймленный пламенем. К похлебке она даже не притронулась. Я проглатываю еще ложку, но Пру так смотрит на меня горящими глазами, что я вытираю каплю с подбородка.
Когда Па умер, Пру стала делать все возможное, чтобы прогнать из дома тишину и утрату. Вечно в движении – работает, планирует, тараторит, не ожидая ответа, полная воодушевления и оптимизма, – Пру точно воробушек. Ею хотелось любоваться, и в целом она поднимала настроение, но все же могла быть докучливой. Год назад она, к счастью, применила часть своей энергии на создание книжного клуба. Теперь каждую неделю она собирается с деревенскими кумушками, разбавляя повседневные заботы обсуждением прочитанных книг и затронутых в них тем. Однако ее кипучая энергия могла бы вывести из себя и святого.
Если бы только эту ее энергию можно было поставить на службу людям, китобоям не пришлось бы охотиться за китами ради масла для фонарей. Нам бы всем светила Пру. Эта чудная идея заставляет меня давиться смехом в похлебку. А Пру даже не замечает. Яснее ясного – она витает в своих мыслях. Я проглатываю еще кусочек картошки и не торопясь прожевываю, а потом, отложив ложку, откидываюсь на спинку стула.
– А у тебя как прошел вечер?
– Он придет, – выпаливает она и прикусывает губу, сдерживая улыбку.
– Кто придет?
– Мой тайный воздыхатель. Завтра!
Она лезет в карман и достает письмо с восторженной нежностью маленькой девочки, получившей новую куклу. Ее энтузиазм и радость вызывают у меня улыбку. Рядом с Пру легко забыть о мрачных тенях. Она мое солнце.
Тем не менее у меня невольно перехватывает дыхание. Этот молодой человек, кем бы он ни был, настроен серьезно. Это уже не безопасный флирт по переписке. По крайней мере, теперь мы узнаем, кто он такой, и я составлю взвешенное представление о дальнейшем курсе действий. Я протягиваю руку за письмом, и Пру вкладывает его мне в ладонь и садится обратно, чуть ли не подпрыгивая на месте. Печать из черного воска блестит, точно горячая смола.
– Он не хочет подождать до Собрания?
Пергамент с тихим шелестом разворачивается в моих пальцах. Почерк изящный и витиеватый. Предложения рассудительны. Ученый муж. Я просматриваю начало. Пру не торопит меня, пока я вчитываюсь в каждую фразу, хотя ее руки так и не находят себе места на коленях. Я пробегаю глазами красноречивые описания жизни в Уорблере и нежные комплименты в адрес Пру.
По правде говоря, мое сердце больше не в силах носить эту маску. Я должен Вас видеть. Если желаете, оставьте ворота вашего дома открытыми в знак согласия. Я предстану пред Вами с восходом солнца, и, надеюсь, это станет началом новой главы в нашей жизни, если Ваша семья отнесется к этому благосклонно.
Навеки ВашЯ дважды перечитываю письмо и смаргиваю слезы. Джози никогда бы не написал мне любовного письма, да и вообще никакого. Мы ведь знакомы с детства; ему и нужды не было ухаживать за мной. Я сглатываю непрошеное нутряное чувство. Сейчас не время для мелочных мыслей.
Кто-то по-настоящему неравнодушен к Пру и, возможно, любит ее, как она того заслуживает. И он, очевидно, достаточно тактичен, чтобы ценить мнение нашей семьи, несмотря на то что мы остались без мужчины. Уорблер, при всей своей открытости по сравнению с другими городками Новой Англии – вот же, я, женщина, работаю фонарщицей, – все-таки довольно старомоден. Традиции и порядок ценятся очень высоко. У Па была присказка: «Не завяжешь узелок – и веревка распустится». Когда есть что-то проверенное, не всем охота пробовать что-то новое.
Но эти замечательные качества не объясняют скрытности этого человека. Вот уже четыре с лишним месяца, как Пру получает от него по письму каждые две недели. Все письма она хранит в сундучке, стоящем в изножье ее кровати, и каждое утро с улыбкой и вздохом достает самое свежее. Я поймала себя на том, что жду такой недели, когда письмо не придет, когда он потеряет к ней интерес, словно ничего и не было, оставив Пру с разбитым сердцем. Если он покажется завтра, то уже не сможет отступиться. Не уловка ли все это, чтобы Пру наверняка влюбилась в него, прежде чем узнает, кто же он такой? Может, он слаб на выпивку? Должник? Изгой?
Когда я поднимаю взгляд, улыбка с лица Пру исчезает. На смену ей приходят нервозность и встревоженность. Я вижу в ее глазах отражение своей прагматичности и критичности, и внезапно меня переполняет гнев на наших родителей за то, что они сделали меня такой циничной. Ужин бурлит у меня в животе. Я глубоко вдыхаю через нос, пытаясь успокоиться. По тому, как поникли плечи Пру, я вижу, что она поняла мое неодобрение.
Я складываю письмо, а вместе с ним – свои сомнения и страхи. Разве могу я лишить Пру шанса на будущее? Я прочищаю горло. Мне трудно сохранять невозмутимое выражение лица, но я стараюсь. Когда я бросаю письмо на стол, свет в глазах Пру меркнет, хотя спина остается прямой, как шомпол. Я выжидаю достаточно долго, чтобы помучить ее, прежде чем улыбнуться.
– Ну, и что ты собираешься надеть?
За этим следует радостный визг, и Пру пускается в пляс. А дальше мы обсуждаем достоинства ее голубого платья, которое подчеркнет голубизну ее глаз, против кремового с кружевной отделкой, которое подчеркнет золото ее волос. Мы хихикаем, а мама смотрит на нас безучастно. Пру перечисляет приметы его писем: «На нем ни чернильных пятен, ни клякс, значит, он либо точно знает, что хочет сказать, либо умеет ждать, прежде чем принять решение. Он почти не говорит о себе, стало быть, его никак не назовешь тщеславным. Качество бумаги предполагает, что он может быть человеком состоятельным. Только представьте, что вам не надо будет беспокоиться, чтобы у вас было вдоволь еды». Я подыгрываю ей, притворяясь, что не слышала от нее тех же слов в течение последних месяцев.
Она продолжает рассуждать о завидных качествах своего воздыхателя, а я вынимаю шпильки из косы. Волосы тут же рассыпаются. Я пропускаю несколько прядей между пальцами, и они блестят в свете камина. Я могу носить брюки, и мои руки часто бывают грязными, но волосы – единственная женственная черта, которой я дорожу. Это единственное, что объединяет нас с мамой. Длинные, густые, медного цвета волосы. Было время, когда она запускала в них пальцы и массировала мне больную голову. Каждый раз, как я начинаю заплетать косу, я словно чувствую легкие, будто поцелуи, касания ее пальцев, как это бывало, когда она учила меня в детстве. На мгновение у меня щиплет в глазах.
Я бросаю на нее взгляд, но она смотрит на что-то, невидимое ни мне, ни Пру. Она так и не оправилась после смерти Па, даже по прошествии стольких лет. Навеки замкнувшись в убежище, в котором схоронилось ее сердце. Я откашливаюсь, прогоняя грустные мысли, и подбрасываю дров в огонь, пока Пру собирает посуду. Ее веселая болтовня ненадолго стихает, она переводит дыхание, и я могу задать вопрос:
– Что ты будешь делать, если он окажется непривлекательным?
Она закатывает глаза:
– Я не верю, что так будет. А хоть бы и так, меня не волнует, как он выглядит. Я влюбилась в этого человека, а не в его внешность.
Убежденность, с которой она это говорит, звучит очень по-взрослому. И мне от этого не по себе. Она так быстро выросла. Только бы он не обидел ее.
Когда она тянется за моей миской, я пожимаю ей руку, прерывая ее порхающее движение:
– Очень рада за тебя.
Ее щеки наливаются румянцем, и я чувствую ответное пожатие.
ХРЯСЬ! Мы обе подскакиваем, поворачиваясь на этот звук к окну. Пру хватается за горло, когда что-то темное с грохотом бьется о стекло, отодвигается и снова наскакивает. Хрясь! Это ставень разболтался. Ветер свистит в камине, ворошит угли, подтверждая, что бояться нечего. Это только ветер. Но мое сердце чуть не выскакивает из груди.
– Боже правый, – нервно говорит Пру и смеется, покачивая головой.
Я выбегаю из дома закрепить расшатавшийся ставень и быстро проверить остальные. Ветер так разогнал туман, что стало видно дорогу, по крайней мере до второго фонарного столба. Воздух – это облачная река, находящаяся в постоянном движении. Порыв ветра швыряет волосы мне в лицо, и моя стремянка с грохотом падает на землю. Свернуться бы сейчас калачиком под одеялом и слушать свист и стоны ветра за окном – эта мысль кажется на редкость заманчивой, особенно на полный желудок. Но если ветер может расшатать ставни, то есть вероятность, что распахнется и дверца на фонарном столбе. Я всегда проверяю, чтобы они были хорошенько заперты, но мать-природу нельзя недооценивать.
Свет не должен погаснуть. В мои обязанности фонарщицы входит по крайней мере один обход деревни после того, как я зажгу фонари, чтобы убедиться, что огни по-прежнему ярко горят. Войдя в дом, я начинаю заплетать волосы обратно в косу, которую укладываю вокруг головы.
– Уже? – кривится Пру.
Я киваю, затем хватаю кепку и натягиваю, закрепляя булавкой, чтобы она плотней прилегала. Пру ставит посуду в раковину, а я накидываю на плечи куртку.
– Не помочь, пока я еще тут?
– Ну что ты. Мы с мамой справимся с посудой.
Она похлопывает маму по руке, как будто и вправду рассчитывает на ее участие, и я отворачиваюсь, пряча гримасу.
Выйдя на улицу, я едва успеваю ухватить дверь, чтобы ветер не приложил ее о стену. Ветер проносится по деревьям со зловещим шелестом. Листья, сорванные с ветвей, летят и метут мостовую. Каждый фонарь на моем пути светится в ночи, как маяк, отражая свет ручного фонаря. Но почему-то от этого света ночь кажется еще темнее. К каждому фонарю я прислоняю стремянку и проверяю защелку на дверце, убеждаясь в ее надежности. Большинство людей в этот поздний час сидят по домам, доедают ужин или уже легли спать, но мне нельзя полагаться на авось. Свернув на Силт-лейн, я понимаю, что не зря волновалась. Фонарь погас.
Мое сердце обгоняет ноги, когда я спешу через размытую пустоту и, к своему удивлению, обнаруживаю, что дверца очевидно закрыта. Беглый осмотр ничего не дает. Все стекла целы, не видно ни единой трещины. Я не понимаю, отчего погас свет. Дверца легко открывается: фитиль на месте, ворвани хватает. Странно.
Небрежно скрученный фитиль может сказаться на горении, так что, возможно, дело в этом. Я достаю из сумки ножницы и обрезаю кончик нужным образом, чтобы пламя горело ярче и чище. После этого я зажигаю фонарь в два счета, уверенная, что он будет гореть до утра, когда я приду тушить его. Закончив, я спускаюсь на землю и продолжаю обход. Не считая ветра, на улицах по-прежнему ничего интересного. Все на своих местах. Но и следующий фонарь перед Зеленым парком тоже не горит.
И снова никаких намеков на то, отчего погас огонь. Все как будто в порядке, никаких повреждений. Фитиль тоже кажется нормальным, хоть я и грешу на него, как и в первом случае. По коже пробегают мурашки, словно волна, накатывающая на берег. Я уверена, что зажигала оба фонаря. Эту сторону Зеленого я осветила перед тем, как наткнулась на Молли с Сюзанной, так что дело не в моей рассеянности. Я оглядываюсь через плечо и пытаюсь разглядеть в тумане то, чего там нет. Я сама не знаю, что ищу.
Ветви яростно раскачиваются на ветру, шумя при этом, точно водопад. Они то возникают в моем круге света, то исчезают, будоража воображение. В памяти всплывает крик, прозвучавший ранее, и я крепче хватаюсь за фонарный столб. Мог ли крик быть настоящим? Краем глаза я улавливаю движение у самой земли, и у меня перехватывает дыхание. Я не одна. Кто-то крадется за мной, держась вне поля моего зрения. Я собираю всю волю в кулак и поднимаю фонарь. Из темноты на меня смотрит пара серебристых глаз. Это енот.
Я делаю три глубоких вдоха и с трудом расслабляю плечи. Дергаться из-за ерунды вредно для здоровья. Главное – снова зажечь фонарь и покончить с этим недоразумением. Подрезав фитиль и здесь, я поспешно зажигаю его. На меня рассчитывают люди. Конечно, большинство из них, скорее всего, напились, судя по крикам и одобрительным возгласам, доносящимся сквозь туман, но они будут благодарны, когда доберутся домой или вернутся в гостиницу из таверны.
«Не потеряйся в тумане, Темп». Мое сердце бешено колотится, когда я продолжаю путь. Перед тем как повернуть за угол, я задерживаю дыхание. Фонарь в начале делового района мерцает. Я выдыхаю, чувствуя, как отпускает напряжение в груди. Не горели только два фонаря, что, безусловно, настораживает, но не слишком. Должно быть, виноват ветер.
Нет причин ставить кого-то в известность об этом. Я бы просто напросилась на неприятности. Генри не вступился за меня во время стычки с Леонардом, поэтому не стоит ожидать, что он сделает это здесь. Лучше я сама с этим разберусь. Таверна, подтверждая мои ожидания, выглядит еще более оживленной, чем раньше. У одного мужчины ветер сорвал кепку, и он, спотыкаясь, побрел за ней по улице, под громкий смех приятелей. Впрочем, фонарь, похоже, не пострадал от ветра, и мне хочется обойти его стороной, а заодно и пьяный кутеж, творящийся под ним. Да только я знаю, что не смогла бы тогда спокойно заснуть.
Быстро оглядевшись, я убеждаюсь, что Леонарда поблизости не видно. Успокоившись, я проверяю фонарь и иду дальше по улице, не привлекая лишнего внимания. Остальные фонари по всему деловому району мерцают в ночи, словно большущие глаза, наблюдающие за моими передвижениями. Ни один фонарь не погас, и это хорошо, потому что ветер баламутит реку, точно ведьма – свой котел. Волны разбиваются о причал, и тени кораблей кажутся танцующими великанами. Если кто-то упадет в воду, ему уже не выбраться.
После того как я сворачиваю с пристани, меня ждет мастерская Гидеона. Дверь распахнута настежь, словно яркая пещера в темноте, что одновременно помогает фонарю и огорчает меня. Он дома. Над входом висит вывеска, покачиваясь со скрипом. Уорблерский плотник. Каждая черная буква на белой вывеске вырезана из отдельного куска дерева. Буква «л» в слове «плотник» в какой-то момент отвалилась, и хозяин не стал ее заменять, поэтому теперь вывеска читается как «потник».
Чем ближе я подхожу, тем отчетливей слышится ритмичный скрежет. Я представляю, как фуганок скользит по дереву. Медленно возникают руки, сжимающие рукоятку инструмента, с длинными мозолистыми пальцами и короткими ногтями. Далее идут предплечья, оплетенные мышцами, с синими венами, пульсирующими под бледной кожей. Руки торчат из-под тонкой рубашки с закатанными до локтей рукавами.
Я прислоняю стремянку к фонарю как можно тише. Но с плеча соскальзывает сумка. Я вздрагиваю, когда она с лязгом падает на мостовую. В мастерской становится тихо. Я взбираюсь на стремянку, чувствуя, как встают дыбом волосы на затылке. В меня вместе с воздухом пробирается оглушительная тишина и оседает внутри, как заразная болезнь. По рукам под курткой ползут мурашки. Мне не нужно оглядываться. Я знаю, что он стоит там, наблюдая за мной. Бесстрастные голубые глаза шарят по мне, оценивая каждый дюйм.
Огонь в фонаре горит ярко, дверца надежно заперта. Я спускаюсь, складываю стремянку, подхватываю сумку и ручной фонарь и спешу прочь, делая вид, что не замечаю плотника. Но любопытство заставляет меня оглянуться на ходу через плечо. У меня перехватывает дыхание. Гидеон высится на пороге мастерской рваной раной в теплом свете. Его мягкий голос долетает до меня, словно шепча на ухо:
– Приятная ночка, Темперанс.
Я чуть улыбаюсь в знак согласия, но без всякого чувства. Прежде чем мастерскую заволакивает туманом, я успеваю разглядеть распростертую фигуру на верстаке Гидеона. В голове мелькает страшная мысль, обгоняя здравый смысл. Залитая светом деревянная носовая фигура похожа на покойницу, ожидающую поминок, а Гидеон – на мрачного стража. Я встряхиваю головой. Этот странный вечер сбивает меня с толку.
К счастью, я заканчиваю обход фонарей без происшествий, и к тому времени, как подхожу к фонарю Па, ветер уже заметно утих. Фонарь с виду в полном порядке, как и большинство других. Проверив дверцу, я со вздохом слезаю со стремянки. Па знал бы, почему погас свет и что нужно сделать, чтобы этого больше не повторилось. У меня начинают болеть глаза, и я щиплю себя за переносицу. Во всяком случае никто не должен знать о погасших фонарях. Я сама сделала обход, чтобы позаботиться о них.
Прямо надо мной раздается тихий скрип. Я знаю по опыту, что не надо обращать на него внимания, но, конечно, все равно поднимаю глаза. Прямо под фонарной камерой с железными кронштейнами привязана веревка. Она все так же скрипит, пока на ней покачивается тело Па. Его глаза, налитые кровью, следят за мной. Он что-то хрипит мне, по подбородку стекает слюна, но я его не слышу. Его руки и ноги сводит судорога, ботинки стучат друг о друга.
Я зажмуриваюсь, из меня вырывается стон. По телу пробегает дрожь, и я бормочу:
– Хватит, Темп. Хватит уже.
Эти слова звучат у меня в голове рефреном, а стук ботинок делается все тише и тише, пока снова не воцаряется тишина. Я смотрю, прищурившись, на призрака, но это всего лишь фонарный столб.
Я делаю глубокий, прерывистый вдох и выдыхаю, обводя взглядом мерцающую пустоту. Церковь говорит, что самоубийцы попадают в ад. Я не знаю точно, во что я верю, но здесь мое воображение легко берет верх. Я не рассказывала Пру о кошмарах наяву, которые мучают меня с того дня, как я увидела тело Па.