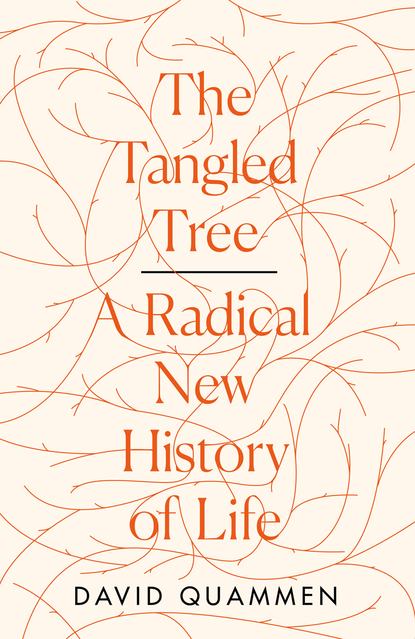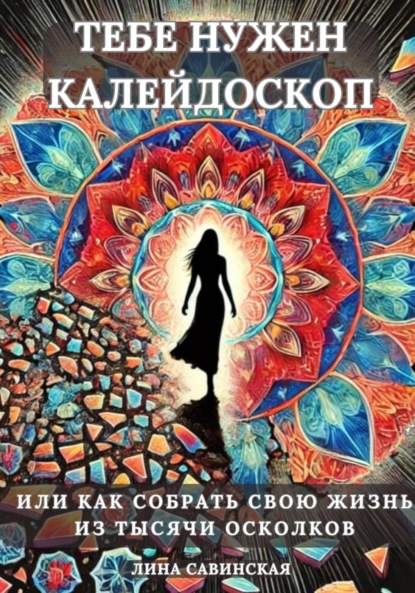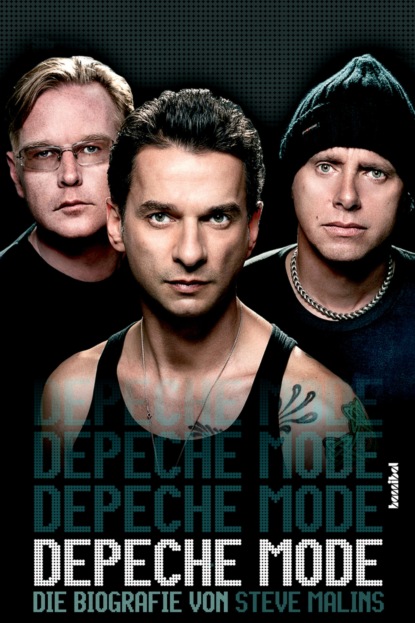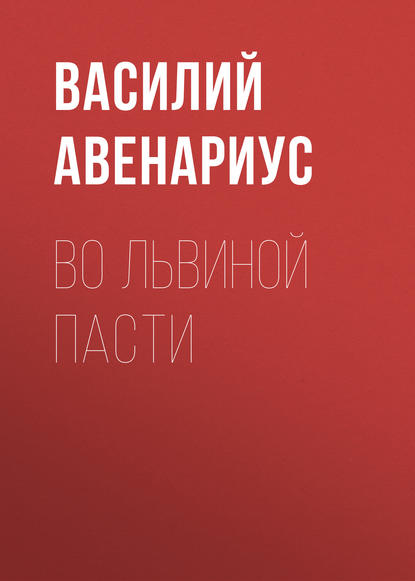Весы и меч

- -
- 100%
- +
– Что нам привёз, Кот? – спрашивает один из ополченцев.
– Трое новичков, добровольцы из России, да вот этот – только что из Франции, – он указывает на меня.
– Из Франции? Ты зачем сюда приперся, француз?
– Я родился в России, в Москве. Давно живу во Франции, но я русский. Увидел, что тут происходит, и решил приехать помочь.
– Ты в армии служил? – интересуется вооружённый ополченец.
– Нет, я учился на врача, я медик. Но я готов научиться воевать, – отвечаю я неуверенно.
– Будешь учиться, как все мы – в бою, – смеётся он.
Я смотрю на него в недоумении. Как это – в бою? Я-то думал, здесь будет хоть какая-то подготовка, а тут, выходит, полная импровизация. Ну чисто по-русски… Кот говорит, что пора двигаться дальше. После часов марафона мы уже вымотаны, но до цели ещё далеко. Нам предстоит пройти ещё с добрых шесть километров до центра Снежного, где наконец можно будет отдохнуть.
Глава 3
Добравшись до центра Снежного, Кот приводит нас к командиру добровольцев и мэру города по прозвищу «Шаман». Мужчина лет пятидесяти, с коротко стриженными черными волосами, тронутыми сединой, обладает внушительным телосложением, но при этом выглядит весьма добродушным. Он объясняет, что у нас не будет времени на полноценную военную подготовку. Мы будем учиться постепенно, в деле, рядом с более опытными бойцами. А пока нам нужно поесть и отдохнуть.
Снежное, как и большинство крупных городов региона, типичен для бывших советских республик: его центр почти полностью состоит из «панелек» – зданий из сборных бетонных плит, смонтированных на месте. Эта технология быстрого строительства позволила СССР быстро и дешево обеспечить жильем население. Однако тепловая и звуковая изоляция в таких домах катастрофическая: сквозь стену можно услышать, как сосед шепчется. А главное, из-за отсутствия должного ухода эти здания с годами становятся ужасающе уродливыми: стыки между этажами и квартирами проступают, как только краска или фасадный декор осыпается.
Вокруг этого центра, застроенного советскими многоэтажками, раскинулся обширный частный сектор, занимающий большую часть территории города. Как и почти все крупные города Донбасса, Снежное вырос вокруг угольных шахт, которые обеспечивают жителей работой, а регион – топливом для отопления домов, электростанций и металлургических заводов.
Терриконы, образованные отходами добычи, возвышаются над зеленой донбасской степью, словно небольшие горы черного, красного и бежевого цветов. Некоторые, самые старые, уже поросли растительностью на вершинах. Это соседство терриконов, естественных холмов и курганов3 придает ландшафту региона особый колорит.
На следующий после прибытия день нас распределяют среди других бойцов, занимающих блокпосты на подступах к городу. В редкие моменты затишья сослуживцы показывают мне, как разбирать и собирать автомат Калашникова, чистить его, заряжать магазин патронами, целиться, где находится предохранитель и как правильно держать оружие. Спустя несколько дней поступает сообщение о колонне украинской бронетехники, движущейся из Амвросиевки в сторону Снежного. Эта новость вызывает панику среди части горожан, опасающихся, что украинские военные прорвутся в город и начнут расправляться с местными. Мы с моим подразделением в это время находимся в центре, получая продовольственную помощь от батюшки Кирилла, когда узнаем об этом.
Пока некоторые из тех, кто помогает священнику содержать церковь и организовывать благотворительность, начинают подумывать о бегстве из города, батюшка Кирилл заявляет, что останется на месте. Он невысокого роста, с темными волосами и бородой, как полагается православному священнику, одет в простую черную рясу без украшений. От него исходит удивительное спокойствие. Несмотря на риски, связанные с его поддержкой Донецкой Народной Республики и народного ополчения, он отказывается покидать свой город и прихожан.
Перед его отказом уехать многие из помогавших ему женщин, охваченные стыдом, в конце концов тоже решают остаться. Бросить его для них немыслимо. Вскоре тревога спадает: приходит известие, что колонна бронетехники попала под наш артиллерийский удар, уничтоживший почти все машины. Но передышка была недолгой.
Через два дня, когда мы находимся на блокпосту, мы видим возвращающуюся машину командира, изрешеченную, словно дуршлаг. Чудо, что она еще на ходу! Командир на заднем сиденье в сознании, но явно дезориентирован и мечется.
– Что случилось? – спрашиваю я у солдата за рулем.
– Попали в засаду, обстреляли нас, рядом с командиром рвануло… Очнулся уже в дороге, но никак не успокоится, – взволнованно отвечает он.
Я тут же распахиваю дверцу, чтобы осмотреть командира. Это не просто контузия, это явная черепно-мозговая травма от ударной волны, плюс несколько осколочных ранений.
– Немедленно вези его в больницу, у него черепно-мозговая травма! Скажи врачам, чтобы сразу вкололи ноотроп вроде Пирацетама и седативное, чтобы успокоить. Может понадобиться диуретик, чтобы снизить внутричерепное давление. Быстрее! – кричу я ему, жестом приказывая остальным пропустить машину.
Командир выжил, но провел в больнице несколько недель, пока не оправился от ран. А через две недели его заместитель передал мне приказ помочь батюшке Кириллу срочно распределить 120 кг сала, купленного им для нас на средства, собранные среди прихожан и русских благотворителей.
Перед храмом, где служит батюшка Кирилл, меня встречает одна из прихожанок, помогающая ему содержать часовню. Хрупкая женщина с черными волосами и такими же темными глазами.
– Здравствуйте, батюшка Кирилл здесь? – спрашиваю я.
– Да, внутри. Вам для исповеди или благословения?
– Нет, говорят, у отца Кирилла есть 120 кг сала для раздачи ополченцам. Меня прислали помочь.
– Пойдем, проведу к нему, – отвечает она, широко улыбаясь.
– Спасибо. А, простите, забыл представиться – Михаил.
– А я Татьяна, очень приятно.
– Взаимно.
Она проводит меня внутрь скромной церквушки, где отец Кирилл готовится к очередной службе.
– Батюшка Кирилл, это Михаил. Командование просило его помочь вам с распределением сала.
– Спасибо, Татьяна. Заходи, сынок, спасибо, что пришел. Без тебя я бы вряд ли справился.
– Нужно признать, сала тут для одного раза немало, – усмехнулся я.
– Я купил все 120 кг позавчера в Торезе. Боялся, что украинская армия перережет дорогу между городами, вот и решил закупить сразу, хранить в холодильниках и выдавать вам понемногу. Но вчерашний обрыв линий из-за обстрела оставил холодильники без электричества. Если сейчас не раздадим – сало пропадет.
– Батюшка, можно задать вам… деликатный вопрос?
– Конечно, сынок.
– Почему вы помогаете ополчению? Разве Церковь не должна оставаться нейтральной, вне политики?
– В обычное время – да. Но понимаешь, в Киеве уже годы переписывают нашу историю, теперь взялись за язык. А после Майдана я понял: следующей будет наша вера, наша Церковь. Так что, помогая вам, я защищаю и ее. Да и сало – это ведь не оружие. Я не даю вам средств убивать, а лишь помогаю выжить и выполнить долг. Так что с точки зрения Бога я не переступаю границ дозволенного.
Я замолкаю. Не ожидал такого ответа.
Мы грузим три четверти сала в выделенную мне «буханку» цвета хаки. Перед отъездом батюшка Кирилл осеняет машину крестом, затем благословляет меня.
– Батюшка, это трогательно, но я… не крещен. Не верю в Бога, – смущенно говорю я.
– Почему?
– Трудно верить, отец, когда видишь, сколько зла творят люди.
– Но в этом не Он виноват. Каждый человек сам выбирает. Он дал нам свободную волю – творить добро или зло. К счастью, не все выбирают последнее.
– Верно. Но до сих пор мне редко доводилось видеть добро. По крайней мере, там, где я жил раньше, – неуверенно отвечаю я.
Признаюсь про себя: здесь, в Донбассе, я ежедневно вижу проявления солидарности. Местные, сами живущие впроголодь, под ежедневными обстрелами, все равно делятся с нами едой, сигаретами, бензином…
Батюшка Кирилл, кажется, чувствует мое смятение. Просит подождать и через пять минут возвращается с медальоном архангела Михаила – моего небесного покровителя – на тонком шнурке. Надевает мне на шею и снова благословляет.
– Архангел Михаил, предводитель Небесного воинства, – лучший защитник для тебя. Если однажды осознаешь, что Бог есть, и захочешь креститься – батюшка Феофан из храма на другом конце города с радостью проведет обряд. У него есть купель для взрослых по полному чину.
– Спасибо. Он тоже поддерживает ополчение?
– Еще как! Не только технику благословляет, но и молится ежедневно о вашей победе, – заключает батюшка Кирилл, и его лицо озаряется теплой улыбкой.
Я снова отправляюсь в путь со своей сотней килограммов сала, которые раздаю разным подразделениям, обороняющим Снежное и участвующим в боях за курган Саур-Могила: «Восток», добровольцы из Снежного, а также батальоны «Семёнович» и «Оплот». Удержать Саур-Могилу для нас критически важно – с этой высоты открывается вид на десятки километров вокруг. Если мы хотим вернуть контроль над границей с Россией и территориями южнее, вплоть до Азовского моря, мы должны удержать эту высоту.
С первых дней июня украинская армия, после интенсивных обстрелов наших позиций на холме, пытается отбить его обратно. Несмотря на тяжелые потери, мы держимся. Каждый день сапёры батальона «Семёнович» проверяют каждую дорогу, прежде чем мы сможем куда-то двинуться, потому что каждую ночь украинская армия заново минирует то, что было разминировано накануне. Те, кто пренебрегает этой мерой безопасности и выдвигается, не дождавшись сапёров, чаще всего гибнут, а их бронетехника уничтожается. А её у нас и так мало, и мы не можем позволить себе терять её так глупо.
Через несколько дней, когда бои разгораются под Степановкой, украинское подразделение заявляет, что хочет сдаться вместе с бронетехникой. Хороший шанс пополнить арсенал. Они поднимают белый флаг. БТР и БМП подъезжают к нашему блокпосту. Но как только оказываются вплотную, украинцы открывают огонь, убивая всех ополченцев на посту. После этой подлости верить в их «готовность сдаться» уже невозможно.
В июле 2014-го я ночую в штабе, когда около шести утра меня будят чудовищные взрывы. Земля дрожит.
Я слышу рёв истребителя – он только что сбросил бомбы на центр Снежного! Я в панике выбегаю из здания, полуодетый, и бегу к дыму, чтобы понять, куда попали. Командир Шаман, только что выписавшийся из госпиталя, у меня за спиной.
Мы останавливаемся перед тем, что раньше было типичной советской пятиэтажкой-панелькой. Один подъезд полностью превратился в руины – настолько мощным был взрыв. Посреди обломков стоит ошеломлённый мужчина в шортах, покрытый цементной пылью, с сигаретой в пальцах. Он вышел покурить сразу после того, как его жена ушла на работу. Это спасло ему жизнь.
Командир разворачивается и идёт в штаб, чтобы поднять людей на помощь, а я присоединяюсь к жителям, которые уже собрались и пытаются разгребать завалы. Мы быстро находим пожилую женщину с тяжёлыми ранениями, вытаскиваем её, но она умирает. Потом слышим стон мальчика. После долгих минут поисков наконец видим его – он зажат под бетонными плитами. Частично его прикрывает тело взрослой женщины. Наверное, его мать, которая пыталась его защитить.
Она не двигалась и не подавала признаков жизни. Нога мальчика и таз были зажаты под обломками. Я понял: вручную нам его не вытащить. Бетонные плиты слишком тяжелы, чтобы поднять их голыми руками.
– Найдите кран! Там мальчик и женщина под плитами! – кричу я местным.
Один мужчина бросается искать подъемную технику, а я наклоняюсь к отверстию, через которое вижу ребенка.
– Не бойся, малыш, мы тебя вытащим. Как тебя зовут?
– Вова… – стонет он в ответ.
– Сколько тебе лет, солнышко?
– Пять…
– Держись, Вова! Мы уже ищем кран, чтобы поднять плиты. Ты должен продержаться.
– Маму тоже спасите… Я её не могу разбудить… – всхлипывает он.
Значит, это действительно его мать лежит над ним. Как объяснить этому малышу, зажатому под тоннами бетона, что его мама, скорее всего, уже не проснётся?
– Мы вас обоих вытащим, – говорю я как можно бодрее.
Кран прибывает после долгих минут ожидания, которые кажутся вечностью. Мы поднимаем плиты одну за другой, освобождая мальчика и тело его матери. С каждым движением техники сердце сжимается от страха – вдруг она рухнет на них? Но всё проходит благополучно. Через несколько часов нам наконец удаётся их извлечь.
Владимира, покрытого цементной пылью и кровью, грузят в ожидающую скорую. Но для его матери уже ничего нельзя сделать. Как я и думал, она отдала жизнь за сына – её тело приняло на себя основной удар обрушившихся плит.
Когда мальчик зовёт маму, пока его увозят, я не нахожу слов, чтобы успокоить его без лжи. Чувствую себя беспомощным.
Молча смотрю, как скорая мчится в больницу. Если малыш выжил, то девятерым другим жильцам дома, включая его мать, повезло меньше. Ещё трое мирных, пострадавших от ударов украинской авиации по другим зданиям, пополняют список погибших. Раненых – не меньше пятидесяти.
Я стою перед рядами тел, которые мы постепенно выносим из-под завалов и раскладываем на асфальте. Потом не выдерживаю, сползаю под дерево, рыдаю. Сквозь слёзы смотрю на тела, накрытые тем, что нашлось под рукой: цветными простынями с цветочками, детскими одеялами с плюшевыми мишками. Эти яркие ткани делают строй погибших ещё более нереальным.
По прошествии чуть более месяца боёв меня всё сильнее ужасает то, что украинская армия творит с мирными. Какой военный смысл был в том, чтобы бомбить этот дом? Здесь не было ни одной военной цели!
Всего два дня спустя, в разгар дня, украинский истребитель Сухого пролетел над Снежным в направлении Саур-Могилы.
«Опять будут бомбить курган, как обычно», – мелькнуло у меня в голове, пока я с тремя товарищами стоял на блокпосту на северо-западе города. Я даже неожиданно для себя начал мысленно молиться, чтобы наши ребята на высоте отделались малыми потерями. В тот день Саур-Могилу удерживали бойцы батальона «Восток».
Но мне не пришлось долго размышлять об их судьбе. Вскоре после первого пролёта я увидел, как самолёт возвращается, и под крыльями у него всё ещё висят ракеты. Странно… Обычно они делают два захода и уходят «на сухую».
В этот момент мой маленький кнопочный телефон завибрировал.
– Алло, Миша, это Альба. Мы в Рассыпном. Украинский истребитель кружит над нами возле Шахтёрска, но не стреляет. Ты его у себя видишь?
– Нет, но другой только что вернулся от Саур-Могилы и не израсходовал весь боезапас. Будьте осторожны…
Не успел я договорить, как в небе раздался взрыв.
– Слышал взрыв? – спрашиваю я.
– Да, совсем рядом. Это ракета. Похоже, самолёт сбили. Отключаюсь, посмотрю, куда он падает.
Едва я сунул телефон в карман, как он снова завибрировал.
– Миша, это Кобра! Большой самолёт только что снизился под облака.
– Военный?
– Не знаю… Стой, украинский истребитель заходит на него… Чёрт, он атакует!..
– Что?!
В этот момент вдали прогремели один, а затем второй взрыв.
– Это что было?!
– Истребитель рванул на сверхзвуке в сторону Амвросиевки. Миша, большой самолёт разваливается на части, он падает…
Кобра отключился в панике. Я даже не успел предупредить остальных, как увидел, как огромные обломки самолёта один за другим врезаются в землю, поджигая степь на километры вокруг.
Последние фрагменты рухнули в нескольких километрах севернее. Я тут же набрал Шамана.
– Командир, крупный самолёт сбит возле Рассыпного. Он взорвался в воздухе, обломки разбросаны к северу от Шахтёрска.
– Гражданский или военный?
– Не знаю, командир. Кобра сказал, что видел, как украинский истребитель атаковал его. Неужели они могли ударить по своему же транспортному самолету?..
Я в полной растерянности, в панике, не понимаю, что произошло. Ребята из ПВО как-то рассказывали, что украинские истребители иногда прячутся под гражданскими лайнерами, чтобы мы не сбивали их. Несмотря на идущие бои и потери украинской авиации, небо над Донбассом остаётся открытым для гражданских самолётов.
Вчера я как раз спрашивал у наших зенитчиков: «Почему вы не сбиваете эти чёртовы истребители, которые бомбят мирных?» Они объяснили: украинцы знают, что мы не станем стрелять, если есть даже малейший риск задеть гражданский борт. Но зачем им самим сбивать такой самолёт?
– Езжай туда и перезвони, как доберёшься. Я отправлю подкрепление, – говорит командир.
Я хватаю одного из бойцов с блокпоста, и мы на стареньких «жигулях» мчимся к самому мощному очагу пожара. Огромные языки пламени пожирают степь у села Грабово, над полем клубится густой чёрный дым.
Из деревни выбегает женщина с криками: «Труп пробил крышу и упал прямо в дом!»
Мы бросаемся туда – и видим жуткую картину: среди развороченного жилья лежит тело. Одежда почти сгорела. Не понять, был ли это военный или гражданский. Возвращаемся в поле – пожар бушует, но сквозь дым виднеются тела, пристёгнутые к креслам. К пассажирским креслам!
Я тут же звоню командиру:
– Командир, это гражданский самолёт! В Грабово повсюду тела, нужны пожарные, поля горят!
– Гражданский?! Ты уверен?!
– Да! Тут кресла, как в авиалайнере! Это не военный борт! – почти кричу я в трубку.
– Чёрт… – срывается у командира перед тем, как связь обрывается.
Пока ждём пожарных, осматриваем поле в поисках выживших. Но тщетно. Только трупы, обугленные останки, едкий дым и пламя, пожирающее обломки.
Через несколько часов приезжают журналисты, и мы узнаём: это рейс MH-17 Malaysia Airlines. На борту было 298 человек, среди них – дети.
По дороге в Шахтёрск в голове пульсирует один вопрос: зачем?
Зачем сбили этот самолёт? Зачем убивать столько невинных? Меня тошнит от этого.
Благодаря медицинскому образованию я, конечно, привык к виду трупов, но это уже слишком. За месяц боев на Донбассе я уже видел, как украинские вооруженные силы без стеснения бомбят жилые кварталы, убивая и калеча множество мирных жителей. Но это – за гранью. Цинизм киевских властей и их военных, кажется, не знает предела.
Я провожу рукой по лицу, будто пытаясь проснуться от кошмара, и тут же чувствую, как жёлчь подкатывает к горлу.
Едва успеваю резко затормозить «жигули», распахнуть дверь, и содержимое моей последней трапезы с силой выплескивается на асфальт. Напарник выскакивает из машины, опускается рядом:
– Миша, ты как? Что случилось?
– Мне плохо… – хриплю я. – Давай ты сядешь за руль?
– Конечно. Садись на пассажирское. Должна быть вода сзади, прополощи рот.
Он копается в бардаке на заднем сиденье, достаёт полупустую бутылку. Я делаю глоток, плещу воду в рот и выплёвываю. Второй глоток проглатываю с трудом.
Остаток пути молчу. Напарник нервно поглядывает на меня, пробиваясь по разбитой дороге.
Мне не спалось. Как только я проваливался в сон, перед глазами представали изуродованные тела, разбросанные среди пламени, и я вскрикивал от ужаса, просыпаясь в холодном поту.
Назавтра стало ясно, зачем они сбили этот самолёт. Ещё до начала расследования Украина и весь Запад обвинили Россию и "сепаратистов" в крушением MH-17. Вот она, причина. Нас выставляют террористами, хладнокровно убившими 300 невинных людей.
Во мне поднялась такая ненависть, какой я никогда прежде не знал. Я злился и раньше, но это было нечто иное. Яростное, слепое, убийственное. Чистое желание разорвать тех, кто придумал и осуществил этот подлый план.
Командир встретил меня в коридоре, испугавшись выражения моего лица.
– Миша, что с тобой? – притянул меня в кабинет. – Ты выглядишь так, будто готов пристрелить первого встречного. Говори!
– Вы видели, что они говорят про вчерашний самолёт?! – закричал я. – Это они его сбили, а вину на нас вешают! Они – чудовища, убившие сотни людей просто чтобы очернить нас! Я ненавижу их!
Командир молча кивнул, его лицо стало строгим.
– Понимаю твои чувства. Но эта ненависть – яд. Она превратит тебя в них. Заставит совершать такие же зверства, а я не хочу этого в своём подразделении. Проведи несколько дней с Татьяной, помощницей батюшки Кирилла. Поговори с ними. И возвращайся, когда будешь в более стабильном эмоциональном состоянии.
Я киваю и выхожу из его кабинета. Я отправляюсь в церковь, где служит батюшка Кирилл, надеясь застать там Татьяну. К счастью, они оба там, и я объясняю, зачем пришел. Татьяна смотрит на меня с шокированным, но нежным выражением лица, качая головой направо-налево, потом налево-направо.
Батюшка Кирилл немного печально улыбается мне, когда он ведет меня к одной из скамеек вдоль стены церкви. Его лицо сохраняет ту смирение, которое я видел в нем в предыдущие визиты, несмотря на то, что я только что ему рассказал. Как будто зло не могло коснуться его души.
– Миша, ненависть ведёт только во тьму, – сказал он, усаживая меня на скамью. – Зло нельзя победить злом.
– Как вы можете не ненавидеть их?! – вырвалось у меня. – Вы же видите, что они творят, какие преступления совершают!
– Я молю Бога открыть им глаза, чтобы они поняли, что ошибаются. И я точно знаю, что им придется ответить перед Ним за совершенные ими преступления. Не мне их судить, это дело Бога. Если ты хочешь бороться с тьмой и злом, то должен вооружиться светом. Архангел Михаил, когда противостоял Сатане, был вооружен огненным мечом. Он не случайно пылает, он символизирует то, что он был вооружен светом для борьбы с тьмой, для борьбы со злом.
Он говорит все это очень мягким тоном, и мне вдруг становится легче, спокойнее, как будто с моих плеч только что сняли огромный груз. Я вновь обрел спокойствие.
– Значит… моя злость делает меня плохим? – спросил я неуверенно.
Батюшка Кирилл улыбнулся:
– Нет. Сам Бог не всегда проявляет любовь, терпение и доброту. У него бывает и ужасный гнев. Просто некоторые предпочитают об этом забывать.
Он кладёт свою правую руку на мою и, глядя мне прямо в глаза, продолжает:
– Ты можешь ненавидеть зло, которое они творят, но не должен ненавидеть людей. Иначе станешь таким же, как они. Все мы можем ошибаться, но каждый способен искупить свою вину, если осознает ошибки и искренне раскается. Подумай над моими словами. У Татьяны тебе будет всего достаточно.
Он встаёт с тёплой улыбкой и уходит: нужно готовиться к службе. Татьяна провожает меня к себе.
Её квартирка невелика, и там я узнаю, что у неё есть приёмная дочь. Несмотря на скромный быт и трудности (бои рядом, продукты дорогие), Татьяна часами готовит, ставя передо мной такие порции, что мне не осилить. Будто боится, что я умру с голоду.
Её забота, тишина и безграничная доброта постепенно вытягивают меня из воронки ярости, в которой я варился полтора месяца.
Мы подолгу говорим с ней и батюшкой Кириллом: о Добре и Зле, Боге и Сатане. Глядя на них – таких мягких, любящих, без тени злобы, – я начинаю верить, что Бог, возможно, есть.
И, может, именно сюда, в Донбасс, мне и нужно было попасть. Пройти через тьму, чтобы в конце концов увидеть свет.
Через несколько дней «отпуска» я возвращаюсь в часть. Командир внимательно меня осматривает:
– Ну как, оклемался?
– Готов воевать, командир! – отвечаю твёрдо, но без злости.
– Вот и славно. – Он хлопает меня по плечу, широко улыбаясь. – За работу.
И работы у нас – хоть отбавляй. Бои за курган Саур-Могила не прекращаются, в то время как наши силы начинают окружение украинских войск на юге республики. Эта высота стала жизненно важной для тысяч украинских солдат, попавших в ловушку между нами и российской границей. Без её захвата им не вырваться из окружения. Украинская армия безостановочно бомбит курган, снова и снова пытаясь штурмовать его.
Тактика, которая в конце концов даёт результат из-за нашей малочисленности. В начале августа последние шесть ополченцев, ещё удерживавших Саур-Могилу, отступают под шквальным огнём.
Тем временем несколько украинских националистических батальонов – «Донбасс», «Днепр-1» и «Шахтёрск» – атакуют город Иловайск, пытаясь взять его под контроль. Чтобы предотвратить это, туда направляются добровольческие подразделения – батальоны «Сомали», «Оплот» и «Восток». Командир Сомали Михаил Толстых (прозвище Гиви) – сам уроженец Иловайска, что даёт нашим войскам преимущество в знании местности.
– Почему его батальон называется «Сомали»? – спрашиваю я у Шамана.
– Если бы ты видел, в каком состоянии были его ребята под Славянском… Ободранные, голодные… Прямо банда сомалийских пиратов. Кто-то подметил сходство, так и пристало.
– А ему зачем прозвище Гиви?
– Хоть он и местный, некоторые считают, что похож на грузина – вот и позывной. У каждого тут прозвище по какой-то заметной черте. И тебе дадут, когда придёт время, – отвечает командир, хлопая меня по плечу со смехом.