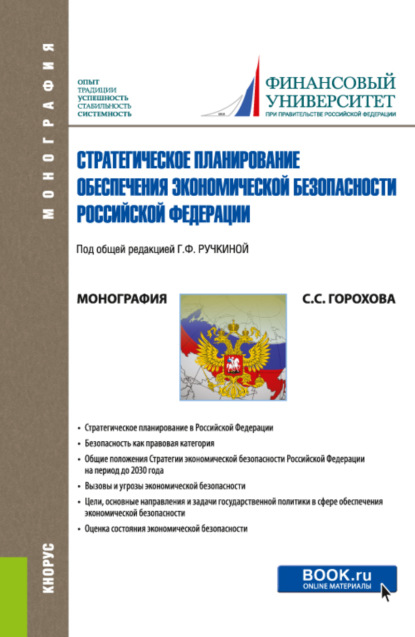Чужая

- -
- 100%
- +
– Я буду заниматься творчеством! У него большой дом, он обещал выделить мне под студию целую комнату! – горячо защищалась Кристина, но в её голосе уже звучали нотки неуверенности. Слова подруги задели её за живое.
– Послушай, я не хочу тебя обидеть, – мягче сказала Катя, кладя свою руку на её. – Мы просто очень тебя любим и боимся, что ты можешь совершить ошибку и будет тебе больно. Ты всегда была такой мечтательной, такой… хрупкой. А мир там, на Западе, он другой. Жёсткий. Ты уверена, что готова?
– Я готова, – твёрдо сказала Кристина, хотя внутри всё сжалось в комок. – Я не маленькая девочка. И я не хрупкая. Я сильная. И он меня поддерживает.
Вечер закончился натянуто. Объятия на прощание были крепкими, но в глазах подруг читалась непроходящая тревога. И эта тревога, как тень, последовала за Кристиной домой.
Самым мучительным стал день, когда пришлось разбирать свою квартиру. Она не продавала её – сдавала знакомой семье, оставив себе лишь несколько коробок с самыми дорогими сердцу вещами: альбомами с фотографиями, книгами, кистями, папками с эскизами. Каждый предмет, который она упаковывала, был наполнен воспоминаниями. Вот открытка, которую она купила на своей первой выставке. Вот засохший букет полевых цветов, собранный во время пленэра под Звенигородом. Вот потрёпанный томик Цветаевой, подаренный первой любовью.
Она сидела на полу среди этого хаоса, сжимая в руках старую плюшевую собаку, с которой спала в детстве, и слёзы текли по её лицу ручьями, не переставая. Это был не просто переезд. Это было прощание. Прощание с прежней жизнью, с прежней собой – той Кристиной, которая могла целый день бродить с фотоаппаратом по городу, которая могла до ночи спорить с подругами об искусстве, которая могла позволить себе грустить и мечтать, никуда не торопясь.
Теперь она должна была стать другой. Женой Эдварда Кавендиша. Хозяйкой в большом доме в чужой стране. Она должна была соответствовать.
Эдвард звонил каждый вечер, и его спокойный, уверенный голос был её якорем в этом море сомнений и страхов.
– Всё хорошо, моя любовь? – спрашивал он, и она, сглотнув слёзы, отвечала:
– Всё прекрасно. Соскучилась по тебе.
Она не рассказывала ему о своих переживаниях, о страхах матери, о скепсисе подруг. Она боялась, что он не поймёт, что посчитает её слабой, не готовой к такой радикальной перемене. А она должна была быть готовой. Должна была быть сильной.
За день до отъезда родители приехали помочь с последними сборами. Вид родного дома, припаркованного под окнами, старенькой «Лады» отца, заставил её сердце сжаться от боли. Отец, молчаливый и крепкий, как дуб, таскал коробки вниз, стараясь не смотреть ей в глаза. Мама хлопотала по квартире, вытирая пыль там, где её уже не было, поправляя занавески, и её глаза были красными от слёз.
Когда последняя коробка была погружена в машину, чтобы отец отвёз её на хранение в их гараж, наступила тишина. Они стояли в пустой, гулкой квартире, где на стенах остались лишь бледные следы от картин и полок.
Мать подошла к Кристине и взяла её лицо в свои шершавые, трудовые руки.
– Ну вот и всё, доченька, – прошептала она, и голос её дрогнул. – Смотри на нас хорошенько. Запомни нас такими.
– Мама, перестань, – заплакала Кристина. – Мы скоро увидимся. Обещаю.
– Обещай, что будешь звонить. Каждый день. Хотя бы сообщение. И… если что-то пойдёт не так… помни, что двери нашего дома всегда для тебя открыты. Всегда. Ты ничего никому не должна.
Отец обнял её молча, так крепко, что у неё хрустнули рёбра. В его объятиях была вся его немая, глубокая любовь и такое же глухое беспокойство.
Они уехали, и Кристина осталась одна в абсолютно пустой квартире. Она обошла все комнаты, прикасаясь к стенам, вспоминая. Вот здесь стояла её кровать, на которой она читала при свете ночника. Вот здесь – стол, за которым она рисовала свои первые картины. Вот этот порог она переступала тысячи раз, возвращаясь домой.
Она вышла на балкон. Была холодная, ясная ночь. Воздух звенел от мороза. Где-то вдали гудели машины, а под балконом стояли берёзы, голые и хрупкие на вид, их ветви рисовали чёрный узор на фоне тёмно-синего неба. Она смотрела на них и думала, что в Англии, наверное, нет таких берёз. Там будут другие деревья. Другие небеса.
Щемящее чувство тоски, острого и пронзительного, как ледяная игла, пронзило её насквозь. Что она делает? Куда едет? Правильный ли это выбор? Но тут же она посмотрела на кольцо на своём пальце. Оно холодно блестело в свете уличного фонаря. Оно было её талисманом, её пропуском в новую жизнь. В жизнь с Эдвардом.
Она зашла внутрь, закрыла за собой дверь балкона и в последний раз обвела взглядом пустое пространство, которое когда-то было её домом. Больно сжималось сердце, на глаза снова наворачивались слёзы, но она их смахнула.
«Нет, – сказала она себе твёрдо. – Я не должна бояться. Это моя судьба. Моя сказка. И она будет счастливой».
Завтра её ждал самолёт. Завтра её ждал Эдвард. Завтра начиналась её новая жизнь. Остальное надо было оставить здесь, в этих стенах, вместе с призраками прошлого.
Она глубоко вздохнула, плечи её распрямились. Она была готова. По крайней мере, она очень хотела в это верить.
Глава 4
Самолёт, оторвавшись от взлётной полосы «Шереметьево», унёс с собой не только Кристину, но и последние остатки её уверенности. Они остались там, внизу, распластанные на сером, унылом асфальте среди тысяч других следов. То, что началось как головокружительное приключение, в салоне бизнес-класса, среди приглушённого гула двигателей и бесшумной суеты стюардесс, стало стремительно обретать черты пугающей, необратимой реальности.
Она сидела у иллюминатора, сжимая в своей руке руку Эдварда. Его пальцы были тёплыми и твёрдыми, якорем во внезапно ставшем зыбким мире. Он периодически подносил её руку к губам, касался её кожи лёгким, обнадёживающим поцелуем, улыбался ей своей новой, счастливой улыбкой, которая, казалось, была предназначена только для неё. Но Кристина не могла оторвать взгляд от уплывающей вниз земли. Родной земли. С каждым метром высоты сердце сжималось всё больнее, словно невидимая нить, связывающая её с прошлым, натягивалась до предела и вот-вот должна была лопнуть.
Она пыталась утешить себя мыслями о будущем, о их счастливой жизни, о любви, которая сильнее любых страхов. Но под крылом самолёта уже раскинулось бескрайнее море свинцовых облаков, скрывающее от неё всё, что она знала и любила. Остался только Эдвард. Он стал всей её вселенной, её проводником, её единственной опорой в этом полёте в неизвестность.
Перелёт был долгим и странным. Внешне – полный комфорт. Изысканная еда, дорогое вино, мягкое кресло. Но внутри Кристины бушевала буря. Волнение, переходящее в панику, сменялось периодами странного оцепенения, когда она просто смотрела в иллюминатор на однообразную белую пелену и не могла думать ни о чём. Эдвард, уставший от предотъездной суеты, большую часть пути проспал, и она могла вдоволь насмотреться на его спокойное, безмятежное лицо. В нём не было и тени её смятения. Он летел домой.
И вот – посадка. «Хитроу» встретил их серым, моросящим дождём и удушающей суетой. Воздух пах по-другому. Не так, как в России. Здесь запах был влажным, насыщенным чужими ароматами – кофе, автомобильных выхлопов, парфюма тысяч людей и ещё чего-то незнакомого, что она позже определила для себя как «запах чужой страны».
Прохождение паспортного контроля стало для Кристины первым настоящим испытанием. Она с своей российской визой невесты стояла в отдельной очереди, в то время как Эдвард прошёл через гейт для граждан ЕС. Он обернулся, помахал ей, крикнул: «Я жду тебя там, за стеклом!» – и исчез. И она осталась одна среди людей, говорящих на непонятном языке, с чужими лицами, под пристальным, подозрительным взглядом офицера пограничной службы. Её допрашивали дольше, чем других, задавая одно и то же разными словами, сверяя её ответы с данными в компьютере. Она чувствовала себя преступницей, нелегалкой, которая пытается проникнуть в закрытую крепость. И всё это время она видела сквозь стеклянную стену силуэт Эдварда, который нервно прохаживался, поглядывая на часы. Он казался таким далёким и недоступным, хотя их разделяло всего несколько метров.
Когда на её паспорте наконец поставили долгожданный штамп и она вышла к нему, ей хотелось броситься ему на шею и заплакать от облегчения. Но он лишь коротко обнял её, потрепал по плечу и сказал: «Всё в порядке, я же говорил. Пошли, машина ждёт». И потащил её за собой к ленте багажного конвейера.
Дорога из аэропорта была сплошным разочарованием. Кристина, наслушавшись о знаменитых английских пейзажах, ожидала увидеть ухоженные зелёные поля, старинные поместья, живописные деревушки. Вместо этого её взору предстали бесконечные промзоны, унылые серые склады, развязки, заставленные рекламными щитами, и потоки машин, несущихся по мокрому асфальту с невероятной скоростью. Дождь не переставал ни на минуту, превращая мир за стеклом в размытое, серо-зелёное пятно.
Эдвард был оживлён и разговорчив. Он показывал ей какие-то достопримечательности, что-то объяснял, но она почти не слушала, подавленная накатившей тоской и усталостью. Её тело всё ещё жило в московском времени, а за окном был лишь хмурый, неприветливый вечер.
Через час с лишним машина свернула с скоростной трассы на узкие, извилистые дороги, и пейзаж наконец начал меняться. Появились те самые зелёные поля, огороженные аккуратными изгородями, крошечные деревушки с домиками из тёмного кирпича и неизменными пабами на главной улице. Сердце Кристины на мгновение воспряло. Вот он, настоящая Англия.
Вскоре они въехали в посёлок, который показался ей игрушечным. Идеально подстриженные газоны, вымощенные брусчаткой улицы, никаких признаков жизни – ни людей, ни машин. Было ощущение, что они попали на закрытую территорию, в музей под открытым небом.
Машина замедлила ход и свернула за высокий кирпичный забор. И вот он – дом. Тот самый, о котором он ей рассказывал. Не коттедж, а настоящий особняк в георгианском стиле. Симметричный, строгий, выложенный из бледно-жёлтого кирпича, с белоснежными наличниками и идеально чёрной входной дверью. Он выглядел как картинка из архитектурного журнала – безупречный, элегантный и абсолютно безжизненный.
– Ну, вот мы и дома, – объявил Эдвард, выключая двигатель. В его голосе прозвучала гордость, и Кристина изо всех сил постаралась улыбнуться в ответ.
– Он прекрасен, – прошептала она, и в её голосе прозвучала искренность. Дом и правда был прекрасен. Но он не был тёплым. Он не был уютным. Он был образцом вкуса и статуса, но в нём не чувствовалось души.
Он выгрузил чемоданы, открыл тяжёлую дубовую дверь и впустил её внутрь.
Первое, что поразило Кристину, – тишина. Гробовая, абсолютная тишина, нарушаемая лишь тихим гулом холодильника откуда-то из глубины дома. И запах. Запах старого дерева, воска для полировки и лёгкой примеси сырости. Ничего общего с ароматом её московской квартиры, где всегда пахло красками, кофе и живущими там людьми.
Она осторожно ступила на паркетный пол, отполированный до зеркального блеска. Холл был огромным и пустым. Высокие потолки, лепнина, на стене – огромное зеркало в позолоченной раме. Ни одной лишней вещи, ни намёка на беспорядок. Всё было идеально, стерильно и пугающе безлико.
Эдвард повёл её по дому, и с каждой новой комнатой чувство потерянности в её душе росло. Гигантская гостиная с камином и дорогой, но холодной мебелью из светлой кожи. Строгая столовая с огромным столом, за которым могли разместиться двадцать человек. Кабинет, заставленный книгами в одинаковых кожаных переплётах. Вторая гостиная поменьше, «для уютных вечеров», как сказал Эдвард, но и в ней не было ни капли уюта – лишь дизайнерские диваны и безликие абстрактные картины на стенах.
– А это наша спальня, – он распахнул дверь.
Комната была огромной, с огромной кроватью под балдахином и панорамным окном, выходящим в сад. Всё было выдержано в бежево-серых тонах. Ни одной личной вещи. Ни одной фотографии. Казалось, здесь никто никогда не жил.
– Ну как? – Эдвард обнял её сзади, прижав подбородок к её макушке. – Нравится?
– Очень, – соврала она, чувствуя, как комок подкатывает к горлу. – Очень… просторно.
– Я знал, что тебе понравится. Пойдём, я покажу тебе самое главное.
Он взял её за руку и повёл по длинному коридору. Кристина, уже почти смирившаяся с мыслью, что её новой жизнью будет существование в идеальном, но бездушном музее, машинально шла за ним.
Эдвард остановился у одной из дверей и с торжествующим видом распахнул её.
– Для тебя.
Кристина замерла на пороге. Это была большая комната с огромным северным окном, которое давало ровный, идеальный для художника свет. Вдоль одной стены стояли пустые мольберты, вдоль другой – полки для материалов. Посередине – большой рабочий стол. Всё было новым, чистым и… пустым.
– Твоя студия, – сказал Эдвард, и в его голосе звучало неподдельное волнение. – Я всё подготовил. Можешь начинать творить хоть завтра.
И в этот момент Кристина поняла. Он действительно старался. Он действительно хотел сделать ей приятное, подарив ей пространство, о котором мечтает любой художник. Он видел её не просто украшением своего дома, а творческой личностью. Это был жест любви, самый искренний из всех, что он мог сделать.
Слёзы, которые она сдерживала всё это время, наконец хлынули. Она обернулась к нему и прижалась к его груди, плача от усталости, от переизбытка чувств, от страха и от благодарности.
– Спасибо, – всхлипывала она. – Спасибо, Эдвард. Это самое прекрасное, что кто-либо когда-либо для меня делал.
Он держал её, гладил по волосам, целовал макушку.
– Всё будет хорошо, моя любовь. Я обещаю. Ты скоро привыкнешь. Это теперь твой дом.
Он повёл её на кухню – огромное, сверкающее хромом и сталью пространство, больше похожее на лабораторию, чем на место, где готовят еду. Он открыл холодильник – он был полон еды.
– Я нанял для тебя домработницу, миссис Хиггинс. Она будет приходить три раза в неделю, убирать и готовить. Она оставила нам ужин. Разогреем?
Кристина кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Домработница. Конечно. Он же не мог ожидать, что она будет вести это огромное хозяйство одна. Но мысль о том, что в их доме будет постоянно появляться чужой человек, заставила её сжаться внутри.
Они поели молча. Еда была идеально приготовленной, но безвкусной и бездушной, как и всё в этом доме. Эдвард устало потянулся.
– Я страшно измотан. Пойдём спать? Завтра я покажу тебе город.
Она кивнула. Они поднялись в спальню. Пока она распаковывала свои вещи, пытаясь хоть как-то оживить безликую гардеробную, он принял душ и лёг в кровать. Когда она вышла из ванной, он уже спал, его дыхание было ровным и спокойным.
Кристина подошла к окну и раздвинула тяжёлую портьеру. Ночь была тёмной, безлунной. Дождь уже прекратился. В свете уличного фонаря она видела часть сада – идеально подстриженный газон, аккуратные кусты, выстроенные в безупречные ряды. Ни одного сорняка, ни одного случайного цветка. Всё было подчинено строгому, раз и навсегда установленному порядку.
Где-то вдали, за полями, пролаяла собака. Звук был таким одиноким и тоскливым, что у неё снова сжалось сердце.
Она посмотрела на спящего Эдварда. При свете, падающем из окна, его лицо казалось усталым и немного печальным. Таким она его ещё не видела. Таким… обычным. Таким же потерянным, как и она сама.
Она тихо подошла к кровати, присела на край и долго смотрела на него. Этот человек, этот почти незнакомец, был теперь её мужем, её семьёй, её единственным ориентиром в этом новом, чужом мире. Она любила его. Она была в этом уверена. Но любовь эта сейчас была похожа на маленький, дрожащий огонёк в огромной, тёмной и холодной пещере.
Она легла рядом с ним, стараясь не шевелиться, боясь его разбудить. Она лежала и слушала тишину. Она была оглушительной. В Москве за окном всегда что-то происходило – гудели машины, кричали коты, смеялись люди, возвращающиеся домой. Здесь же была лишь мёртвая, давящая тишина, изредка нарушаемая скрипом половиц или гулом пролетающего вдали самолёта.
Она закрыла глаза и попыталась представить себе шум московского двора, запах жареного лука из соседней квартиры, голос матери. Но образы были размытыми и неуловимыми, как дым.
Она повернулась на бок и уткнулась лицом в подушку. Она была накрахмаленной и пахла чужим стиральным порошком.
И тогда её накрыло. Волной такой тоски, такого всепоглощающего, животного ужаса перед этим новым, идеальным, бездушным миром, что она закусила губу, чтобы не застонать. Она сделала это. Она сама приняла это решение. Она променяла свою тесную, но полную жизни квартиру на этот холодный, идеальный музей. Своих любящих, но бедных родителей – на успешного, но чужого мужчину. Своих подруг – на гробовую тишину.
Слёзы текли по её вискам и впитывались в чужие, накрахмаленные простыни. Она боялась пошевелиться, боялась издать звук. Она была одна. Совершенно одна в самом сердце своей сказки. И сказка эта оказалась холодной, безмолвной и бесконечно одинокой.
Она лежала так всю ночь, не смыкая глаз, глядя в потолок, слушая, как тикают старинные часы в коридоре, отмеряя секунды её новой, такой незнакомой жизни. За окном медленно светало. Серый, бесцветный свет заливал комнату, делая её ещё более безликой и печальной.
Приходил новый день. Её первый день на чужой земле.
Глава 5
Первая неделя в Англии пролетела как одно долгое, размытое мгновение, состоящее из серых дней и беззвёздных ночей. Кристина существовала в подвешенном состоянии, словно во сне, где всё вокруг было знакомым и чужим одновременно. Она привыкала к ритму жизни в большом, пустом доме, к тишине, которая давила на уши, к идеальному порядку, который не нарушался ни единой соринкой.
Эдвард, как и обещал, первые дни посвятил ей. Он возил её по окрестностям, показывал живописные деревушки, водил в пабы, где под акцентный английский говор и гул голосов они ели рыбу с жареной картошкой, завёрнутую в газету. Он пытался, она видела это, сделать её погружение в новую жизнь максимально мягким. Но между ними уже возникла невидимая стена. Он был у себя дома, он дышал этим воздухом полной грудью, в то время как она задыхалась, пытаясь уловить знакомые запахи в чужой атмосфере.
Он рассказывал ей об истории каждого камня, об архитектурных стилях, о традициях, и хотя Кристину это искренне интересовало, её сознание постоянно ускользало, цепляясь за мелочи: вот на этом поле пасётся одинокая овца, а вот из этого камина в пабе пахнет точно так же, как в дачном доме её детства. Ностальгия становилась её постоянной спутницей, тихой и назойливой, как зубная боль.
Через неделю Эдвард вернулся к работе. Его компания, как он объяснил, заканчивала важный проект, и его присутствие в лондонском офисе было необходимо. Теперь он уезжал рано утром, до того как она просыпалась, и возвращался затемно, усталый и замкнутый. Его внимание, прежде такое пристальное и нежное, теперь было обращено на чертежи и бизнес-планы. Кристина оставалась одна в огромном доме, и её единственным спасением была та самая студия, подаренная Эдвардом.
Она пыталась работать. Распаковала свои краски, расставила кисти, установила мольберт. Но вдохновение не шло. Чистый холст пугал своей белизной, а привычные сюжеты – московские дворики, знакомые лица – казались неуместными в этих стерильных стенах. Она могла часами сидеть у огромного окна, глядя на идеальный сад, и чувствовать себя абсолютно опустошённой. Её пальцы, обычно такие послушные и ловкие, отказывались слушаться, оставляя на бумаге лишь робкие, неуверенные штрихи.
Её единственным живым контактом в те дни стала миссис Хиггинс, домработница. Женщина лет шестидесяти, сухопарая, подтянутая, с лицом, которое, казалось, было вырезано из старого пергамента. Она появлялась трижды в неделю ровно в девять утра, стучала в дверь ровно два раза – не громко и не тихо – и приступала к своим обязанностям с молчаливой, почти механической эффективностью.
Она почти не разговаривала с Кристиной, ограничиваясь кивком и стандартным: «Доброе утро, мадам». Если Кристина пыталась завести беседу, спросить о чём-то, миссис Хиггинс отвечала односложно, не поднимая глаз от работы, и скоро растворялась в другой комнате. Её вежливость была ледяной, непроницаемой стеной. Кристина чувствовала на себе её взгляд – оценивающий, немного неодобрительный, – когда та мыла полы или протирала пыль. Она словно проверяла, не нарушила ли новая хозяйка заведённый годами безупречный порядок.
Однажды Кристина, пытаясь как-то оживить кухню, поставила на массивный дубовый стол маленький горшочек с фиалкой, который привезла с собой из Москвы. На следующий день горшок исчез. После недолгих поисков Кристина обнаружила его в прачечной, на подоконнике, среди моющих средств. Он выглядел таким же неуместным и жалким, как и она сама. Она не стала убирать его обратно. Стена между ней и миссис Хиггинс выросла ещё выше.
Одиночество стало её постоянным состоянием. Она целыми днями слонялась по дому, трогая вещи, пытаясь найти в них хоть каплю тепла, хоть намёк на личность человека, который стал её мужем. Но дом хранил свои секреты. Всё здесь было новым, дорогим и абсолютно безличным. Ни фотографий, ни писем, ни безделушек, напоминающих о детстве или о прошлом. Казалось, Эдвард родился уже взрослым, успешным архитектором, без истории, без корней.
И вот спустя две недели Эдвард объявил, что вечером к ним придут гости.
– Коллеги и несколько наших друзей, – сказал он за завтраком, не отрываясь от утренней газеты. – Неофициальный ужин, познакомятся с тобой. Не волнуйся, всё будет хорошо.
Кристина почувствовала, как у неё похолодели руки. Гости. Ей предстояло выйти из своего укрытия и предстать перед людьми из мира Эдварда. Перед его миром.
Весь день она провела в мучительных приготовлениях. Что надеть? Как себя вести? О чём говорить? Она перебрала весь свой гардероб, купленный в Москве, и с ужасом поняла, что всё здесь выглядело слишком ярко, слишком вызывающе, слишком «по-русски» для сдержанной английской обстановки. В итоге она остановилась на самом простом и дорогом – тёмно-синем платье без каких-либо украшений, которое Эдвард выбрал для неё в одном из бутиков.
К семи вечера она была готова. Волосы уложены, макияж безупречен, на лице – заученная, напряжённая улыбка. Она спустилась в гостиную, где Эдвард уже наливал себе виски. Он оценивающе посмотрел на неё и кивнул.
– Ты выглядишь прекрасно.
– Спасибо, – её голос прозвучал сипло от волнения.
Ровно в семь тридцать раздался звонок в дверь. Первыми прибыли коллеги Эдварда – супружеская пара, оба архитекторы. Он – высокий, худощавый, с острым взглядом, она – худая, как щепка, в идеально скроенном костюме и с идеальной стрижкой. Их звали Джеффри и Амелия.
– Наконец-то мы встречаем ту самую загадочную русскую жену, о которой все только и говорят, – произнесла Амелия, протягивая Кристине руку с длинными, холодными пальцами. Её улыбка не дотягивалась до глаз.
За ними подтянулись остальные. Ещё одна пара – владелец местной галереи и его жена, адвокат. Потом одинокий брокер, старый друг Эдварда. Все они были людьми одного круга – успешными, хорошо одетыми, пахнущими деньгами и уверенностью в себе.
Гостиная скоро наполнилась гулким гулом голосов. Все говорили по-английски, конечно же, и хотя Кристина неплохо знала язык, ей было трудно уловить суть разговоров. Они касались работы, общих знакомых, которых она не знала, политики, гольфа. Шутки были изысканными, полными намёков и иронии, которые она не всегда понимала, и когда все смеялись, она лишь напряжённо улыбалась, чувствуя себя полной идиоткой.
К ней обращались с вежливыми, отрепетированными вопросами. Как ей нравится в Англии? Не холодно ли ей после России? Чем она занимается?
Она отвечала, стараясь говорить чётко и правильно, чувствуя, как её щёки горят от напряжения. Её ответы, казалось, никого по-настоящему не интересовали. Выслушав, гости кивали с вежливой улыбкой и скоро возвращались к своим темам.
Она поймала на себе взгляд Амелии. Та смотрела на неё с лёгким, едва уловимым снисхождением, словно на диковинную зверушку, которую приручили и привели в приличное общество. Её глаза скользнули по платью Кристины, по её причёске, и в них мелькнуло что-то оценивающее, почти презрительное.
Кристина почувствовала себя голой. Она поняла, что её старания выглядеть «как они» тщетны. Она была другим. Чужим. И они все это видели и, кажется, даже подчёркивали своей вежливой отстранённостью.
Эдвард держался молодцом. Он был галантным хозяином, вовремя подливал гостям вина, шутил, легко переводил разговор с одной темы на другую. Но Кристина заметила, что он почти не смотрит на неё. Он не подходил, не брал за руку, не пытался втянуть её в беседу. Он был в своей стихии, среди своих людей, и она была для него лишь частью интерьера, ещё одним элементом, который нужно было представить обществу.