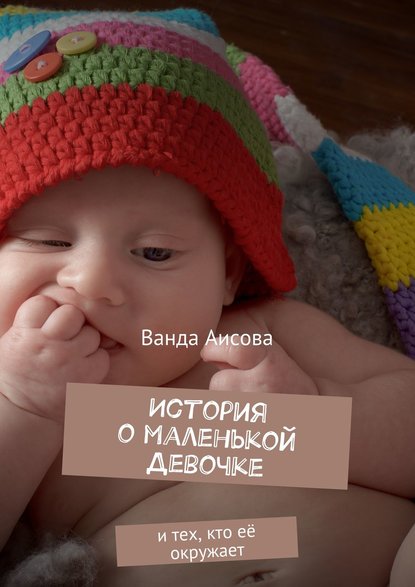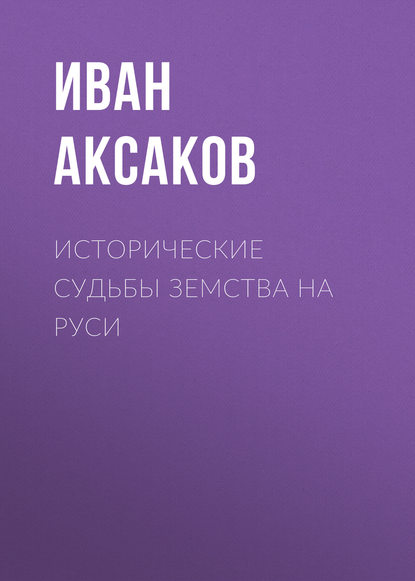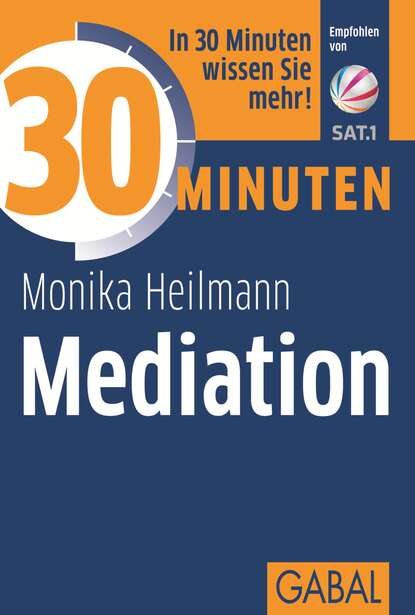Погоня за искусством в жизни
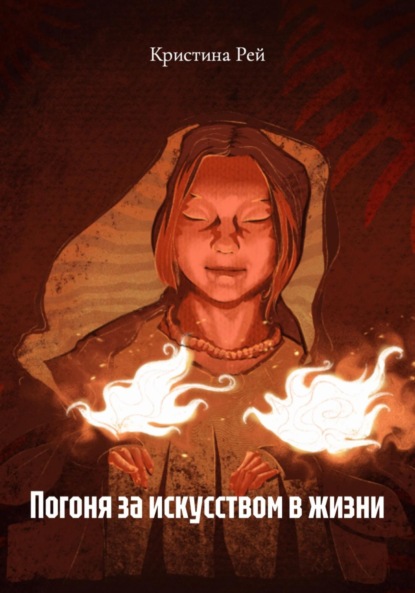
- -
- 100%
- +

"Самое дальнее путешествие – то, что внутри нас."
Введение
Книга о приключении длиною в жизнь
О страшном и прекрасном, о том, как плыть по течению и против него.
Я хочу рассказать и показать вам, что жизнь можно проживать по-разному, и что на одну и ту же вещь можно смотреть с бесконечного множества сторон.
В этой книге я поделюсь своей историей – нет, не бойтесь, это не будет скучная биография с датами и хронологией от рождения до наших дней.
Я покажу вам, где зародилась и с чего началась моя творческая жизнь. Большинство событий я проживала, будучи ребенком и подростком, поэтому эти истории смогут найти отклик и у юных читателей, и у их родителей, которые заглянут в мир глазами ребенка.
Введение
Сейчас, подбирая слова для этой книги, я сижу, закутавшись в плед, допиваю чай с куркумой и слушаю, как за стеной папа с младшим братом спасают нашу веранду от потопа. За окном ливень, гремит гроза. Пару часов назад мы ехали из города домой под ясным небом – только облака начинали сгущаться, и я наблюдала невообразимо красивое сочетание золотых полей пшеницы, насыщенной зелени деревьев и темного грозового неба. Облака нависали так низко, что казалось, вот-вот упадут на землю. Одна серая прямая дорога разделяла эти два мира.
Говоря о грозе – это одна из тех вещей, которые меня одновременно пугают, вдохновляют и завораживают. А еще напоминают о детстве. Маленькой я жила у бабушки – половина моего детства, если не больше, прошла в деревне, где живет половина моей родни.
Каждый раз, когда приходила гроза, мы выключали электричество, садились за стол со свечами и проводили время вместе – за разными занятиями, разговорами. Грозовые облака налетали быстро, и если кто-то был в гостях, приходилось дожидаться хорошей погоды. Из-за этого могло собраться несколько семей, но чаще всего это были я, бабушка и дед. А все потому, что бабушка строго-настрого запрещала выходить на улицу во время грозы.
«Гром гремит, земля трясется, поп на курице несется!» – приговаривал дед, считая секунды между молнией и громом. Я до сих пор так делаю – весело.
Помню, когда молния попала в соседний дом дяди. Мы сидели за маленьким столом у окна – я у деда на коленке, он на табуретке, бабушка на другой. За окном сверкало, крыша дома разгоралась, а ветер свистел через щели окна. Мне казалось, что это место такое маленькое, уютное и защищенное – весь мир умещался в этой комнатке.
Так и у нас сейчас: если идет сильная гроза, мы бегаем по двору, собираем все, что может улететь от ветра, и выключаем всю электронику, которая может испортиться.
БлагодарностиЗдесь я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне и поддерживал, кто учил меня и вдохновлял. За свою жизнь я встречала немало людей, словно с другой планеты – настолько увлеченных своим делом, что рядом с ними становилось тепло внутри.
Отдельную благодарность я хочу выразить своей маме. Она – мой главный критик и главная поддержка. Мой менеджер и агент. Именно она находила моих лучших учителей и дарила самые интересные знакомства. Она часто видела во мне то, что я никак не могла разглядеть сама.
И всем тем, кто научил меня главному: жизнь – это не поиск одного правильного пути. Это искусство находить красоту в каждом повороте дороги.
Глава 1. Начало
Расскажу вам о том, как начиналось мое путешествие в мир под названием жизнь.
Родившись в середине России, я осталась с бабушками и всеми близкими и дальними родственниками в маленькой деревушке, а моя мама поехала в Москву – большой город – зарабатывать.
Забытое местоМесто то сейчас можно назвать только одним словом – забытое. Тогда в нашем селе еще кипела жизнь, сейчас едва тысяча душ наберется. Больше половины домов разрушено или сгорело, а люди стали какими-то пустыми, словно жизнь из них вытекла. Время словно остановилось там, а потом начало идти назад.
Мой первый дом – одна комната, там же кухня, печь посередине, а туалет в предбаннике. Пост-советское время, когда моя мама была ребенком и они переехали сюда из Воркуты – нечего было есть после девяностых. Но дед никогда не давал почувствовать эту бедность. Он был какой-то горой, что стояла за тебя, что бы там ни происходило.
Под одной крышей умещались бабушка, дед, мама и я, а под боком – целая галерея родственников всех степеней близости. Дом был как матрешка – казался маленьким снаружи, но внутри каким-то чудом помещались все. Запах печки, скрип половиц, голоса, которые никогда не смолкали – это был мой первый мир.
Первые приключения
Когда мне было несколько месяцев, я жила на пароходе и плавала по рекам. Конечно, я этого не помню, но думаю, это было комично – ребенок на пароходе, качающийся в такт волнам. Есть пара фотографий: на одной я плачу, чумазая, упала; на второй – весело улыбаюсь, слезы еще блестят на щеках.
Особенность с рождения – улыбаться на камеру, даже сквозь слезы.
Чуть позже мы с мамой переехали в хрущевки Подмосковья. Серые коробки, похожие друг на друга, но в каждой кое-где горит свет.
Помню, как собиралась в садик зимой: за окном – чернота беспросветная, синее небо проглядывает где-то далеко, холод забирается под одеяло. Меня одевают, пока держат – сижу на кровати; отпустят – падаю обратно, как мешок картошки. Тогда я точно не была ранней пташкой.
Великий побег трехлетней
Потом этот холод кусает лицо, панельки смотрят пустыми глазами окон, мусорки, слякоть – и снова дом, а в нем садик. Мама бежит на работу – у нее все рассчитано по секундам: «Кристин, быстро-быстро, опоздаем!» Бегом на остановку, маршрутка, электричка в Москву, метро, и после – снова бегом на работу. Жизнь на скорости света.
Но в один из дней после года отработанной схемы что-то пошло не по плану в моем трехлетнем мозгу. Я решила выйти из подъезда второй раз, поцеловать маму на прощание, но было поздно – она уже умчалась на остановку в полной уверенности, что я прямо сейчас поднимаюсь и захожу в садик.
Не тут-то было. Дверь – тяжелая, металлическая, с характерным лязгом – закрылась, а я даже не доставала до домофона. Осталась стоять у двери, как маленький часовой без поста.
«Девочка, тебе открыть?» – несколько человек подходили, спрашивали. Я мотала головой – незнакомцам говорим «нет», это правило номер один. Потом все же решила переосмыслить убеждения своей маленькой головы и зашла в подъезд, когда туда заходил очередной дедушка с пакетом.
Поднялась на один этаж, потом на второй и успешно забыла, какой этаж и какая дверь. У вас бывало в детстве, когда вы вдруг забыли, как ложку держать, или как дышать, не думая об этом, или как язык во рту должен лежать, чтобы не мешал? Ну вот, из той же серии – мозг взял и стер важную информацию.
Несколько раз прошла весь дом вниз и вверх, но память молчала. Пошла обратно вниз – в подъезде эхо от шагов, запах хлорки и что-то страшноватое. Вышла на улицу и успешно исследовала двор еще два часа, пока одногруппника не привела мама – они опаздывали.
Через три часа после того, как мама отправила меня в садик, она получила звонок: «Кристина только что дошла». Тут у мамы чуть сердце не остановилось.
Рай среди взрослых
Работа родителей была моим самым любимым местом на свете. Куча взрослых, которые тебя обожают, гладят по голове и дарят всякие безделушки и вкусности. Мама работала в молочной компании, поэтому сырки в холодильнике и морозилке водились всегда – целый склад детского счастья. А подаренный фартук и колпачок от ручки на веревочке стали моим плащом супергероя и медальоном лет так на пять вперед.
Деревенские каникулы
Каждое лето и зиму я ездила к бабушке в деревню. Место, где время течет по-другому – медленно, как мед с ложки. Я была маленьким хвостиком: посмотреть на водокачку – это любимое занятие, трубы гудят, запах сырого бетона; на тракторе мусор вывозить – сидишь высоко, глядишь далеко; на мотоцикле в коляске покататься на какой-нибудь праздник, а после возвращаться как придется, ведь все взрослые развлекались – только и слышишь, как жены кричат на мужей, а те ругаются на мотоцикл, который застрял; на затон купаться, пока губы не посинеют.
«Кристь, хватит, замерзла уже!» – «Еще чуть-чуть!»
Велик, полотенце и палка – что еще для счастья надо?
Просыпаюсь медленно – пахнет блинами или овсяной кашей, телевизор бормочет что-то про новости. Выглядываю в окно – стадо коз опять жрет наши ягоды. Небо ярко-голубое, такое, какое бывает только в деревне, без городской дымки.
Завтрак под телевизор – я зависала на модных шоу, а дед ворчал: «Что за ерунда показывают». А потом – на улицу, к моему другу-велосипеду. Брала запасы для перекуса, набор юного искателя приключений, и ехала искать змей.
Помню, как нашла дохлую змею и в жестяной банке из-под кофе притащила бабушке. Бабушка терпеть не могла змей и панически боялась – такой крик подняла, что полдеревни сбежалось.
Братская компания
Компанией моей было несколько старших братьев – двоюродных, троюродных, да какая разница. Мы все кочевали между родственниками: к одним на обед зайдем, к другим на ужин, и так весь день по деревне.
«Ну чё, малявка, с нами пойдёшь?»
Меня через силу брали с собой, но если брали – это были лучшие приключения на свете: рыбалки на рассвете, когда туман стелется по воде, походы за гаражи, игры всей деревней в казаки-разбойники.
Первый мопед брата – «Держись крепче!» – и мы летим по грунтовке, поднимая пыль. Надоедливые девчонки постарше выгоняли меня: «Иди отсюда, мешаешь!» Брат тогда счастливо улыбался и подмигивал им.
Если палкой по голове прилетит – главное не долго реветь, а то убегут без тебя.
Помню, как меня учили кататься на велосипеде. Долго дело не шло – все падала на двух колесах. Но тут купили новый красивый велик.
«Пошли, научу», – говорит брат.
Мне страшно: «А вдруг упаду?»
«Не бойся, я держу», – и толкает за багажник.
Еду, оборачиваюсь – уже не держит!
«Эй!» – кричу, а пока оборачиваюсь, падаю прямо в крапиву. Он ржет, а мне смешно и больно – крапива колется, но я же проехала сама!
На семейных праздниках я была звездой – много конфет, шашлык, мне доставались гостинцы от всех. Все меня любили: «Любимая, самая красивая, самая маленькая, да удаленькая!»
А брату часто меня в пример ставили: «Вот Кристина в твоем возрасте уже то-то и то-то». Мне было обидно за него – зачем меня с ним сравнивать? Он и так чувствовал себя непутевым.
Иногда у меня были подружки, но не всегда у нас складывалось. Я там быстро просекла, как работает детская дружба: «Ты мне куклы дай, а я с тобой поиграю». Я долго могла терпеть такое, а потом накричать и выгнать из своего дома.
Потом все ходят, косятся, зато мне в уши не льется всякая ерунда. Я лучше на велике покатаюсь.
Строительство нового дома
Когда мы начали строить новый дом, дед аж светился: «Вот тут это будет, а тут то!» Мы бегали по стройке – я за братом, а за ним еще куча девчонок постарше крутились рядом. Ему было не до меня – на кой я ему сдалась?
«Не ходите там, гвозди!» – кричала бабушка.
«Ага!» – отвечали мы и все равно шли.
Как по маслу гвоздь вошел мне в ногу через тапок. Больно, противно. Брат уже тащит на руках в старый дом, бабушка ахает, на пол льет йод, я реву, он испугался. Кошка трется об меня, мурчит и успокаивает – так всегда было с моего рождения. Она была, и пес черный – от всех меня защищал. Они оба очень долго прожили. Он погиб под трактором, а кошку после задрали собаки.
У брата появлялись садины, синяки.
«Ты упал?» – спрашивала я.
«Упал», – и улыбается, а мне грустно.
Мы взрослели. Я начинала видеть что-то еще. У нас было сложно – брат оказывался часто под перекрестным огнем, ходит, болтается, всем мешает. Мне так сильно хотелось помочь.
Жирафы и баржи
В селе был завод, что делал баржи, а краны, что торчали в небо, получили от меня имя «жирафы». Мы ходили на старые ржавые баржи летом – вода через пробоины и от дождя заливалась внутрь и была теплой, как парное молоко. Мы там отмокали, как в гигантской ванне под открытым небом, только я маленькая была, а там высоко – спускали за руки, а в конце так же вытягивали.
А зимой, несмотря на строгие бабушкины: «Не смей на лёд ходить, провалишься!», пока она не видела, мы, конечно, шли на замерзшую реку. «Лёд крепкий?» – «Да вроде ничё, держит». Предварительно проверяя, тыкая палкой или ломом, шли на другую сторону искать приключения.
А потом мы поругались. Из-за чего – уже не помню, но я, четырехлетняя, гордо заявила:
«Вот уеду в Москву, там тебя видно не будет!»
И ведь правда уехала через несколько лет.
А сейчас мы с братьями уже не общаемся. Слишком разные стали, далеко живем. Те люди, которые были мне дороги, или ушли совсем, или потерялись в оболочке чего-то нового и не совсем живого.
Может, это я изменилась так, что перестала их видеть. А может, место само съедает людей, превращает в тени самих себя.
Дед – изобретатель миров
Мой дед был изобретателем миров и покорителем невозможного. В 14 лет он сбежал из нашей деревни за старшими братьями в Воркуту – между вагонами поезда, как настоящий беспризорник. Конечно, там братья развернули назад, но дух авантюризма остался навсегда, передался маме, а потом и мне.
Потом все-таки добрался до Воркуты, работал шахтером, получил несколько высших образований. Там же, в заполярье, родились моя мама и ее старший брат. Дед создавал вездеходы и картинговые машины, сам придумывал и делал – руки золотые, голова светлая.
А потом семейное помутнение рассудка, как бы я это назвала. Когда маме было 14, они вернулись в ту деревню. Иначе кто бы захотел возвращаться в эту дыру? Но для меня тогда это был дом – место, где тебя любят просто за то, что ты есть.
Там дед работал в «конторе». В семь-восемь лет я уговорила его дать мне настоящую работу: подписывала квитанции, ставила печати – чпок-чпок, разносила по всему поселку. Гордость переполняла – у меня есть настоящая работа!
Он понятно объяснял физику – «Смотри, если так сделать, то бензин пойдёт сам». Но совершенно не умел сидеть с детьми. Слишком много мороки.
Но далеко не все его задумки выходили, как задумывалось. Он был не такой, как все – это было плохо, особенно в той стране, особенно в его время. «Зачем столько рыпаться? Сиди смирно да молчи», – говорили ему.
Сейчас я понимаю – он жил совершенно не в свое время. Таких, как он, тогда не понимали.
Мама – бунтарка
Мама тоже была не такая, как все. Переезд в деревню – ее худшее воспоминание детства. Из города попасть в эту глушь, где время остановилось. Высокая, глаза большие голубые, буйная – она всегда что-то придумывала, куда-то рвалась.
В 16 поехала учиться в город, потом уехала в Москву работать. Смелая, упертая – наверное, в деда пошла. Она никогда не сидела смирно, всегда искала что-то лучшее для нас обеих.
И правильно делала, что рвалась, а не слушала других. Хоть и страшно было, хоть и внутри, наверное, сидел упрек: «Да что я делаю?» Я как представлю – останься мы там… Да не представлю. Не было бы меня такой, какая есть.
Корни, о которых не знала
Много лет спустя мне приснился сон, который показал то, чего я никак не могла видеть, но он будто через кровь дошел до меня. Я замерзла и шла сквозь деревню, которая была вся-вся в снегу после метели. Ночь, но не темная – одна из тех, когда луна светит ярко и видно все. Остатки снега падали большими хлопьями.
Потом я словно провалилась в другой мир. Нашла вход в снегу, как туннель, который мы строили в детстве. Когда пролезла вниз, там было несколько разветвлений, а впереди – большая дверь, деревянная, яркая и старинная.
Зашла – и оказалась в старинном доме. Не дворец, а скорее купеческая изба. С резными колоннами и брусьями, с половиками на полу. В ней было солнечно – в крыше были дыры, и солнце заливало пространство. Изба заброшенная, как будто из нее уходили второпях, но вещи остались.
Я шла впереди, а потом появились мама и дети. Мы ходили из комнаты в комнату. В одной висела детская деревянная люлька, стояла лошадка, деревянная машинка и другие игрушки. Краем глаза я периодически видела, как будто дети, которые здесь раньше были, продолжали играть и бегать по дому, пятеро мальчишек.
А потом мы зашли в комнату, которая оказалась библиотекой. Книги были как периоды нашей жизни, написанные и имевшие свои названия. Одна книга была подписана «Приключения Мирона», а автором был дед – Беляев Павел. Мы удивились: как так получилось, что он написал ее задолго до появления моего младшего брата Мирона, а мальчик в книге – один в один он?
От дома исходило тепло и уют, как будто это то самое место, куда ты можешь всегда вернуться. Думаю, это был дом Марии, прабабушки, которую я никогда не видела.
Проснулась с пониманием: корни уходят глубже, чем я думала. У меня было тепло внутри – будто после месяцев пустоты от потери близкого человека я вдруг откопала что-то теплое и родное. Генетическая память хранит то, что сознание забыло. И все мои скитания, все поиски – может, это попытка найти дорогу к тому дому, который я видела во сне.
Болезни и мечты
Я много болела. Пока все остальные спокойно идут вперед, я ползу, волоча невидимый груз. Мама переживала, металась по врачам: «Месяц не встает!» – «Психосоматика», – отвечали.
Но болезни давали время мечтать. Лежишь, смотришь в потолок, а в голове – целые миры. Я представляла вселенные, придумывала персонажей, рисовала.
Сны приходили особенные – целые истории, продолжающиеся ночь за ночью. Огромный дом с бесконечными комнатами, каждая – другая эпоха. Я бродила и знала – это все мое.
Просыпаясь, рисовала то, что видела. Тетради заполнялись странными существами.
Потом будет много разных занятий – танцы, плавание, и даже цирк с акробатикой. Тренеры будут недоумевать: «Вчера пять сальто, сегодня колесо не получается?» Но это уже другие истории.
Школа – новое приключение
А пока пришло время идти в школу. И тут началось совсем другое приключение – с поиском места, где я смогу быть собой.
Первого сентября мама повела меня в школу. Я шла с огромным бантом на голове и портфелем, который казался больше меня. В школе пахло мелом и свежей краской, коридоры гудели от детских голосов.
«Кристина, твое место там, у окна», – сказала учительница Мария Ивановна.
Я села и сразу поняла – здесь все по-другому. Нельзя встать, когда хочется, нельзя говорить,
Школа стала местом, где я училась быть разной. В классе – послушной ученицей, на переменах – защитницей слабых, дома – мечтательницей и исследовательницей.
И постепенно я поняла – быть «не такой, как все» не всегда плохо. Иногда это значит видеть то, чего не видят другие.
Глава 2. Экспериментальное образование
Мое образование можно назвать экспериментальным. К моменту окончания школы я поучилась в девяти разных учебных заведениях – в России, на Шри-Ланке и в Сербии. Была в лагере «Добрая школа» и училась на семейном обучении. Мы часто переезжали и путешествовали, и начало частых переездов совпало с моим походом в школу. Поэтому самое долгое время посещения одной школы было два года.
9 школ за школьную карьеру – это, конечно, показатель моей исключительной одаренности и уникальности. Определенно не признак того, что я просто не умею нигде ужиться. И уж точно не потому, что каждый раз думала: «Ну все, теперь-то точно найду свое место!» – а находила очередную порцию разочарований.
Либо я гений адаптации, либо… нет, определенно гений. Других вариантов не рассматриваю.
Немецкая гимназия: первые разочарованияМама изучала школы как ученый изучает редкие виды бабочек – с лупой, блокнотом и священным трепетом. Выбор пал на престижную немецкую гимназию в Москве. Туда не просто поступали – туда проникали, словно в закрытый клуб для особо одаренных. Казалось, что еще можно придумать лучше для ребенка? Не тут-то было.
Первое сентября. Пышный букет в руках, но не для меня. Тугие косы, колготки, которые все время сползали, а руки чесались подтянуть их до ушей каждые пять минут, но нельзя – ты же девочка. Белые банты были будто больше моей головы. Форма, которую мы через бои получали от школы, заставляла чесаться и ерзать – шерстяная юбка, как на еже сидишь.
Как хорошо, что мы уехали подальше от таких норм потом.
Я не хотела идти в школу никогда. А потом научилась болеть. Или болела от нежелания идти в школу – кто знает, где причина, а где следствие? В какой-то школе я проболела больше трети учебного года. Где-то это был бы максимум пропусков, но я правда болела – с температурами, как идти?
Мама сидела у моей кровати с градусником и растерянным лицом. «Опять тридцать восемь», – вздыхала она. А я лежала и думала: может, мое тело просто честнее меня? Может, оно говорит то, что я не решаюсь сказать вслух – что школа делает меня больной в прямом смысле слова?
Учителя смотрели на мои справки с подозрением. Одноклассники забывали, как меня зовут. А я привыкала к тому, что дом – это место, где можно дышать полной грудью, а школа – где воздух становится густым, как кисель, который я так ненавидела в столовой.
Казалось, что мы нашли для меня место, где я стану тем, кем должна стать. Как же мы ошибались.
Я отходила туда два года. К слову о немецком – через неделю после того, как ушла, я не знала, как перевести слово «Deutsch». И это не потому, что я такая глупая или плохо учила, и не только в преподавателе дело, хотя он тоже несет ответственность. Просто я не могла впитывать тогда эти знания – как губка, которую не выжали. Да и на кой мне сдался немецкий? Я тогда даже представить не могла, что он мне где-то понадобится.
В первом классе я пошла на танцы. К слову, в садике я занималась восточными танцами – костюм от которых, по-моему, только недавно оторвали от младшего брата, ведь уже и он вырос из него.
Помню мучительные домашние задания до одиннадцати вечера и то, как в какой-то момент мой мозг просто отключался и отказывался работать. Со стороны это выглядело, будто я выключилась. Мама сидела рядом, объясняла одно и то же по десятому разу, а я смотрела на страницу учебника, и буквы расплывались, как в тумане. Слезы капали на тетрадку, размывая чернила. «Я не понимаю», – шептала я, а мама вздыхала и начинала сначала.
А еще этот чертов гигантский рюкзак, который меня перевешивал! Ужасные, ненавистные первые сентября – море цветов, толпы родителей и ощущение, что ты идешь на каторгу.
Было много агрессии – со стороны преподавателей и учеников. Дети в определенном окружении не фильтруют агрессию как что-то плохое и неправильное. А учителям главное – комиссии все сдать вовремя.
Школа была огромная, а я ощущала себя крохотной среди бесконечных коридоров, корпусов, переходов и актовых залов. Я все время боялась там потеряться. Звонок на урок – и сотни детей бегут по коридорам, как муравьи. Я прижималась к стене и ждала, пока поток схлынет. Запах хлорки, скрип линолеума под ногами, эхо голосов – все это создавало ощущение какого-то промышленного предприятия, а не места, где дети должны учиться и расти.
Сейчас я понимаю – я не вписывалась. Ты вроде пытаешься влиться, как пазл встать на свое место, и вроде подходишь, вроде ужимаешься, но все не то, не твое это, и все. Я правда долго терпела, если кто-то вдруг меня задирал или доставал. Но я не была объектом буллинга – скорее наоборот. После того как я взрывалась, выходили даже драки.
Но самое бесящее было, что учителя вставали на сторону тех, кто «задирал»: «Ты же девочка, веди себя нормально!» Думаю, им не хотелось смотреть на то, что происходит, когда они выходят из класса или когда дети уходят за гаражи. Но кого это волнует, правда?
Однако там я занялась бальными танцами. Мне очень нравилось – и танцевать, и очень красивая хореограф. Я даже выступала один раз. Безумно боялась и тряслась – крошечная я, этот огромнейший зал и гул голосов, которые нависали надо мной словно туча. Так я себя чувствовала. Но выступила отлично – собрала все силы и волю прямо перед тем, как включили музыку.
На сцене что-то щелкнуло внутри. Музыка заполнила пространство, и я перестала быть той испуганной девочкой из коридоров школы. Я стала танцем. Движения текли сами собой, партнер вел уверенно, и зал исчез. Остались только ритм, свет софитов и ощущение полета. Аплодисменты в конце прозвучали как гром – я даже не сразу поняла, что это для нас.