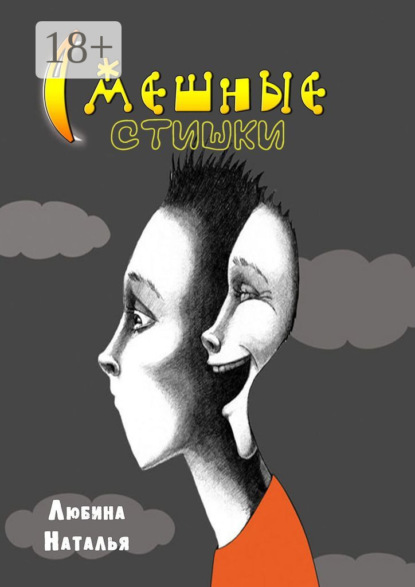- -
- 100%
- +
Он издал короткий резкий звук, нечто среднее между смехом и стоном, когда я освободила его от последних оков одежды. Его руки обхватили мои бедра, пальцы впились в плоть, направляя мои движения, когда я опустилась на него. Мгновение острого, почти невыносимого напряжения, когда наши тела сливались в одно, и граница между победителем и побежденным исчезла навсегда. Это было не соединение, а завоевание с обеих сторон. Каждое движение было выверенным тактическим маневром, каждый толчок – атакой, от которой звенело в ушах и темнело в глазах. Его руки исследовали мое тело, как шахматист изучает доску, находя самые уязвимые, самые чувствительные точки, чтобы одним прикосновением вызвать новый взрыв стонов. Я отвечала тем же, впиваясь ногтями в его плечи, двигаясь в том же неистовом, первобытном ритме, что и он. Воздух был наполнен не парфюмом, а нашими запахами – кожей, потом, страстью. Тишину комнаты разрывали не щелчки фигур, а наше прерывистое дыхание, хриплые стоны, шепот его имени на моих губах и моего – на его.
Он перевернул меня снова, его тело прикрыло меня, тяжелое и влажное. Его губы нашли мои в поцелуе, который был уже не битвой, а отчаянной, голодной мольбой. Наше движение ускорилось, ритм стал хаотичным, неудержимым. Я чувствовала, как внутри меня нарастает волна, горячая и всепоглощающая, готовая смести все на своем пути.
– Смотри на меня, – хрипло приказал он, и я открыла глаза, встретив его темный, почти черный от страсти взгляд. – Я хочу видеть, как ты падаешь.
И я упала. С тихим криком, вырывающимся из самой глубины души, в вихре спазмов, которые сотрясли все мое существо. Через мгновение его собственное тело напряглось, и он с глухим стоном обрушился на меня, изливая в меня всю ярость и нежность нашего сражения.
Тиканье часов снова стало слышно, доносясь из далекого, забытого мира. Мы лежали, сплетенные, наши сердца отбивали бешеный ритм, постепенно успокаиваясь. Его рука лежала на моей груди, ладонь прикрывала бешено стучащее сердце. На полу, рядом с нами, лежала опрокинутая шахматная доска. Фигуры, короли и пешки, были разбросаны в совершенном беспорядке. Ничья. Или, может быть, величайшая из возможных побед.
Его пальцы, еще минуту назад впивавшиеся в мои бедра с силой, способной оставить синяки, теперь медленно, почти нежно, провели по моей спине. Движение было исследующим, умиротворяющим. Как будто он заново выстраивал карту моего тела, но теперь не для атаки, а для того, чтобы присвоить его в мире. Я провела ладонью по его мокрому от пота затылку, чувствуя, как мелкая дрожь пробегает по его телу в ответ на мое прикосновение. Границы действительно не существовало. Его пот был моим, его жар – моим, его истощение – моим.
Он наконец приподнялся на локтях, отстранившись ровно настолько, чтобы я могла увидеть его лицо. Бешеный огонь в его глазах угас, сменившись глубокой, дымной усталостью и чем-то еще… безмерным признанием. Он не улыбался. Его выражение было серьезным, почти суровым.
– Шах и мат, – прошептал он, и его низкий прокуренный голос прозвучал как окончательный приговор.
Я покачала головой, чувствуя, как по моим губам расползается медленная победоносная улыбка. Мои бедра все еще слабо пульсировали, а в висках стучала отступившая буря.
– Нет, – так же тихо ответила я. – Это ничья. Пат.
Он замер, изучая мое лицо, и вдруг коротко, тихо рассмеялся. Этот звук был лучше любой музыки.
– Пожалуй, ты права.
Он склонился и коснулся моих губ уже другим поцелуем. Нежным, благодарным, усталым. В нем не было ярости «королевского гамбита», а была глубокая обретенная гармония. Он медленно поднялся, и прохладный воздух снова коснулся моей кожи, заставляя ее покрыться мурашками. Он был прекрасен в своем беспорядке – взъерошенные волосы, полурасстегнутая рубашка, тени под глазами. Он протянул руку, и я приняла ее, позволив ему поднять себя. Ноги подкосились, и я прильнула к нему, чувствуя, как его сильные руки обнимают меня, уже не в порыве страсти, а в жесте опоры. Мы стояли так посреди комнаты, среди хаоса – опрокинутый шахматный стол, скомканная одежда, сброшенные фигуры, молчаливо свидетельствующие о нашей битве.
Он провел рукой по моей щеке.
– И что теперь? – спросил он. – После ничьей? Новая партия?
Я посмотрела на рассыпанные фигуры, на доску, где наша игра так и не была завершена, а затем снова на него. В его глазах я увидела не вызов, а вопрос. Приглашение.
– Нет, – сказала я, прижимаясь ладонью к его груди, чувствуя под пальцами ровный, сильный стук его сердца. – Теперь – перемирие.
И в тишине разрушенной комнаты, в тепле его объятий это перемирие ощущалось величайшей из возможных побед.
Его перемирие оказалось самым искусным из всех его ходов. Оно было теплым, прочным и таким обманчиво безопасным. Мы уснули, сплетенные воедино в моей постели, как два изможденных война, нашедших, наконец, общий покой. Его дыхание было ровным и глубоким у моего виска, а тяжесть его руки на моей талии казалась не цепью, а щитом.
Но с первым лучом утра, пробившимся сквозь щели в шторах, щит превратился в клетку. Я лежала неподвижно, прислушиваясь к ритму его сна, и чувствовала, как из глубины души поднимается знакомая, леденящая волна – страх. Не страх перед ним, а страх перед этим «мы». Перед тишиной, которая была уже не битвой, а договором. Перед его «присвоением в мире», которое грозило поглотить меня целиком, оставив от моей собственной, выстраданной независимости лишь призрачный след.
Он пошевелился, его рука инстинктивно потянулась ко мне во сне, и мое решение кристаллизовалось, став таким же твердым и холодным, как шахматная фигура в руке гроссмейстера. Я была мастером побегов. Это был мой коронный номер. Словно тень, я выскользнула из-под его руки. Он пробормотал что-то невнятное, но не проснулся, убаюканный глубиной нашего перемирия-ловушки. Одевалась я в полумраке, молча, подбирая с пола разбросанные предметы одежды – не свидетельства страсти, а вещественные доказательства, которые нужно было удалить с места преступления. Каждый щелчок застежки, каждый шепот ткани по коже казался мне шагом к свободе.
В прихожей, озаренная холодным светом экрана телефона, я совершила два выстрела, беззвучных и безошибочных. Первый – риэлтору: «Найдите мне новую квартиру. Сегодня. Бюджет не важен». Второй – помощнику: «Мне нужен новый номер. И команда, чтобы собрала мои вещи из старой квартиры через два часа. Без звонков, без вопросов».
Я не оглянулась, выходя из квартиры. Дверь закрылась с тихим щелчком, поставившим точку в партии, которую я сама же объявила оконченной.
Утро было ярким и безразличным. Я сидела в кофейне с огромной стеклянной стеной, впитывая солнечное тепло и отдаваясь шуму города. Пальцы обхватили чашку с черным кофе, горьким и обжигающе реальным. Онемение от ночи сменилось кристальной ясностью. Каждый глоток был глотком свободы. Каждый вдох – подтверждением, что я снова дышу сама по себе, не делясь воздухом, не смешивая ритмы. Я наблюдала за прохожими, за спешащими на работу людьми, за парой, ссорившейся на углу, и чувствовала непоколебимый, холодный триумф. Он думал, что мы объявили ничью. Он думал, что наше перемирие – это новая глава. Но он недооценил мою главную слабость, которая всегда была и моей главной силой: неспособность быть побежденной, даже ценой уничтожения поля боя.
Уголки моих губ дрогнули и изогнулись в беззвучной улыбке, обращенной к новому дню, к моему собственному отражению в стекле. «Я опять победила», – прошептала я тихо, и эти слова прозвучали не как ликование, а как окончательный, безжалостный приговор самой себе.
Кофе закончился, оставив на дне чашки горьковатый осадок и прилив ясной, холодной энергии. Как по команде, завибрировал телефон – риэлтор. Несколько вариантов. Заселение сегодня. Я выбрала тот, что с видом на озеро, и, вызвав такси, отдалась движению города, наблюдая, как знакомые улицы сменяются незнакомыми.
Новая квартира оказалась именно такой, как на снимках: стерильно-чистая, пахнущая свежей краской и одиночеством. Большие панорамные окна открывали вид на гладь озера, неподвижную и серую в предвечернем свете. Никаких уютных лавочек, никаких смеющихся пар на набережной. Только вода, небо и закрытая, пустынная территория. Идеальный санаторий для души, пережившей очередное поражение, замаскированное под победу.
Я осталась стоять посреди гулкой пустоты гостиной, глядя на озеро, и в этой безмолвной тишине ко мне вернулись мысли. Не о нем, а о них. О мужчинах. Они так любят эту игру – «присвоение в мире». Они не штурмуют крепости с помощью лобовых атак, нет. Они предлагают перемирие. Они окружают тебя тишиной, которая кажется покоем, и тяжестью руки, которая выдает себя за щит. Они заманивают в ловушку комфорта, где можно уснуть, сплетясь воедино, как два изможденных воина. А проснешься – и уже не воин, а трофей. Их «мы» – это не союз. Это аннексия. Поглощение. Они берут тебя в плен, не ломая двери, а просто предложив ключ от своей клетки и назвав его «домом». И самое удивительное, что они сами верят в эту иллюзию. Верят, что их рука на твоей талии – это акт защиты, а не владения. Что их ровное дыхание у твоего виска – это доверие, а не присвоение твоего пространства. Они думают, что перемирие – это конец войны, а не ее самая коварная фаза. Фаза, где ты должна сложить оружие и забыть, что когда-то была самостоятельным государством со своими законами и границами.
Я сняла с ключа белую бирку риэлтора, сжала ее в кулаке. Холодный пластик впился в ладонь. Да, я сбежала. Я мастер побегов. Но в этом холодном триумфе всегда была и щемящая пустота. Потому что с каждым таким побегом ты оставляешь на поле боя не только противника, но и ту часть себя, что на минуту поверила в возможность другого исхода.
Достав из кармана старую SIM-карту, я посмотрела на нее, как на отстреленную гильзу. Крошечный кусочек пластика, связывавший меня с прошлым, с его голосом, с его миром. Я зажала симку между пальцами, чувствуя ее хрупкость. Не нужно ритуальных сожжений. Не нужно драмы. Я подошла к ведру для мусора, одиноко стоявшему в углу кухни, и разжала пальцы. Карта упала беззвучно, затерявшись среди упаковочной пленки и бумаги. Никакого пафоса. Просто контакт разорван. Линия отрезана. В тишине новой квартиры этот жест казался финальной точкой. Не в отношениях – с ними было покончено утром, – а в моем внутреннем споре. Я снова была одна. Совершенно одна. С озером за стеклом, с гулкой пустотой вокруг и с этим знакомым, леденящим чувством свободы, которое так похоже на приговор.
Прошел месяц. Тридцать дней, отмеренных ритмичным стуком каблуков по паркету в такт щелчкам клавиатуры. Тридцать ночей, где тишину нарушал только скрип льда в стакане, разбавляющий густой аромат виски. Три новых любовника. Не мужчин – именно что любовников. Красивые, удобные, одноразовые. Каждый – как глоток того самого виски: обжигает, пьянит, а наутро – лишь горьковатое послевкусие и пустой бокал. Четыре бутылки. Не для компании, а для ритуала. Чтобы залить ту, последнюю, щемящую трещинку в душе, что иногда напоминала о себе в промежутках между работой и мимолетным теплом чужих рук.
Как же я люблю свободу. Эта фраза стала моей утренней аффирмацией, зазубренной, как таблица умножения. Я повторяла ее, глядя на озеро, которое из серого и неподвижного стало синим, потом зеленым, потом черным, отражающим ночные огни. Я говорила ее себе, провожая очередного временного спутника с легким поцелуем в щеку и без обещаний. Свобода – это когда тебе не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Свобода – это когда твое время принадлежит только тебе. Свобода – это холодная, стерильная чистота квартиры, где нет ни одного чужого носка, ни одной забытой мужской вещи.
И вот пришло известие. Не от него, конечно. Из параллельного мира, того самого, что я оставила за стеклом панорамных окон. Сергей уволился. Сергей, чья рука на моей талии когда-то казалась щитом, а голос – обещанием дома. Сергей, который был так уверен в прочности наших «пленных» уз. Он не просто уволился. Он исчез. Слился с картой города, как когда-то я сама. Вот так бывает. Ты думаешь, что выиграл, сорвав банк в игре, где все фишки были твоими, а он на самом деле проиграл, оставшись у разбитого корыта со своими иллюзиями. И это заставляет задуматься. О психологии мужчины, которого бросили. Не того, кто ушел сам, прихватив чемодан и чувство правоты, а того, кто остался на перроне с билетом в никуда. Мужчина, чье «присвоение» было тактикой, а не любовью, часто воспринимает расставание не как сердечную боль, а как стратегическое поражение. Его «я» было построено на обладании. Ты была не просто женщиной, ты была его территорией, его трофеем, живым доказательством его состоятельности. Когда ты уходишь, ты не просто разбиваешь ему сердце – ты подрываешь фундамент его самоидентификации. Он был Цезарем, а ты – его Галлией. И вот Галлия восстала и ушла, оставив его не императором, а просто человеком в пустом дворце. Его следующее действие – не стремление вернуть «любовь». Нет. Его миссия – восстановить пошатнувшуюся картину мира. Он должен доказать себе, что он все еще победитель. Как? Уволиться с работы, которая была частью той старой, «проигранной» жизни. Сбрить бороду. Купить мотоцикл. Уехать в неизвестном направлении. Это не исцеление – это бегство. Бегство от образа себя как того, кого *оставили*. Он не горюет о тебе. Он горюет о версии себя, которую ты унесла с собой. Его боль – это не тоска, а ярость от осознания собственной уязвимости. Тот самый «щит», который он предлагал, оказался картонным. Тот самый «ключ» от общего дома – просто железкой, которую ты выбросила в мусорное ведро, как и ту SIM-карту. Он проиграл не тебе. Он проиграл самому себе. В его системе координат быть брошенным – значит быть слабым. А слабость для такого мужчины – смертный приговор его эго. Поэтому он не будет звонить, не будет умолять. Он совершит какой-нибудь резкий, демонстративный жест, крик протеста против собственной несостоятельности. Уволиться – идеально. Это публичное заявление: «Я не тот, кого бросили. Я тот, кто начинает все с чистого листа». Но чистый лист – он холодный и пустой. Как моя квартира. Как озеро за окном. Как свобода, что похожа на приговор.
Я допиваю последний глоток виски со дна стакана. На душе – не торжество, а спокойная, леденящая ясность. Мы оба проиграли в той войне, которую сами же и начали. Он – потерял свой трофей. Я – ту часть себя, что еще способна верить в «другой исход». И теперь мы оба существуем в параллельных реальностях одиночества: он – в своем побеге от слабости, я – в своем санатории для души, за стеклом, отделяющим меня от мира. И в этой ясности есть странное утешение. Мы квиты.
Вечером я позвонила своим ведьмочкам. Не подругам – именно ведьмочкам. Таким же, как я: с горящими глазами, острыми языками и личными замками на сердце. Бар был нашим привычным ковеном: низкие сводчатые потолки, приглушенный свет, отражающийся в тысячах бутылок, и коктейли, каждый из которых был маленьким алхимическим чудом. Мы устроились в углу на бархатных диванах, и ритуал начался.
– Итак, – начала Алиса, чье черное каре было острее бритвы, а взгляд – яснее коньяка в ее бокале. – Три любовника, четыре бутылки и одно стратегическое поражение бывшего на карте мира. Ты уверена, что не пишешь диссертацию по социальной деструкции?
– Она не пишет, она ее проживает, – флегматично заметила Света, растягивая слова и крутя в длинных пальцах стебель бокала с «Негрони». – И, надо сказать, материал собирает бесценный. Сергей, оказывается, был не мужчиной, а трофеем. Обидела парня.
Я фыркнула, позволяя кислинке «Мохито» щипнуть язык.
– Он сам себя оккупировал своими же иллюзиями. Я просто открыла ему глаза.
– И оставила после себя выжженную землю в виде карьерного вакуума, – подхватила Алиса. – Блестяще. Мне нравится. За твою свободу, которая, как выясняется, обладает карающей функцией.
Мы чокнулись. Света вздохнула:
– А я вот сегодня сходила на свидание. Парень с идеальным резюме: тревел-блогер, веган, практикует осознанность.
– И? – хором спросили мы.
– И за весь вечер он осознал только вкус киноа в своем салате и глубину собственного духовного пути. Когда он спросил, медитирую ли я, чтобы «очистить карму от прошлых кармических узлов», я чуть не залила его своим «Негрони». Мне кажется, осознанность – это когда ты осознаешь, что девушке на третьем свидании может быть скучно.
Мы захохотали, и этот смех был таким же очищающим, как и виски. Он смывал налет одиночества, скреплял нас в единый, непобедимый фронт.
И вот тогда мы его увидели. Он стоял у барной стойки, опершись на локоть. Не любовник. Мужчина. Темные джинсы, простая белая рубашка с закатанными до локтей рукавами, открывающими предплечья с проступающими венами. Он заказал виски, один глоток, и окинул взглядом зал – не оценивающим, а наблюдающим. Спокойный. Не ищущий. Наша троица замерла на секунду. Радар сработал у всех одновременно.
– Боже, – прошептала Алиса. – Смотрите. Амбал-интеллектуал. Редкая порода.
– Он не амбал, – парировала Света. – Это классический «спокойный самурай». Смотри, как он держит стакан. Уверенно, но без надменности.
– Пари? – Алиса сверкнула глазами, и в них зажегся азарт дикой кошки. – Он сейчас закажет второй виски. Кто из нас получит его от бармена первым, с фразой «от того джентльмена», тот и забирает трофей. И проверит на практике его навыки осознанности.
Я покачала головой, улыбаясь. Вот она, наша свобода. Не тихая и одинокая, а громкая, азартная, превращающая жизнь в игру. Но любая игра имеет правила, особенно когда дело касается мужчин. Психология мужчины у барной стойки (краткий ведьминский гид). Мужчина в баре, особенно тот, кто пришел один, – это не просто скопление мышц и гормонов. Это зашифрованное послание.
1. Одинокий волк или охотник? «Волк» пришел отдохнуть от шума, его взгляд направлен внутрь себя или на бокал. «Охотник» активно сканирует пространство, его поза открыта и демонстративна. Наш «самурай» был волком. Это сложнее, но ценнее.
2. Язык тела – его проповедь. Скрещенные руки – «не трогать». Телефон в руках – «я занят, не подходи». Расслабленная поза, прямой, но не навязчивый взгляд – «я в гармонии с пространством и не против его разделить». Он был из третьего типа.
3. Эго – его главный орган. Подойти и сказать: «Ты такой красивый, угости меня выпивкой» – смерть. Ты ставишь его в положение дойной коровы. Он должен чувствовать себя не кошельком с ногами, а победителем, который заслужил твое внимание.
Как правильно? Не вступать в спор ведьмочек. Обойти его. Я поймала взгляд бармена, старого друга, и едва заметный кивок. Поднялась, будто направляясь в дамскую комнату. Проходя мимо стойки, я как бы случайно зацепилась взглядом за его стакан.
– «Лафроайг», десятилетний? – сказала я мимоходом, не останавливаясь. – Смелый выбор. Для тех, кто не боится вкуса дегтя и морской воды.
И пошла дальше, чувствуя, как его взгляд проводил меня в спину. Я не просила. Я не заигрывала. Я продемонстрировала знание его личного кода. Я сделала ему комплимент, поставив его выбор в заслугу его смелости. Я задела его эго самым приятным образом.
Когда я вернулась, бармен как раз ставил перед ним второй «Лафроайг». Мужчина что-то сказал ему, кивнув в мою сторону. Бармен улыбнулся и направился к нашему столику. На столе передо мной появился тот самый стакан с золотисто-медным напитком.
– От того джентльмена, – сказал бармен. – И просил передать: «Только телом не утонуть. Некоторые ароматы требуют глубины».
Алиса ахнула. Света уважительно подняла бровь. Я взяла бокал, подняла его в его сторону, нашла его глаза. В них не было наглости, не было охотничьего азарта. Было любопытство. Интеллектуальный вызов.
– Ну что ж, – я сделала маленький глоток, ощущая, как торфяной дым обволакивает сознание. – Кажется, сегодня свобода решила проявить ко мне немного милосердия. И прислать не мальчика, а мужчину.
У меня получилось. Не потому что я выиграла спор, а потому что я поняла правила. Игра только начиналась.
Света наклонилась ко мне, притворно поправляя прядь волос, и прошипела:
– Ты понимаешь, что он только что процитировал твое же собственное эссе о психологии вкуса? Тот отрывок про «ароматы, требующие глубины».
Алиса замерла с открытым ртом, глядя на меня, как на богиню. Я не подавала вида, но внутри все замерло. Мое эссе. Напечатанное в малотиражном философско-гастрономическом журнале, который никто не читал. Оно было моей тайной интеллектуальной гордостью, спрятанной под нейтральным псевдонимом. Он не просто ответил. Он провел контрразведку.
Я сделала еще один глоток «Лафроайга». Торфяной дым теперь горел иначе – в нем чувствовалась острая опасность. Это был не просто мужчина, ищущий легкий флирт. Это был стратег.
– Девушки, – сказала я спокойно, – извините, мне нужно кое-что проверить.
Я поднялась и направилась к стойке, но не к нему. Я остановилась у дальнего конца, где висела старая, покрытая пылью бутылка «Брендалви», виски, которое не подают уже лет десять. Я поймала взгляд бармена.
– Лео, – сказала я тихо, – передай тому джентльмену. Спроси, не из тех ли он, кто помнит, как «Брендалви» обжигало горло не спиртом, а чувством вины».
Это была вторая часть моего эссе. Зацепка, которую мог понять только тот, кто читал его до конца. Лео кивнул, его лицо было невозмутимым, но в глазах плескалось веселье. Он подошел к мужчине, наклонился, передал мои слова. Я видела, как спина мужчины выпрямилась. Он не обернулся. Он поднял свой стакан, посмотрел на остатки золотистой жидкости, затем резко опустошил его. Поставил стакан на стойку. Кивнул Лео.
И тогда он повернулся на барном стуле. Его взгляд был прямым, открытым. В нем больше не было игры. Было уважение. Он достал из внутреннего кармана пиджака не визитку, а сложенный лист бумаги. Старую, пожелтевшую страницу, вырванную из журнала. Мое эссе. Он подошел ко мне. Не походкой охотника, а походкой равного.
– Я ждал три года, – сказал он просто. – С тех пор как прочитал это. Чтобы встретить того, кто это написал. Я даже не был уверен, что автор – женщина.
Он протянул мне страницу. На полях были пометки. Умные, точные, дополняющие мои мысли.
– Зачем? – спросила я, чувствуя, как земля уходит из-под ног.
– Потому что игра, о которой вы написали, – сказал он, – она не про соблазн. Она про поиск равного. И я думаю, я только что выиграл свой джекпот. Или проиграл. Я еще не решил.
Я взяла страницу. Наши пальцы едва соприкоснулись, но по спине пробежал электрический разряд.
– Возможно, – сказала я, глядя ему прямо в глаза, – джекпот только что сорвали мы оба.
Он улыбнулся. И в этой улыбке не было ни капли победы. Было только понимание.
– В таком случае, – он отступил на шаг, жестом приглашая меня вернуться к моему столику, – может, дадим игре продолжиться? Завтра. За ужином. Без публики. И без правил.
– Только с умными оппонентами, – парировала я.
– Естественно, – он кивнул. – Это единственное неизменное правило.
Я вернулась к подругам, держа в руке пожелтевшую страницу. Света и Алиса смотрели на меня, затаив дыхание.
– Ну? – выдохнула Алиса.
Я посмотрела на стойку. Он расплачивался с Лео, его профиль был освещен мягким светом лампы.
– Кажется, – сказала я, ощущая странный, новый покой, – сегодня свобода проявила милосердие не ко мне. Она просто свела двух людей, которые слишком долго играли в одиночку.
Он вышел из бара, не обернувшись. Но его уход был не бегством, а паузой, многообещающим молчанием между двумя частями одного сложного предложения.
За ужином на следующий вечер не было никаких игр. Была только правда. Ресторан был маленьким, затерянным в переулке, и стол стоял в нише, где свет одной свечи отбрасывал танцующие тени на его лицо. Мы говорили о философии, о виски, о музыке, но каждый обмен репликой был скрытым прикосновением, каждое совпадение мнений – разжиганием костра, тлевшего между нами.
– Ты писала, что аромат старого «Брендалви» – это «обжигающее чувство вины за непрожитые возможности», – сказал он, медленно вращая бокал. Его палец оставлял на стекле влажный след. – Я всегда чувствовал то же самое, но не находил слов. Ты дала голос моим ощущениям. Это сродни разоблачению.
– Опасно, – прошептала я, чувствуя, как нагревается кожа на декольте, – доверять кому-то ключи от собственных тайных комнат.
– Опасно, – согласился он, и его взгляд скользнул по моим губам. – Но только так можно найти сокровище.
Он оплатил счет, и его рука легла на мою спину, когда мы выходили. Простое прикосновение сквозь тонкую ткань платья вызвало волну жара, столь же торфяного и дымного, как вчерашний «Лафройг». Мы шли по ночному городу, и расстояние между нами сокращалось с каждым шагом, пока наши плечи не стали соприкасаться, а затем и пальцы – сперва случайно, а потом уже намеренно цепляясь друг за друга.