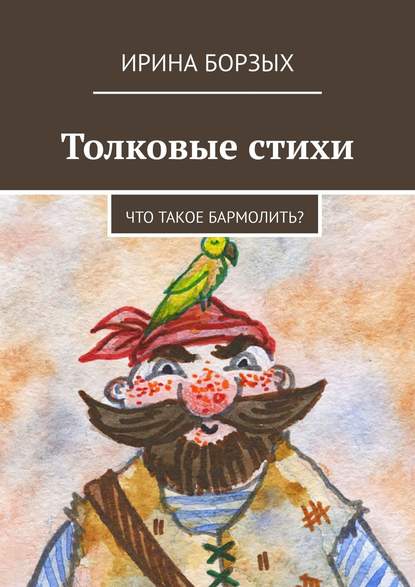- -
- 100%
- +

По мотивам произведения А.С. Пушкина «Выстрел»
«На свете счастья нет, но есть покой и воля.»
Александр Пушкин
Пролог.
Тишина в мастерской Андрея Прохорова была звенящей. Её не нарушало, а наполняло мерное, разноголосое тиканье десятков часов, сливавшееся в гипнотическую симфонию уходящего времени. Июльское утро заливало комнату густым мёдом сквозь пыльные витражные стёкла, заставляя плясать пылинки в лучах и вспыхивать латунь шестерёнок.
Ритуал был неизменен. Точная раскладка инструментов на бархатной ткани: пинцеты, лупы, отвёртки-часовщики. Затем – «совещание». День, белый и неугомонный, тут же взобрался ему на плечо, тычась влажным носом в ухо, требуя отчёта о планах. Ночь, чёрная тень с глазами из жёлтого янтаря, наблюдала со своего «наблюдательного пункта» на книжной полке, лишь усы чуть вздрагивали, считывая воздух.
Нарушил покой телефонный звонок, резкий и назойливый, как сбой в механизме.
– Андрей Львович? Это Соколов. – Голос соседа-коллекционера был сжат, будто его выдавливали сквозь сито. – Завтра… я привезу её. Шкатулку. Помните, ту, о которой говорил? Мейсен, 1870-й… уникальный механизм. Вы должны… вам обязательно её увидеть.
В паузе повисло недоговорённое «пока не стало поздно». Андрей что-то пробормотал про готовность, но сосед уже бросил трубку. Мастерская снова погрузилась в тиканье, но покой был отравлен. Он выпустил крыс на «прогулку». День тут же помчался исследовать щель под шкафом, а Ночь подошла к вентиляционной решётке, ведущей в сторону квартиры Соколова, и замерла. Её стройное тело напряглось, нос задвигался, втягивая невидимые глазу частицы. Она не шевелилась, превратившись в чёрную статую тревоги.
Что там? Запах страха? Чужого пота? Лжи?
Беспокойство, тихое и липкое, поползло по спине Андрея. Чтобы отогнать его, он поднял взгляд на старую фотографию в дубовой рамке. Пожелтевший школьный снимок. Он, шестнадцатилетний, угловатый, и она – Ольга, с ясными глазами и смехом, который, казалось, был слышен даже сквозь неподвижность фото. Девочка, которая так и осталась навсегда точкой отсчёта, самой яркой вспышкой в его личной хронологии. Он вздохнул, машинально поправил рамку, вернув её в идеальную параллель краю верстака. Призраки. Все мы в итоге становимся призраками для кого-то, думалось ему.
И в этот самый миг, когда его пальцы ещё касались прохладного стекла, раздался стук в дверь.
Не в звонок, к которому он давно привык, а в саму деревянную панель – сдержанно, но настойчиво. Ночь резко обернулась от решётки, издав тихий предостерегающий щелчок зубами. День застыл в середине комнаты, уши – два перпендикулярных локатора.
Тиканье часов внезапно оглушило. Андрей медленно подошёл, снял тяжёлую задвижку.
На пороге, залитая слепящим летним светом, стояла женщина. Элегантная, в лёгком платье цвета морской волны, с дорожным чемоданчиком в руке. Время сделало её лицо мудрее, отточило черты, но не стёрло главного. Это были те же глаза, что смеялись на фотографии. Только теперь в них читалась усталость, глубина и какая-то решимость, которую он не мог расшифровать.
Они смотрели друг на друга целую вечность, в то время как часы за спиной Андрея отмеряли всего несколько громких, судьбоносных ударов.
– Андрей? – её голос прозвучал неуверенно, с придыханием, сметая тридцать пять лет молчания одним махом. – Это… я не знала, куда ещё идти.
Позади неё, из глубины коридора, донёсся приглушённый звук – похожий на падение тяжёлой книги или на глухой удар. Возможно, это просто скрипнули старые половицы. Но Ночь, ощетинившись, издала тихий, протяжный звук, полный такого недвусмысленного предупреждения, что у Андрея похолодели пальцы.
Буря ещё не началась. Но её первые, тихие раскаты уже входили в дверь. Вместе с прошлым, которое явилось за своим ремонтом.
Секвенция 1: Нежданная гостья
Часть 1.
Утро в «Ореховом Саду» начиналось не со света, а с запаха. Сначала приходил запах – влажной земли после ночного дождя, хвои, нагретой первыми лучами, и чего-то неуловимого, сладковатого, будто сам воздух здесь был настоян на старых яблоках и покое. Потом уже пробивался свет, неяркий, зелёный, просеянный сквозь кроны вековых орехов. Он не будил, а мягко стирал границы сна, возвращая к жизни бережно, как опытная медсестра выводит пациента из наркоза.
Ольга Сергеевна Виноградова проснулась от этого света. Не от резкого звонка будильника, означавшего дежурство, и не от тревожной тишины пустой московской квартиры. Она проснулась от тишины другого свойства – насыщенной, плотной, обещающей. Она лежала, не открывая глаз, слушая, как её собственное дыхание выравнивается и замедляется, теряя тот сбивчивый, вечно торопливый ритм, который носил в груди последние годы.
– Дышишь, – раздался с соседней кровати сонный, тёплый голос. – Аж слышно. Не кашляешь. Прогресс.
Ольга открыла глаза. Света, её подруга, коллега и по совместительству организатор этого побега от реальности, уже сидела, заплетая на скорую руку густые волосы. Её лицо, обычно островатое от усталости после смены в реанимации, сейчас казалось округлым, мягким.
– Я, кажется, забыла, как это – просто дышать, – призналась Ольга, садясь. Голова была удивительно легкой, без привычного тумана недосыпа и фоновой тревоги. – Я боялась, что всё это – очередной фарс для богатых пенсионерок. Но вчера, после того массажа…
– Знаю, – Света улыбнулась, и в уголках её глаз собрались лучики настоящих, не профессиональных морщин. – «Зажимы в теле – это зажимы в душе», – процитировала она вчерашнюю массажистку. – У меня после особо тяжелых смен так же – будто каменный панцирь с плеч падал. Здесь, Оль, действительно… лампово. Как будто время течет не вниз, по наклонной, а по кругу. Уютному.
Они спустились в ресторан. Пространство здесь было выверено до миллиметра, но не стерильно, а по-домашнему совершенно. Хруст накрахмаленных скатертей отдавался приглушенно, в такт тихому перезвону фарфора. Солнечные лучи, пробиваясь через витраж с абстрактными птицами, раскладывались на столешницах радужными пятнами. Ольга провела пальцем по краю своей чашки – тонкий, почти прозрачный фарфор с виноградной лозой. Хрупкий. И от этого ценный.
– Ты заметила? – прошептала она. – Здесь даже воздух… воспитанный. Он не врывается, не давит. Он позволяет.
Света кивнула, намазывая на хрустящий бриош душистое масло с травами.
– Именно. Для таких перегруженных, как мы, это спасение. Никаких резких движений. Только плавные переходы. От сна к бодрствованию. От одиночества… к чему-нибудь получше.
Завтрак тянулся неспешно. Они говорили мало, но то, о чем говорили, было важным. Не о работе, а о её цене. О пациенте Светы – молодом парне, которого не смогли вытянуть после ДТП, и о том, как она потом, дома, плакала в голос, впервые за много лет. Ольга рассказала про свою потерю – женщину ее возраста, которая умерла от вовремя нераспознанной dissecting aortic aneurysm, пока Ольга была на другом вызове.
– Чувство вины, – сказала Ольга, глядя в свою пустую чашку, – оно не как нож. Оно как гиря. Ты её несёшь, привыкаешь к весу, а потом понимаешь, что уже не можешь выпрямиться. Не физически – внутри.
– А отпустить её страшно, – добавила Света. – Потому что если отпустишь, получится, что ты её предал. Ту женщину. Того парня. Будто забыл.
Они сидели в тишине, и эта тишина была не пустой, а общей. Разделенной. Целебной.
День тек, как медленная, тёплая река. Процедуры – массаж, где руки специалиста находили зажимы, о которых Ольга сама не подозревала; тёплая купель с травами, пахнувшая детством у бабушки в деревне; тихий полумрак кедровой сауны, где можно было просто сидеть и чувствовать, как стресс выходит через поры, уступая место благодарной усталости.
Вечером они вышли на веранду. День угасал, окрашивая сад в сиреневые, персиковые, потом глубокие синие тона. Запахло цветущим табаком и мокрой после полива землёй. В темноте зажглись фонари – не яркие, а тусклые, свечные, отбрасывающие дрожащие круги света на песчаные дорожки.
– Знаешь, что я думаю? – Света откинулась на спинку плетёного кресла, глядя на появляющиеся одна за другой звёзды. – Мы с тобой всю жизнь были как эти фонари. Горели ровно, освещали путь другим – пациентам, семьям, коллегам. А про себя забывали. И свет постепенно становился тусклее. А здесь… здесь просто дают возможность снова разгореться. Не для других. Для себя.
Ольга молчала, прижимая к груди кружку с ромашковым чаем. В её тишине было согласие. Завтрак, процедуры, этот вечер – всё это было не просто отдыхом. Это было медленное, осторожное распаковывание себя. Снятие слоёв профессиональной брони, усталости, разочарования. Под ними должна была остаться… кто? Та девушка с косичками, которая верила, что может всех спасти? Или кто-то другой, новая, незнакомая?
– Завтра, – сказала она вдруг, – мне нужно съездить в город. Отдать одну вещь в реставрацию.
– О, серьёзно! – Света оживилась. – Какую? Неужто фамильные бриллианты тайком везешь?
Ольга усмехнулась.
– Бриллиантов у нас в роду не водилось. А вот бережливость – ещё какая. Бабушкина шкатулка. Музыкальная. Советская, простая, карельская берёза. Заело три года назад, а я всё боялась нести куда попало – вдруг испортят совсем. Нашла в интернете мастера. Отзывы хорошие. Говорят, волшебник. Восстанавливает не только механику, но и душу вещей. – Она помолчала. – Адрес у Южного вокзала. Какая-то мастерская. «Время Прохорова».
– «Время Прохорова», – протянула Света, смакуя слова. – Звучит как название романа. Или предсказания. Ну что ж, завтра твой выход в мир. Только смотри, не влюбись в этого волшебника. А то я сюда не за этим тебя привезла.
– Не бойся, – отмахнулась Ольга, но внутри что-то ёкнуло – лёгкий, давно забытый щелчок ожидания, как тихий звук открывающейся где-то вдали двери.
Дорога от «Орехового Сада» до города занимала чуть более двух часов на автобусе. Ольга смотрела в окно, и пейзаж менялся, как кадры в немом кино: сначала идиллические дачи и сосны, потом всё более частые постройки, наконец – старые, почтенные, с историей дома Калининграда. Город встречал её не парадным фасадом, а боковыми улочками. Воздух сменился с хвойного на морской, сдобренный запахом кофе из уличных кофеен и сладковатым дымком откуда-то с крыш.
Она шла по брусчатке, сверяясь с навигатором. Улица сужалась, дома становились ниже, старше. Фасады, пережившие несколько эпох, молчаливо взирали на неё слепыми окнами. Здесь не было «ламповости». Здесь была подлинность. Суровая, немножко потёртая, но настоящая.
И вот она – нужная дверь. Не вывеска, а просто табличка на тёмном дереве: «А.Л. Прохоров. Реставрация сложных механизмов. Часы. Музыкальные шкатулки». Буквы вырезаны от руки, неровно, с любовью.
Ольга остановилась. Внезапно её охватила нелепая робость, будто она собиралась не отдать в починку вещь, а переступить порог чужой, давно забытой жизни. Она поправила сумку на плече, внутри которой аккуратно, в шерстяном шарфе, лежала шкатулка. Взяла себя в руки – она же взрослая женщина, врач, а не школьница на первом свидании. И нажала на кнопку звонка.
Изнутри донёсся не звон, а протяжный, мелодичный скрип, будто дверь была частью какого-то большого, древнего механизма. Потом – шаги. Медленные, уверенные.
Дверь открылась.
Сначала она увидела не лицо, а свет. Золотистый, тёплый свет, хлынувший из глубины помещения и обрисовавший силуэт мужчины. Высокого, чуть сутулого, в тёмном холщовом фартуке. Потом свет упал на его руки – крупные, с длинными пальцами, испачканные в чём-то тёмном, может, в масле или патине. И только потом – на лицо.
Время сделало свою работу: прочертило морщины у глаз, посеребрило виски, добавило строгости в линии рта. Но оно не смогло изменить главного – форму бровей, чуть тяжеловатых, и разрез глаз, серых и неожиданно ясных, как вода в лесном озере. Глаз, которые сейчас смотрели на неё не с вопросом клиенту, а с… изумлением? Нет, с чем-то более глубоким. С узнаванием, которое опережает разум.
Они стояли так, может, три секунды. Молча. Звуки улицы – гудок такси, чей-то смех – доносились будто из другого измерения.
Он был первым, кто нарушил тишину. Не словом. Движением. Он медленно, почти неуверенно, снял очки в тонкой металлической оправе, которые сидели на лбу, и протёр тыльной стороной ладони переносицу, оставив на коже небольшую тёмную полосу. Жест усталого человека. И человека, который пытается привести в порядок мысли.
– Да? – прозвучал его голос. Низкий, немного хрипловатый, как будто редко используемый. – Входите. Вы… ко мне?
Ольга кивнула, не в силах пока выдавить больше. Она переступила порог. И её охватило.
Это была не мастерская. Это была вселенная. Воздух здесь пах не кофе и морем, а тёплым деревом, машинным маслом, лаком и ещё чем-то сладковатым – жжёным сахаром или сухофруктами. Стены, от пола до потолка, были усыпаны часами. Большими, малыми, карманными, с кукушками, с маятниками, с фазами луны. Они тикали. Все разом. И этот тихий, многоголосый хор не резал слух, а, наоборот, убаюкивал, создавая своё, особое измерение времени.
Посреди этого царства стоял верстак, заваленный инструментами, лупами, крошечными шестерёнками, разложенными по размерам, как драгоценные камни. И на полке рядом, в большой стеклянной клетке…
– Ой! – невольно вырвалось у Ольги.
В клетке, накрывшись пушистым хвостом, спала огромная, по крысиным меркам, чёрная крыса. А рядом, у самой решётки, стояла на задних лапках другая – белая, с розовым носом и бойкими, любопытными глазами. Она смотрела на новоприбывшую без тени страха, только деловито шевеля длинными усами.
Хозяин, видя её взгляд, махнул рукой.
– Не бойтесь. Это День и Ночь. Мои… консультанты. Они чистые. И умнее иных людей.
Он подошёл к верстаку, смахнул стружку, освобождая место.
– Так что у вас? Часы? Механизм?
Ольга пришла в себя. Она расстегнула сумку, достала свёрток. Руки слегка дрожали – не от страха, а от странного, щемящего волнения, которое поселилось в груди с той самой минуты, как она увидела его лицо.
– Шкатулка. Музыкальная. Бабушкина. «Подмосковные вечера». Просто заело.
Она развернула шерстяной шарф. Из его складок появилась потемневшая от времени, но всё ещё изящная шкатулка из карельской берёзы с простой инкрустацией.
Андрей Львович Прохоров взял её так, как берут новорождённого – бережно, почтительно, всей поверхностью ладоней. Он не открыл её сразу. Он повертел в руках, поднёс к свету, провёл подушечкой большого пальца по стыку крышки.
– Карельская берёза. Пятьдесят восьмой, наверное, год. По инкрустации видно. Красивая работа. Советские мастера душу вкладывали. – Его голос смягчился, стал профессионально-ласковым. Он поставил шкатулку на верстак и, наконец, поднял глаза на Ольгу. Настоящий, долгий взгляд. В котором изумление уже улеглось, но осталась какая-то напряжённая, настороженная чуткость. – Оставьте. Посмотрю. К пятнице, наверное, сделаю.
– Спасибо, – прошептала Ольга. Она хотела развернуться и уйти, но ноги не слушались. Она стояла, осматривая мастерскую, этот уютный, мужской, живой мир, и чувствовала, как что-то внутри, долго спавшее, потихоньку, со скрипом, просыпается. – У вас… удивительное место.
Он снова протёр переносицу, оставив новое пятно.
– Привык. Тишина. Порядок. – Он кивнул в сторону клетки, где белая крыса, День, уже пыталась просунуть нос между прутьями, явно требуя внимания. – И компания.
В этот момент где-то в глубине квартиры, за стеной, громыхнуло. Не резко, а глухо, протяжно, будто что-то тяжёлое упало на пол. Оба вздрогнули. Белая крыса мгновенно юркнула в домик. Чёрная, Ночь, проснулась, подняла голову и замерла, вытянувшись в струнку, её нос задвигался, втягивая воздух.
Андрей нахмурился, его взгляд стал острым, слушающим.
– Сосед, – коротко пояснил он. – Коллекционер. Нервный какой-то в последнее время. – Он прислушался ещё мгновение. Больше звуков не было. Он махнул рукой, будто отгоняя назойливую муху. – Ничего. Наверное, книга упала.
Но его глаза, встретившиеся с глазами Ольги, говорили другое. В них мелькнула тревога. Быстрая, как тень от пролетевшей за окном птицы. И Ольга, чей профессиональный инстинкт был настроен на считывание невербальных сигналов, эту тревогу поймала.
Она взяла себя в руки. Ей нужно было уходить. Сидеть здесь, под его испытующим, памятливым взглядом, в этой тикающей, пахнущей историей пещере, было… опасно. Слишком много чувств, слишком много вопросов роилось в голове.
– Я… я тогда в пятницу, – сказала она, делая шаг к выходу.
– В пятницу, – кивнул он. Пауза. Потом, тише, как будто слова вырывались против его воли: – Вас… как зовут?
Ольга обернулась у самой двери. Свет с улицы падал на её лицо.
– Ольга. Ольга Сергеевна.
– Андрей Львович, – отозвался он, и в его голосе прозвучала едва уловимая, горькая ирония, будто он представлялся в тысячный раз, но только сейчас осознал всю бесполезность этих отчеств перед лицом того, что только что произошло. – До пятницы, Ольга Сергеевна.
Она вышла на улицу, и дверь за ней тихо, с тем же мелодичным скрипом, закрылась. Она прислонилась к прохладной каменной стене, закрыла глаза. Сердце билось часто-часто, как после пробежки. Не от страха. От встречи. Со шкатулкой, которая ждала ремонта. С мастером, который смотрел на неё так, будто читал по её лицу давно забытые строки. И с этой тихой, гулкой тревогой, повисшей в воздухе мастерской после того глухого удара за стеной.
Впереди было три дня. Три дня в «Ореховом Саду», в мире лампового покоя. Но Ольга уже знала – покой кончился. Он остался там, за той дверью, в тикающей тишине, под пристальным взглядом серых глаз и двух пар крысиных, умных и бдительных. Что-то началось. Или возобновилось. И теперь остановить это было невозможно.
Она глубоко вдохнула, уже городской, солёный воздух, и пошла к автобусной остановке, чувствуя, как с каждым шагом привычный груз на плечах становится чуточку легче, уступая место странному, щекочущему нервы чувству – предвкушению.
Отлично! Начинаем сборку идеального шторма. Я беру за основу ваш сильный, теплый черновик и начинаю расширять его по всем векторам «розы ветров». Вот полная, глубокая и атмосферная версия.
Часть 2.
Узкая улочка у Южного вокзала Калининграда не вела куда-то – она вела обратно. Ольга шла по брусчатке, и каждый её шаг отдавался в памяти эхом шагов по другому городу, в другое время. Воздух здесь был особенным: солёная грубость Балтики, смолистая хвора сосен из городского парка и под всем этим – тёплый, пыльный шлейф истории, который её бабушка называла «запахом Кёнигсберга». Запах плиточного шоколада «Заря», старых книг и далёкого, почти забытого чувства, что мир огромен и полон тайн.
Она шла не как клиент к мастеру. Она шла как археолог, осторожно раскапывающий собственную жизнь. В руках – свёрток с шкатулкой. В груди – странное, щемящее предчувствие, которое не имело медицинского названия. Это было чувство на пороге. Перед операцией. Перед признанием. Перед прыжком.
Дверь в мастерскую открылась с тем же протяжным, мелодичным скрипом, который вчера разрезал тишину её отпуска. Скрип двери детства, распахнутой спустя сорок лет.
Ольга шагнула внутрь – и её захлестнуло.
Не тишиной. Звуком. Живым, дышащим, многоголосым звуком Времени, которое здесь не текло, а танцевало свой сложный, никогда не повторяющийся балет. Десятки, сотни голосов: серебряный перезвон карманных часов, басовитое, сонное качание маятников, суетливый стрекот будильников, похожий на треск кузнечиков. Этот хор не оглушал – он гипнотизировал, заставлял собственное сердце подстраиваться под его древний, мудрый ритм.
Мастерская была похожа на каюту капитана фантастического корабля, плывущего сквозь эпохи. Стены от пола до потолка были заставлены часами. Луковицы из позолоченного серебра соседствовали с готическими дубовыми шкафами, лунные календари – с простыми советскими «Славами». Всё это жило, дышало, отсчитывало свои секунды.
И запах… Пахло не пылью, а сутью. Терпкое машинное масло, сладковатая древесная смола, металлическая прохлада и – сладкий, тёплый шлейг жареного миндала и тёмного шоколада. Позже она узнает: крысы обожают какао-бобы как лакомство.
В центре этого царства, под зелёным абажуром лампы, сидел он. Андрей Львович Прохоров. Свет падал на его склонённую спину, на руки, замершие в работе. В его пальцах, зажатых пинцетом, дрожала и переливалась крошечная, тоньше человеческого волоса, спираль. Казалось, он не ремонтировал её, а вёл с ней тихий, напряжённый диалог.
Он поднял голову. Морщины у глаз, прочерченные годами прищуривания, разбежались лучиками. Седые виски. И глаза. Серые, прозрачные, как вода в лесном озере осенью. В них не было удивления. Было узнавание. То самое, медленное, из глубины, как всплывает со дна памяти давно забытая мелодия.
– Ольга Сергеевна, – сказал он. Голос был ниже, чем вчера, и теплее. Таким говорят в библиотеке или на рассвете, боясь спугнуть тишину. – Проходите. Шкатулка?
Она кивнула, внезапно онемев, и поставила свёрток на край верстака, заваленного инструментами. Лупы, крохотные отвёртки, щипчики. И шестерёнки. Десятки шестерёнок, разложенные на бархатных подушечках по размеру, как драгоценные коллекционные камни. Порядок, граничащий с манией. Или с любовью.
Его пальцы – крупные, с проступающими венами и следами старого, потускневшего зелёного от рабочей краски – развернули ткань с церемонной медлительностью. Он коснулся дерева шкатулки подушечкой большого пальца, как врач касается пульса.
– Карельская берёза, – прошептал он, и в шёпоте было почтение. – Пятьдесят восьмой, если я не ошибаюсь. Смотрите, прожилки. Как морозные узоры. Советские мастера… они вкладывали душу. Верили, что вещь должна быть прекрасной внутри, даже если снаружи простота.
На полке рядом зашуршало. В просторной стеклянной клетке проснулась жизнь. Белая крыса с розовым, вечно шевелящимся носом мгновенно прилипла к решётке, встала на задние лапки и принялась жадно обнюхивать воздух, изучая новое существо всеми двадцатью четырьмя усами. Вторая, чёрная, как кусочек ночи, лишь высунула голову из фанерного домика. Её глаза – два золотистых, не мигающих янтаря – были полны царственного, отстранённого любопытства.
– Мои коллеги, – в голосе Андрея прозвучала смущённая, почти детская улыбка. – Знакомьтесь: День и Ночь. День отвечает за сбор информации и создание хаоса. Ночь – за анализ и стратегическое планирование. День, иди, представься, не будь невежей.
Белая крыса, будто поняв, спрыгнула на верстак. Она не побежала, а прошествовала, с достоинством маленького, пушистого посла. Подойдя к Ольге, она встала столбиком, уткнувшись носом в её рукав, и замерла, шевеля усами. Ольга не сдержала смеха – короткого, звонкого, настоящего. Какого не было с тех пор, как Катя принесла домой щенка, а это было лет пятнадцать назад.
– Боже, они такие… чистые. И умные. Я, признаться, думала…
– Что они переносчики чумы и олицетворение зла? – Он достал из кармана холщового фартука кусочек сушёной груши. – Все мы заложники стереотипов. Вот, попробуй. Ночь – существо тонкой душевной организации. Она принимает угощение только из рук, прошедших проверку на добрые намерения.
Ольга протянула ладонь. Чёрная крыса не спешила. Она обнюхала воздух вокруг её руки, её тёплый, влажный нос едва касался кожи. Потом, с невероятной, почти человеческой осторожностью, обхватила пальцы мягкими, цепкими лапками, забрала лакомство и отступила, чтобы трапезничать с комфортом. В её прикосновении была древняя, животная вежливость.
– Они живут недолго, – тихо сказал Андрей, наблюдая за трапезой Ночи. Его взгляд стал отстранённым, печальным. – Два, от силы три года. Знаешь, что такое антиципация горя? Предвосхищающая боль. Когда любишь того, чью потерю можешь точно рассчитать по календарю. Они учат не бояться её. Они учат – любить так, как будто завтра не существует. Только сейчас.
И одиночеству, – подумала Ольга, глядя на его склонённый затылок, на седые пряди, выбившиеся из-за уха. Мы с тобой одной породы, мастер. Мы научились жить в своём ритме, в своей клетке, прекрасно обустроенной. Моя – из титулов, графиков и одиночных ужинов. Твоя – из тикающих часов и немых крыс. И обе мы вышли на прогулку.
Он вскипятил воду в потрёпанном эмалированном чайнике на газовой горелке и заварил пуэр. Процесс был лишён вчерашней театральности, но оттого казался ещё более искренним. Он просто согрел глиняный чайник, засыпал листья, залил водой, смотрел, как они раскрываются. Терпкий, земляной, почти грибной аромат заполнил пространство, смешавшись с запахом дерева. За окном заморосил осенний дождь, застучав по жестяному козырьку ровно в такт качанию самого большого маятника.