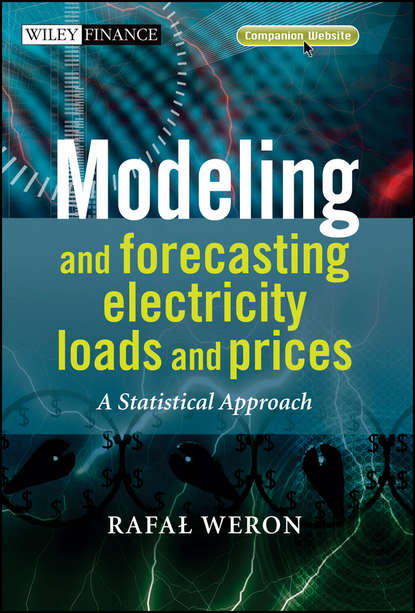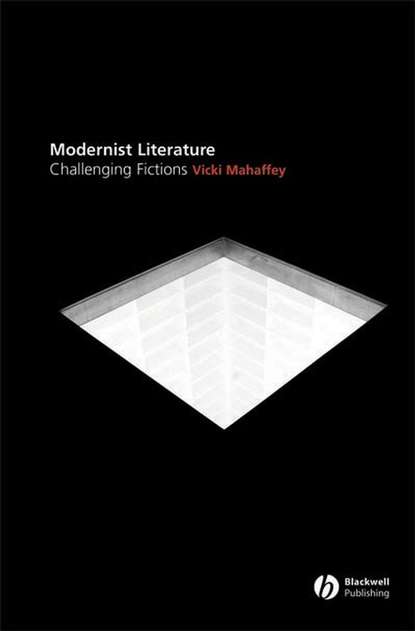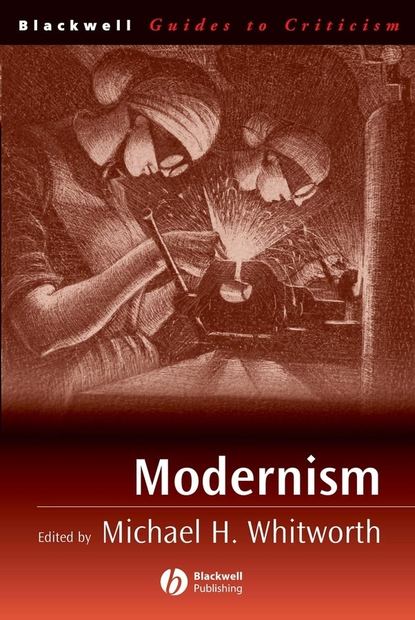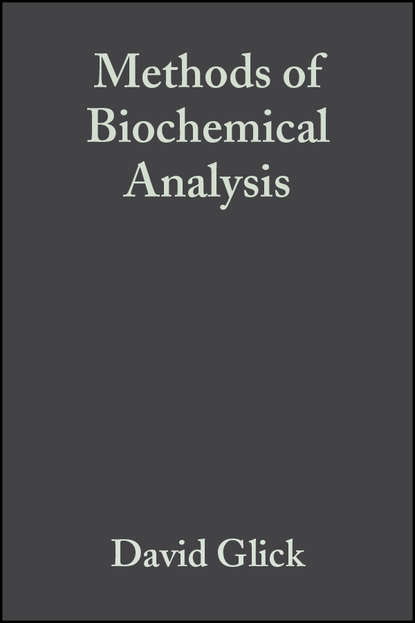- -
- 100%
- +
– Расскажи о себе, – попросил он, разливая тёмный, почти чёрный настой по простым белым чашкам. – Кардиолог. Москва. Значит, спасаешь моторы жизни. А свой… он как?
– Мой мотор работает, – ответила она, прижимая чашку к ладоням, ловя тепло. – Но он устал качать кровь в пустоту. Дочь, Катя, двадцать семь. Вышла замуж, строи́т свою жизнь. А я… пять лет назад развод. Муж-хирург нашёл себе сердце попроще для ежедневной эксплуатации. Медсестру. Банально, как диагноз «гипертония» у пациента за шестьдесят.
Андрей кивнул. В этом кивке не было ни капли жалости. Было понимание коллеги, который видел аналогичный случай в своей практике.
– У меня тоже был… эпизод. В тридцать. Три месяца. Мы были как две шестерёнки из разных механизмов. В статике – красиво. В движении – ломали друг друга. С тех пор – тишина. Часы чинить умею. Людей… – он сделал глоток чая, – …боюсь. Боюсь не рассчитать нагрузку. Сорвать резьбу в чужой душе.
Пауза повисла в воздухе, насыщенная тиканьем, запахом чая и шепотом дождя. День, насытившись впечатлениями, свернулся тёплым клубочком у его стоп. Ночь, закончив трапезу, уселась на полку, и её золотой, немигающий взгляд был прикован к ним обоим.
– Помнишь выпускной? Две тысячи восьмого? – спросил он вдруг, глядя не на неё, а на пар, поднимающийся из чашки. – Ты была в синем платье. В мелкий белый горошек. Мы танцевали под какую-то старую лиричную песню. Ты сказала, что, может, махнёшь в Рязань, к тёте, поработать в сельской больнице… У тебя тогда такие глаза были… полные какой-то отчаянной веры, что всё получится.
Ольга замерла. В горле встал плотный, горячий ком. Он помнил. Не просто факт встречи. Он помнил узор на платье. Слова. Тончайшие детали, которые стёрло даже её собственное время. Сорок лет.
– Помню, – выдавила она. – Думала, если останусь… Но потом Серёжа, институт, беременность, карьера. Жизнь, которая не была ошибкой. Она была просто… другим маршрутом. Более безопасным.
– А я уехал сюда, – он обвёл рукой мастерскую. – Мастерская. Крысы. Покой. – Он произнёс последнее слово с такой горькой интонацией, что оно прозвучало как приговор. – Думал, нашёл гавань. Где все механизмы предсказуемы, а единственное непредсказуемое существо – это я сам.
И в эту секунду из-за стены, из квартиры Соколова, донеслось.
Не грохот. Скрип. Долгий, мучительный, будто тяжёлую мебель с силой передвигали по некрашеному полу. Потом – приглушённый удар. И снова тишина. Но теперь это была тишина другого качества – натянутая, зловещая, как струна перед тем, как лопнуть.
Ночь мгновенно насторожилась. Все её тело вытянулось в струнку, уши повернулись, словно локаторы, в сторону вентиляционной решётки. День проснулся, вскочил и замер, шерсть на загривке едва заметно взъерошившись.
Андрей встретился с Ольгой взглядом. В его серых глазах мелькнуло не вчерашнее изумление, а холодная, отточенная тревога. Та самая, что бывает у механика, услышавшего посторонний стук в отлаженном двигателе.
– Покой, – тихо повторил он, и слово рассыпалось в воздухе, как пыль. Он встал, подошёл к стене, приложил к ней ладонь, словно пытаясь прощупать пульс за бетоном. – Аркадий Петрович последние дни… он не выходил. Говорил по телефону отрывисто. Будто боялся, что его услышат. Просил быть осторожным с его шкатулкой. Говорил, в ней «карта».
Он обернулся к ней.
– Вчерашний грохот… это была не мебель. Это была борьба. Я почти уверен.
– Шкатулку вашу я сделаю к пятнице, – сказал он уже другим, деловым тоном, отходя от стены. Но в его глазах оставалась тревога. – Приходите. Послушаем, как она запоёт. Если, конечно, – он бросил взгляд на стену, – …если к тому времени наши соседские декорации не потребуют смены декораций.
Он не просил о помощи. Он констатировал факт их странного, случайного союза перед лицом этой тихой катастрофы за стеной. Ольга кивнула. Врач в ней уже анализировал симптомы: изоляция, страх, звуки борьбы, внезапная тишина. Прогноз был неутешительным.
День, словно почуяв, что гостья уходит, проворно подбежал и проводил её до самой двери, встав на задние лапки у порога, как маленький, белый и очень серьёзный часовой.
Дорога обратно в «Ореховый Сад» заняла у неё почти час. Она шла пешком, бездумно сворачивая в переулки, не замечая дождя. Мир вокруг казался плоским, бутафорским после той насыщенной, густой реальности мастерской. Витрины с дорогой одеждой, парочки в уличных кафе, смех – всё это было как картинка под стеклом. Её мир теперь пах машинным маслом и тревогой, а его сердцевиной было тиканье – и тишина после скрипа за стеной.
Света ждала её на веранде, но на столе стоял не бокал вина, а две кружки с ромашковым чаем.
– Ну? – спросила подруга, всматриваясь в её лицо. – Отдала? Мастер не оказался маньяком-крысоводом?
– Свет, – Ольга опустилась в кресло, чувствуя, как по всему телу разливается усталость от пережитого напряжения. – Это Андрей. Прохоров. Из нашей школы.
Светлана замерла. Её живое, подвижное лицо стало маской изумления.
– Тот самый, который на выпускном смотрел на тебя, как лунатик, и не мог связать двух слов? Который потом исчез, и ты полгода ходила, как в воду опущенная? Этот?!
– Он самый. У него две крысы и вселенская тоска в глазах. И мастерская, где время живёт своей жизнью. И он… – голос её дрогнул, – он помнит то платье. В горошек.
– Ольга Виноградова, – Света произнесла её имя с торжественной медлительностью. – Это не случайность. Это – судьба стучится в дверь. Любовь со второго взгляда, детка! И судя по твоему лицу, стучится она не только в твоё сердце, но и в дверь соседа с криками «открой, полиция!». Что там, у него?
Ольга рассказала. Про скрип, про слова Андрея, про «карту» в шкатулке. Света слушала, не перебивая, и её взгляд из весёлого стал острым, профессиональным.
– Знаешь что? – сказала она наконец. – Всю жизнь ты выбирала безопасность. Порядок. Предсказуемость. А сейчас тебе подсовывают билет в самый непредсказуемый детектив с крысами и загадкой. И я вижу по тебе – тебе это нравится. Ты жива. Впервые за долгие годы.
– Это страшно, – призналась Ольга.
– А жить в красивой, мёртвой клетке – не страшно? – мягко парировала Света.
Лёжа ночью под кашемировым пледом, Ольга не слушала дождь. Она слушала тишину внутри себя. И понимала, что это не тишина. Это была пауза. Та самая, о которой говорил Андрей – тишина между выстрелами. А выстрел, первый, уже прозвучал. Он прозвучал в ту секунду, когда её школьная шкатулка легла на его верстак рядом с инструментами для починки чужих судеб.
И пока она засыпала, в мастерской у Южного вокзала горел свет. Андрей не спал. Он гладил Ночь, сидевшую у него на коленях неподвижной, тёплой статуэткой, и смотрел в темноту, где десятки циферблатов светились бледно-зелёными, как у светлячков, точками. На верстаке перед ним лежали два предмета: шкатулка Ольги и блокнот с закладкой на чистой странице.
– Не упущу снова, – шептал он тьме, и это была не молитва, а клятва. – Даже если за этой стеной тикает мину. Даже если страшно.
Он открыл блокнот, взял карандаш с идеально заточенным грифелем и вывел твёрдым почерком:
«День первый после Возвращения. Предмет А: шкатулка (карельская берёза, 1958, требуется замена оси малого барабана). Предмет Б: сосед (исчез? молчит? требует проверки). Связь: вероятна. Действие: утром – стук в дверь №2. Цель: установить причинно-следственную связь между тишиной и исчезновением. И… не спугнуть Прошлое, которое наконец-то обрело черты лица».
Он закрыл блокнот, погасил настольную лампу. В полной темноте часы заговорили громче. Они тикали, отсчитывая время до утра. До пятницы. До новой встречи. И до той правды, что ждала за соседской дверью, молчаливая и тяжёлая, как неразобранный часовой механизм, хранящий секрет своей остановки.
Часть 3.
Утро в «Ореховом Саде» началось не с золотистого тумана, а с молчаливого пиршества света. Солнце, пробиваясь сквозь кроны вековых орехов, раскладывало на паркете номеров движущиеся узоры – словно гигантские солнечные часы, отмеряющие время покоя. Ольга проснулась не от пения птиц, а от тишины, настолько полной, что в ней отчётливо слышалось биение собственного сердца. Не тревожное, как в Москве, а ленивое, глубокое, как пульс спящего кита.
Аромат кофе из ресторана был не просто запахом – это был звук, обещающий начало. Ольга лежала, прислушиваясь к этому обещанию и к эху вчерашнего дня, которое отдавалось в теле тёплой, сладковатой усталостью, как после долгой прогулки на морозе.
– Оля, вставай! – Света парила у зеркала, её голос звенел, как хрустальная подвеска. – Сегодня осмотр шкатулки! Ты вчера заснула с улыбкой – это не прогресс. Это прорыв обороны!
Ольга потянулась, и в суставах мягко хрустнуло – не старость, а освобождение. Воспоминания о мастерской были не картинками, а ощущениями: шершавость неглазурованного фарфора на кончиках пальцев, тёплый вес крысы на ладони, серая глубина глаз Андрея, в которых она, кажется, впервые за много лет увидела своё отражение не как доктора или мать, а просто как женщину.
– Свет, а если… это не судьба? – задумчиво спросила она, глядя, как пылинки танцуют в солнечном столбе. – А просто редкая удача? Как найти правильный диагноз с первого взгляда. Слишком идеально, чтобы быть правдой.
Светлана повернулась, и в её глазах вспыхнул тот самый азарт охотника за счастьем, который делал её незаменимой в реанимации.
– Удача, судьба – какая разница? Главное – пациент жив и хочет жить. Иди к нему. А я пока в СПА – буду отращивать крылья из грязи и аромамасел!
Завтрак был ритуалом. Хруст круассана отдавался в висках чистым, маслянистым звуком. Фарфоровые чашки с тонким, почти невесомым узором звенели, соприкасаясь, создавая свою, чайную музыку. Это была не еда. Это была медитация на тему «здесь и сейчас». И где-то на периферии этого «сейчас» уже сидела тень – предчувствие, что сегодняшний день будет иным.
По дороге к автобусу позвонила Катя.
– Мам, ты там отдыхаешь? – голос дочери, обычно такой уверенный, сейчас был немного сплющенным, как дорожная сумка, из которой вынули самое важное и оставили только мягкие стенки беспокойства. – Не забудь про свадьбу. И… будь счастливой, ладно? Хотя бы на неделю.
– Стараюсь, солнышко, – улыбнулась Ольга, и улыбка эта была немного грустной, немного виноватой. Счастливой. В 55. Не поздно ли начинать считать пульс нового чувства?
Мастерская. Полдень
Дверь встретила её не скрипом, а глубоким, грудным вздохом старого дерева, впускающего желанного гостя. Андрей был погружён в работу так глубоко, что казался не человеком за верстаком, а продолжением самого механизма – его думающей, чувствующей частью.
Шкатулка лежала разобранной. Но это не было хаотичное вскрытие. Это была топографическая карта памяти, разложенная по косточкам. Под лупой лежала та самая пружина – не просто заржавевшая, а истощённая, с разрывом по самому тонкому месту, как сердечная мышца после тихого, необъявленного инфаркта.
– Смотри, – его голос был беззвучным шёпотом, каким говорят в библиотеке или операционной. – Она не сломалась от времени. Её перегрузили. Заставили играть слишком громко, слишком долго. Против её воли.
Пальцы мастера, вооружённые пинцетом, парили над пружиной, не касаясь, выстраивая в воздухе траекторию движения. Ольга затаила дыхание. Это была не реставрация. Это была реанимация. И в этот священный миг тишины, когда всё мастерское естество Андрея было сконцентрировано на кончике инструмента, зазвонил телефон.
Звонок был резким, визгливым, как сигнал тревоги. Андрей вздрогнул – не телом, а взглядом, будто его резко выдернули из глубины сна. Он снял трубку, и Ольга, стоя в двух шагах, увидела, как меняется свет в его глазах. Сначала – раздражение. Потом – внимание. И наконец – холодная, острая, как лезвие бритвы, настороженность.
– Аркадий Петрович? – его голос был ровным, но Ольга, годы учившаяся слышать за словами ритм паники, уловила в нём лёгкий, контролируемый испуг. – …Завтра? Шкатулка? Да, помню… Что? Голос ваш… Да. Да. Осторожнее. Понял.
Он повесил трубку, не прощаясь. Его пальцы, только что такие точные, сжались в кулак, потом медленно разжались. Он посмотрел на Ольгу, и в его взгляде было что-то новое – не личное, а профессиональное. Взгляд часовщика, услышавшего в тиканье соседнего механизма посторонний, угрожающий стук.
– Сосед. Коллекционер. – Андрей говорил, глядя не на неё, а на вентиляционную решётку в стене. – Нервничает. Не так, как нервничают перед сделкой. Так, как нервничают, когда за тобой уже пришли, но дали отсрочку до завтра. Птичка механическая пропала из сейфа. Не украли. Изъяли.
И в этот момент Ольга заметила: Ночь, обычно такая флегматичная, стояла у той самой решётки, замершая в неестественной, натянутой позе. Её розовый нос не просто шевелился – он вибрировал, втягивая воздух короткими, отрывистыми рывками. А День, её беспечный брат, бесшумно метался по верхней полке, будто ища выход из ловушки.
– Твои консультанты… – начала Ольга.
– Чуют адреналин, – закончил Андрей, не отрывая взгляда от решётки. – Страх имеет запах. Кислый, резкий. Как уксусина. Они его ненавидят. Крысиный нюх. Не лучше собак. Честнее. Собаку можно научить лаять по команде. Крысу не научишь бояться понарошку.
Вечер. Шёпот за стеной, ставший криком
Вечерний суп в мастерской был густым, наваристым, пахнущим лавром, перцем и безотчётной безопасностью домашнего очага. Но эта безопасность была иллюзорной. Она висела в воздухе тонкой плёнкой, которую вот-вот могли прорвать.
И прорвали.
Сначала – приглушённый гул, похожий на отдалённый гром. Потом голоса. Не разговор. Столкновение.
– …деньги! Земля! – рычал один, низкий, перегруженный яростью. – Ты думал, спрячешься за своими игрушками?!
– Убери лапы! – голос Соколова, но не тот, что в трубке. Сломанный, старческий, но с остатками стальной струны внутри. – Здесь не тебе…
Хлопок. Не дверной. Короткий, сухой, как удар ладонью по столу. Или по лицу. Потом – тяжёлые, удаляющиеся шаги. И тишина. Не пустая. Насыщенная. Как воздух после взрыва.
В клетке началось немое кино ужаса. День забился в угол, дрожа всем телом. Ночь, не сходя с места у решётки, прижала уши к голове и зажмурилась – поза абсолютной, животной покорности перед неизбежным.
– Что-то не так, – сказал Андрей, и в его голосе не было вопроса. Был приговор. – Это не спор. Это приговор. И он уже приведён в исполнение.
Ольга, не думая, коснулась его руки. Не для утешения. Для контакта. Чтобы убедиться, что они оба здесь, по эту сторону стены, и что эта стена ещё защищает. Его кожа под её пальцами была прохладной, сухой, и она почувствовала, как под ней напряглись сухожилия, готовые к действию.
– Может, полиция? – её собственный голос показался ей слабым, детским.
– Нет, – он покачал головой, не отводя взгляда от стены. – Полиция приходит, когда есть тело. Сейчас есть только звук. И запах страха, который уже выветривается. Но крысы… крысы не врут. Они – свидетели. И молчат.
Утро. Открытая дверь в иной мир
На рассвете Андрей проснулся не от будильника. Его разбудила тишина. Не та, благословенная тишина мастерской, а гробовая, давящая тишина из-за стены. Часы Соколова, которые он слышал каждое утро, не пробили шесть. Их маятник остановился.
Он вышел в коридор. Дверь в квартиру №2 была приоткрыта ровно на ширину ладони – неестественно, как приглашение, которое страшно принять. Из щели пахло не кофе и старой бумагой. Пахло холодным паркетом, пылью и чем-то сладковато-металлическим, знакомым любому, кто хоть раз бывал в больнице.
Дальше было как в тумане. Соседи. Вызов полиции. Тело старика у подножия лестницы, лежащее в нелепой, почти балетной позе, как будто он споткнулся о собственную тень. Открытый, пустой сейф. Равнодушные лица людей в форме, ставящих галочку в графе «несчастный случай». Мир, который отказывался видеть зло, предпочитая ему нелепую случайность.
Андрей стоял в дверях, чувствуя, как холодная ярость, точная и острая, как его лучший резец, начинает собираться где-то в глубине груди. И тогда он сделал то, чего от него никто не ждал. Он тихо свистнул. И из-за его ноги, как тень, выскользнула Ночь.
Крыса, не обращая внимания на людей, деловито проскочила в комнату, к месту, где стояло кресло. Она обнюхала пол, ножку, замерла, подняв одну переднюю лапу – классический сигнал «стой!» у собак-ищеек. Потом аккуратно, как собиратель драгоценностей, взяла в зубы крошечный, почти невидимый обломок дерева с чёрными прожилками и принесла его к ногам Андрея.
– Ольга, – позвал он, и в его голосе не было паники. Была сталь. Она примчалась, ещё в пальто, с лицом, на котором читался тот же холодный, профессиональный ужас, что видел он в морге.
– Здесь следы, – прошептал он, показывая на едва заметные царапины на паркете у кресла. – Борьба. Его отталкивали. Не падение. А это… – он взял из её лапок обломок. – Карельская берёза. От шкатулки, которой нет.
Подошедший полицейский, молодой, с усталыми глазами, пожал плечами.
– Крысы? Серьёзно? Документы проверьте лучше.
Ольга, неожиданно для себя, рассмеялась. Сухим, ироничным смехом, который много раз спасал её в отделении, когда всё было совсем плохо.
– У них нюх лучше вашего протокола, молодой человек. Они чуют не просто преступление. Они чуют неправду. А это, поверьте мне, смертельный диагноз для любой версии.
Андрей посмотрел на неё. И в его взгляде, поверх ужаса и ярости, вспыхнула та самая искра – не романтическая, а стратегическая. Искра командира, увидевшего в толпе своего лейтенанта. Он кивнул, почти не заметно. Команда была принята.
Ночь в «Ореховом Саду»
Вернувшись в номер, Ольга не рассказывала Свете всё. Она выдавила из себя скупой, сухой отчёт, как на разборе летального случая. Подруга слушала, не перебивая, а потом разлила чай – не ароматный, а крепкий, чёрный, как ночь за окном.
– Оля, – сказала Света тихо, глядя на неё поверх пара. – Это не просто убийство. Это твой вызов. Не жизни – себе. Сможешь ли ты, отвыкшая верить во всё, кроме анатомии, поверить в это? В него? В себя, которая нужна кому-то не как врач, а как союзник?
Ольга взяла бабушкину шкатулку – ту самую, что Андрей вернул ей вчера. Она была цела. Она играла. Но сейчас её мелодия звучала иначе – не как воспоминание, а как саундтрек к началу чего-то нового, страшного и неизбежного. Она провела пальцем по гладкому дереву.
– Может. Но сначала – правда. Правда дороже. И опаснее. – Она посмотрела в тёмное окно, за которым шумел, не зная о человеческих делах, старый сад. – Андрей прав. Крысы не врут. И я… я, кажется, тоже разучилась.
Где-то далеко, в мастерской, запертой на все замки, День и Ночь спали, свернувшись в один общий, тёплый клубок. Они сделали своё дело – указали на зло. Теперь очередь была за большими, медлительными, сложно устроенными двуногими существами, которые только-только начинали понимать, что расследование уже началось. Не тогда, когда нашли тело. А тогда, когда первая крыса замерла у решётки, уловив запах страха, идущий из мира людей.
Часть 4.
Раннее утро в Калининграде не наступило – оно проступило сквозь ткань ночи мокрыми, грязно-жемчужными разводами. Туман был не явлением природы, а состоянием вещества: тяжёлым, вязким, проникающим в лёгкие ледяными кристаллами. Он пах не сыростью, а забытьём – угольной пылью от полузаброшенных котельных, солью далёкого, невидимого моря и холодным пеплом вчерашнего дня. Андрей вышел из мастерской, и привычный путь в двадцать шагов превратился в путешествие сквозь аномалию. Капли дождя, падая в приямки, звякали по жести неритмично, сбиваясь, словно испорченный метроном, пытающийся и не могущий отсчитать простую четверть.
Его тело, отточенное на микродвижениях среди хрупких механизмов, вырабатывало алгоритм приближения к хаосу. Шаг. Пауза. Анализ звука. Шаг. Каждый мускул был натянут струной антиципации – предвосхищения беды, уже знакомой по вчерашнему звонку и шипению крыс.
Дверь. Она была приоткрыта. Не распахнута, не забыта – приоткрыта ровно на ширину кулака, с математической, зловещей точностью. Чёрная щель тянула из себя не воздух, а беззвучие. Из квартиры Соколова, всегда наполненной тихим гулом жизни – скрипом пола, шелестом страниц, бормотанием радио, – не доносилось ничего. Абсолютная акустическая пустота. Вакуум, высосанный из пространства вместе с душой.
Андрей замер. Его рука повисла в сантиметре от древесины. Он не постучал. Он впустил в себя эту тишину, дал ей заполнить уши, пока они не начали звенеть от напряжения.
– Аркадий Петрович? – его собственный голос показался ему инородным телом, брошенным в чёрный колодец. Эхо не последовало. Звук умер, не родившись.
Он толкнул дверь. Она поддалась бесшумно, неестественно легко, будто её только ждали, смазали и пристреляли для этого момента.
И тогда его мир – мир причинности, шестерёнок и допусков в сотые доли миллиметра – треснул по всем швам.
Свет из гостиной, бледный и тощий, падал на постановку абсурда. Аркадий Петрович сидел у подножия лестницы, прислонившись спиной к ступени, склонив голову. Поза усталого мыслителя, если не считать неестественного, кукольного излома шеи и чёрного, зеркального озера вокруг него, медленно впитывающегося в поры дубового паркета.
Андрей не бросился вперёд. Его сознание распалась на автономные сенсорные потоки, каждый фиксировал катастрофу на своём языке.
· Зрение выдавало картинку в невыносимо высоком разрешении: он видел каждую волокнистую щепку в паркете, утопающую в чёрной глади; пузырёк воздуха на её поверхности, радужный и жуткий; мельчайшие брызги на полировке ступени, застывшие like frozen stars.
· Слух, отключившись вовне, включился вовнутрь: гул тока в висках, сухой треск слюны во рту, тиканье собственных карманных часов, которое вдруг совпало с ритмом капель за окном – один к одному. Тик-кап. Тик-кап.
· Обоняние проводило химический анализ: под сладковатой медью – нота старого воска, пыли и… горького миндаля? Откуда? Цианистый запах страха, выделенного в последний миг?
Его разум, машина по установлению связей, беспомощно вращал шестерёнки, не сцепляя их. Он был детектором, фиксирующим крушение, но лишённым программы для его обработки.
Только натренированные рефлексы заставили его присесть на корточки. Пальцы, знавшие пульс самых капризных хронометров, нашли холодное, восковое запястье. Ничего. Тишина. Не та, что в остановившемся механизме. Окончательная. Абсолютная. Вещь-в-себе, познать которую можно только одним способом.
– Господи… – выдохнул он, и это было не обращением к Богу, а констатацией факта поломки, которую не внести в гарантийный талон.
И тут его взгляд, сканируя, перешёл в режим чтения следов. Это был уже не Андрей-человек, а Андрей-реставратор, изучающий картину катастрофы.
Рассыпанные инструменты. Не просто упавшие. Указательные. Крошечный молоточек – рукояткой к двери. Два скрещённых напильника – стрела. Рядом с сломанным пополам самым большим ключом – миниатюрная отвёртка-часовщика, воткнутая остриём в щель между половиц, как кинжал в землю. Соколов расставлял их по футлярчикам с любовью солдафона. Это был немой крик, последний жест руки, сметающей всё со стола в попытке что-то указать. Или след грубого, поспешного обыска.
На полированной поверхности ступени, прямо над склонённой головой – две короткие, параллельные царапины. Как от каблуков. Кто-то стоял над ним. Давил? Отталкивался?
И на полу, в стороне от чёрного зеркала – крошечный, треугольный обломок тёмного дерева с чёрными прожилками. Карельская берёза. Прямо как в шкатулке, что ждала реставрации. Улика, выбитая ударом.
Он вызвал полицию. Голос в трубке был ровным, как голос автомата. «Адрес. Фамилия. Состояние. Не трогать. Ждать.» Положив трубку, он услышал новый звук. Не из этой квартиры. Из своей. Сквозь две стены. Тихий, яростный, ритмичный стук. Код Морзе отчаяния. День. Крыса билась о прутья клетки, выбивая дробь: три удара, пауза, два удара. Андрей, не глядя, перевёл: «Опасность здесь, не ушло, запах злой». День не видел тела. Он слышал тишину после насилия – частоту, недоступную человеку.
А Ночь… Мысленно он видел её: сидящую столбиком в дальнем углу, неподвижную, с горящими агатовыми глазами. Она совершала ритуал. Медленно поворачивала голову, сканируя комнату, которую не видела, но чью геометрию страха ощущала кожей. Её усы вибрировали, чертя в воздухе невидимые карты напряжённости. Вдруг – резкий чих. Короткий, отрывистый. Для Андрея яснее слов: «Чужой. Резкий запах. Чужой». Парфюм. Одеколон. Лосьон. Химический след Чужого.
Сирены, ворвавшиеся в тишину, были не спасением, а профанацией. Синий мигающий свет, отражаясь в мокрых стёклах, заливал комнату призрачным, театральным свещением. Чужие люди входили, говорили в рации, меряя смерть сантиметрами и протоколами.