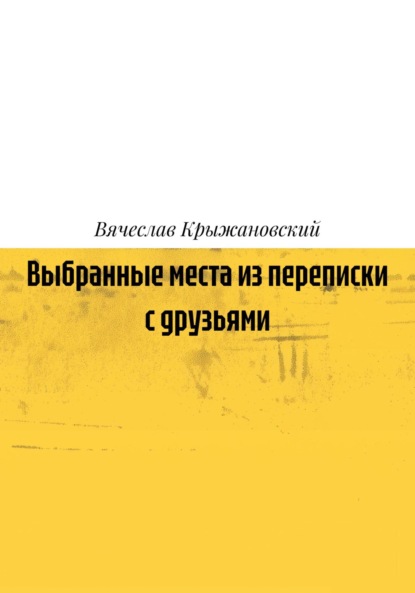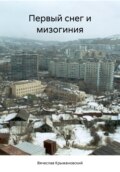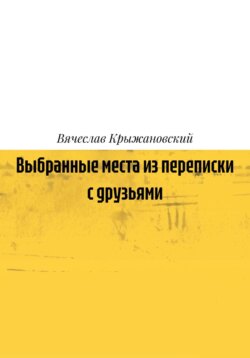
000
ОтложитьЧитал
Светлой памяти
Бориса Георгиевича Босько
Взялись вспоминать и выяснилось вдруг, что никто не помнит точного количества, все называют разные числа.
●
Слав, так сколько набросков за неделю требовал БГ? Я думал, что 60, Казанцева с какими-то своими расчётами говорит, что 64… !?!
●
В Новоалтайское художественное училище я поступил после восьмого класса средней школы, завершив четырёхлетнее обучение в Михайловской школе искусств – на художественном, разумеется, отделении, что открылось ровно в тот год, когда я переехал от мамы из Барнаула жить в Михайловку к деду и бабушке.
На наш первый выпуск ждали куратора из Барнаула, педагога НХУ В. Бооса. Он припозднится, приедет днём позже. Поэтому в свидетельстве об окончании школы искусств у меня – одни «пятёрки». Приехавший днём позже куратор В. Боос, посмотрев наши работы, вынесет вердикт, что – оценки «слегка завышены». Об этом нам, выпускникам, без утайки поведала наша учительница Елена Борисовна Фрис, что волновалась, надо полагать, куда больше нас. Но свидетельства нам уже выданы. Моё – со всеми слегка завышенными «пятёрками».
И – с прочерком в графе напротив слова «Скульптура». Скульптурой мы в школе искусств не занимались. А ведь именно этот предмет четыре года назад, в тот год, когда переехал я жить в Михайловку, стал ultima ratio – решающим доводом михайловского друга моего Сани Барабошкина. Друг Саня хотел учиться на художника, и родители поощряли его в этом стремлении. Особенно мать, тётя Поля. Дома у Барабошкиных висел на стене тёть-Полин портрет кисти её родного брата. Брат тёти Поли, Санин дядька, жил в Барнауле и был художник-любитель. Наверняка без его влияния в этом вопросе не обошлось.
Сане хотелось, чтобы и ближайший его друг, разделил бы с ним за компанию это новое увлечение. И он всячески заманивал и убеждал меня, рассуждая примерно в таком ключе: мы с ним любим лепить из пластилина, но лепить просто так, как мы любим, – это баловство и детская игра, а в нашем-то возрасте настала пора становиться серьёзнее, начинать думать о будущем, готовить себя к взрослой жизни, поэтому и надлежит нам записаться в школу искусств, где кроме всего прочего учат лепке и, вероятно, покажут, как нужно лепить правильно, в любом случае у нас-то ведь уже есть в этом деле какой-никакой опыт, и нам поэтому будет проще, ну а там дальше – поглядим…
Лепить из пластилина было нашим, моим и друга Сани любимым занятием. Возвращаясь с летних каникул в Омск, где я жил с семьёй до третьего класса, я там почти не лепил, ни сам, ни с приятелями – одному было неинтересно, омские же приятели мои лепить не умели. Искусство пластилиновой лепки мы с другом Саней переняли у живущего в доме через дорогу Коли Гриценко. Коля старше нас года на четыре. Он выносит на лавочку возле калитки бурый ком на такого же цвета фанерке и швейную иглу, она использовалась в качестве стека. И в тени высокого тополя на свет появляются: автомобили и автобусы различных марок, мотороллеры и мотоциклы с колясками и без, танки, бронепоезда, вертолёты, подводные лодки… – в общем, всевозможная колёсная и гусеничная, водная и авиа- техника. Исполненная тщательно, досконально, с подробными деталями: открывающимися дверцами, люками, капотами (и с двигателем под капотом!), багажниками (и с колесом-запаской в багажнике!), зеркалами заднего вида (зеркало имитировал кусочек серебристой фольги от сигаретной пачки). «Ездят» эти пластилиновые модели – скользя по гладкой сосновой скамье налепленными снизу на колёса и гусеницы бумажными полосками.
Но одною лишь техникой жанровые возможности пластилина отнюдь не ограничиваются. Коля и вслед за ним мы с другом Саней лепим всё что угодно, всё, что только может прийти в наши головы: сражения и погони, путешествия и соревнования, индейцев и пиратов, мушкетёров и ковбоев, гангстеров и полицейских, мафию и комиссара Каттани… А ещё: универмаги с товаром (товары нужно покупать за деньги, настриженные из бумаги), больницы с операционными, врачами, медсёстрами и пациентами в них, парикмахерские, съёмочные павильоны, строительные площадки, мусорные свалки… Сходив на новый фантастический фильм, строим то космический корабль («Дознание пилота Пиркса», «Лунная радуга»), то подводную станцию («Акванавты»), то горный отель.
Короче говоря, всё то, что детки нынешней компьютерной эры получают готовым из видеоигр, мы себе делали сами из пластилина. И создав очередной пластилиновый мирок, играли в него. По ходу этой игры выстраивается всякий раз драматический сюжет с апокалиптичным, как правило, финалом, в результате которого мирку со всеми его обитателями суждено вновь превратится в аморфный бурый ком. Игра эта и была кульминацией, главной составляющей всего процесса. Который, таким образом, к скульптуре имел довольно-таки косвенное отношение, и этот подвох я смутно ощущал…
Да только на меня тогда, что называется, давят и наседают ещё и с разных других сторон.
В школе классная руководительница настойчиво призывает к тому, чтобы каждый ученик занимался – помимо уроков, в своё свободное время – чем-то ещё. Ей нужно для улучшения отчётности.
Дед мой очень хочет, чтобы я пошёл учиться музыке. Дома имеется баян. На нём иногда играет, будучи в лирическом настроении, сам дед. И ещё мама, когда приезжает в Михайловку в отпуск. Это – мамин баян, его в своё время маме привёз в подарок её дед, Пётр Галактионович Шабунин. Мама училась в музыкальной школе – той самой, что при мне стала уже школою искусств с хореографическим и художественным отделениями. Маме было десять, когда в Михайловке при доме культуры открыли два музыкальных класса: фортепиано и баяна. Мама была в первом наборе и затем, через семь лет, – в первом выпуске этой школы. И они тоже учились вдвоём: вместе с мамой в школу ходила её подруга Ольга Скородумова.
А ещё тренерам различных спортивных секций, которых у нас в посёлке несколько, не даёт покоя мой большой рост, и они наперебой зазывают меня каждый в свою (втайне желая, вероятно, укрепить таким образом дружбу с дедом, директором элеватора, важным человеком).
Деваться, в общем, некуда. В конце концов я вынужден сдаться. Попрощавшись со свободой, я вместе с другом Саней записываюсь в художники. За компанию. Музыка и спорт – как-то совсем меня не манят.
Так, со всех сторон загнанный в угол, начал я свой путь в искусстве.
●
Ну-у, опять же – насколько тут можно верить моей памяти… Я помню число 30. Плюс 6 этюдов. Т. е. по 5 набросков и одному этюду в день. (И воскресенье – выходной :)). Число 60 при этом тоже как-то не вызывает удивления, мне так помнится – очень смутно, – что по 60 в неделю было на 1-м курсе, а потом норма уменьшилась (только тогда непонятно, почему ты-то помнишь про 60)
●
Школа искусств – в деревянном здании с белым оштукатуренным первым и обшитым деревом вторым этажами. Нужно перейти центральную площадь, не придавая значения тому, что Ленин перед райкомом КПСС указывает в прямо противоположную сторону. Миновав почту, где моя бабушка работает заместителем начальника (начальников, присылаемых райкомом, при ней сменится пять), пройти в ворота-портик слева от райкома, под их треугольный фронтон на двух парах колонн, к которым примыкают с обеих сторон невысокие чугунные решётки.
Пройдя через палисадник между низкими заборчиками из штакетин, поднимаемся на крыльцо под навесом. За дверьми – тесный холл, от которого влево и вправо тянутся два крыла коридоров, а прямо – узкая, покрашенная охрой лестница на второй этаж. В холле висят наши работы, оформленные в паспарту. Раздевалка – в коридоре слева первая дверь направо. Там к стенам прибиты две широкие доски с двойными крючками-вешалками. В углу на табуретке оцинкованный бак с водой для питья. Бак закрыт крышкой, на ней стоит белая эмалированная кружка. В другом, правом коридоре на пришедшего обрушивается буйство красок: ядовито-зелёный трёхголовый дракон, ступа с бабою-Ягой в ультрамариновом небе, лимонно-жёлтый на пеньке колобок, лягушка в короне и со стрелой в лапке, какие-то мухоморы… Это мы вместе с Еленой Борисовной расписали так свой коридор на тему русских народных сказок. А после ещё сделали роспись стены и в танцевальном классе, что по соседству, тоже на первом этаже, в другом крыле, за раздевалкой. Хореографическое отделение открылось в школе вместе с нашим, художественным. Помню, учившийся с нами какое-то время Олег Харанжа, сын маминой подруги тёти Ани, однажды так рассудил по этому поводу: что мне, раз я ношу очки, не стоило идти на художественное, а вот быть танцором – в самый раз!
Воду для живописи нужно набирать в моечной под лестницей, там хранится уборочный инвентарь: вёдра, швабры, веники, сушатся на батарее бурые тряпки с дырами посередине. Туда же в металлическую раковину выливается после урока грязная вода. Уборная на улице – как в известной комедии: «порядка пятидесяти метров», только не на север, а на юг, «расположен туалет типа „сортир“». Имеются на его серой дощатой стенке и соответствующие буквы: «Ж» слева и «М» справа. Дверей постройка не имеет вовсе, разделённая на две половины, от мира она отгорожена этой самой дощатою стенкой, завернув за которую и пройдя по открытому дождям и снегам коридорчику, попадаешь внутрь, к вожделенному в одну ступеньку высотой возвышению с пропиленными в досках отверстиями ромбовидной формы. Для посёлка такие туалеты в порядке вещей. В новой нашей общеобразовательной школе, что через год откроется в трёхэтажном кирпичном здании, туалет тоже будет на улице, правда, будет он большой, капитальный, построенный тоже из силикатного кирпича.
На втором этаже школы искусств занимаются музыканты. Ещё там кабинет директора, учительская и актовый зал, где проходят новогодние балы и разные другие торжества и праздники. Мы, художники, поднимаемся на второй этаж раз в неделю – на специальный урок «Слушание музыки». Его ведёт в кабинете сольфеджио преподавательница этого самого сольфеджио и музлитературы Татьяна Васильевна Тур (кажется, она тогда была ещё и завучем). В кабинете четыре парты в два ряда и пианино у стены. По стенам висят бородатые портреты, помню, что была там «Могучая кучка» – впервые тогда услышал это забавное название, наверняка ещё Глинка и Чайковский… Слушание происходит – на портативном проигрывателе в виде чемоданчика, такие были часто в учебных заведениях. Ставятся пластинки: разумеется, «Петя и волк», «Пер Гюнт» – отдельными фрагментами из первой и второй сюит, ещё вспоминаю весёлое название «Танец феи Драже», значит, и «Щелкунчик», тоже фрагментами, и – фамилию Сен-Санс, стало быть, что-то из «Карнавала животных»… Названия основных музыкальных темпов с той поры уже выветрились из памяти, но помню наизусть состав симфонического оркестра.
●
Я тоже, вспоминая, всегда говорил со 100%-й уверенностью, что 60. Ленка – 64, Рома – 63. Поверил Роме, ибо он, гад, единственный, кто постоянно приносил все 70
●
На свои занятия приносим магнитофон, подаренный мне дедом портативный «Спутник – 404». Он управляется одним рычажком: «Воспроизведение» – «Стоп» – «Перемотка вперёд» – «Перемотка назад» и двумя кнопками: «Запись» и «Извлечение кассеты». Кассет отечественных «Свема» МК—60, дешёвых, по 4 рубля – не купить. В «Промтоварах» – не в центральном магазине, а в том, что возле станции – продают голубые японские «Maxell LN»: 60-минутные за 8 рублей и 90-минутные за 9. Причём тех, что за 9, тоже обычно не купить, их быстро разбирают. В отличие от раков – по три рубля маленьких и по пять больших – здесь не нужно быть слишком одарённым математически, чтобы вычислить, что́ выгоднее.
На кассетах у нас – то, что критик назвал «безликий спагетти-поп»: «Богатые и бедные», Аль Бано и Ромина Пауэр, Челентано и Тото Кутуньо, а кроме них ещё: Джо Дассен и Мирей Матье, «Space» и «Зодиак», Никитины и Высоцкий, «Воскресенье» и «Машина Времени», «Здравствуй, песня» (Посмеяться над собой) и полуподпольный «Примус» (Путешествие в рок-н-ролл)…
Каким-то волшебным ветром занесён в нашу сибирскую глубинку альбом «Стюардесса летних линий», завороживший своей энигматичностью. Пишем натюрморт с чугунком и картофелинами, вслушиваясь в отрешённый, потусторонний голос В. Шумова:
На плоскогорье Лэй
Не заходят путешественники
Путешественники движутся
По точным картам
Координаты Лэй нигде не зафиксированы
О существовании Лэй можно только знать
Помимо бесконечных натюрмортов, иногда позируем друг другу по очереди. Мне нравится делать быстрые наброски фигур акварелью, обозначая ногу или руку разом, одним мазком плоской колонковой кисти. «Акварельные наброски – это прямо твоё!» – хвалит Елена Борисовна.
Весной в конце апреля – начале мая выходим рисовать на пленэре. Мы с другом Саней как-то раз выехали на своей технике: у него полноценный двухскоростной с кикстартером мопед «Верховина – 7», у меня более скромный велосипед с мотором «Рига – 11 М» (М – модификация с бачком спереди). Направляемся к мельнице. В лесу уже вовсю цветут наши сибирские подснежники – краснокнижный Прострел.
Когда настаёт время расходиться по домам, я предлагаю Оле Варкентин, в которую я тайно влюблён, подвезти её. Да только наши просёлки – это тот ещё мотодром, колёса моей «Риги» безнадёжно вязнут в песке, мотор глохнет, ехать вдвоём ну никак не получается, мне приходится спешиться и катить маломощный драндулет. Ладно, по крайней мере мы повесили на него свои сумки…
Кроме рисунка, живописи, композиции и истории искусств (которая называлась – посмотрел сейчас своё Свидетельство об окончании – «Беседы по изобразительному искусству») есть у нас ещё и уроки ДПИ – декоративно-прикладного искусства (в Свидетельстве ДПИ нет, как нет в нём и Слушания музыки).
Собираем мозаики из заколерованных разными цветами и после аккуратно – в сложенном бумажном листе – разбитых молотком стёкол.
Делаем аппликацию соломкой. Я выкладываю Дон Кихота с копьём на лошади, наверху – как бы вдали позади – маленькая мельница. Соломку приклеивать нужно – к разделочной доске, купленной в хозяйственном неподалёку и загрунтованной – с одной из сторон и по торцам – чёрным кузбасслаком. Используем мы не солому, а (выходит, как бы наоборот, что ли?) сено: сухие травины, набранные в сеннике, распариваются кипятком, разрезаются повдоль бритвенным лезвием и разглаживаются горячим утюгом – вот сколько травмоопасного в одном собралось предложении! Клеить их нужно – тоже на лак, на прозрачный для дерева, терпеливо придерживая швейной иглой, травины же – выгибаются, скручиваются, норовят от доски отлипнуть, таща за собой лаковые канители. Довольно скучный и утомительный процесс, приучающий к усидчивости…
В другой раз «проходим» урало-сибирскую роспись. Это – орнаменты из цветов, листьев, ягод и фруктов, выписанных особым способом: каждый элемент выполняется единым кручёным мазком плоской кисти, при этом краска на кисть набирается в два приёма: сперва основной цвет и затем на край кисти подцепляются белила. Таким образом в мазке-завитке получается плавная растяжка цвета к краю. Этот приём называется «разбел» или «разживка», он и придаёт росписи её характерную нарядную объёмность и живость. Помню это ощущение волшебства, когда из-под кисти выходит каждый раз не очень поначалу уверенный, но всё же красивый с нужной белильной растяжкой – мазок. Тоже на каких-то мы это делаем разделочных досках, но процесс уже не скучный, наоборот, он увлекает и затягивает.
Обучение в школе искусств – в отличие от тех же спортивных секций или кружков в Доме пионеров – платное. За нас, художников, в сберкассу ежемесячно вносится по выписанной квитанции шесть рублей. Для сравнения: за месяц обедов в школьной столовой сдавали по пять. Я как-то раз, классе в шестом или в седьмом, затеяв испытать таким образом своё мастерство художника, убил не один час, срисовывая остро отточенными цветными карандашами выданную мне на столовую пятирублёвку. Срисовал одну сторону, вторую же оставил белой – чтобы, так сказать, копию не превратить окончательно в подделку (вообще-то мне было страшновато). А на следующий день принёс обе бумажки в школу. И, само собою, у одноклассников тут же возникает идея разыграть классную руководительницу, собиравшую деньги на питание. Фальшивая моя пятирублёвка вполне успешно – кем-то из пацанов – сдана вместе с другими. Разумеется, мы скоро, уже к концу перемены, сознались в этой своей проделке и заменили купюру на настоящую. Я страшно горд произведённым впечатлением.
●
хм, ну я лично таких чисел как 63 и 64 вообще не помню; откуда они, в смысле, исходя из какого расчёта? Рома мог приносить и 170, скажем, он как бы этим и отличался всегда, «брал» этим; могло быть 6*5=30 или 6*10=60 а разные другие варианты – откуда?
●
В том же 1982 году, когда началась наша учёба в школе искусств, в Михайловке торжественно открывают новый Дворец культуры с огромной и светлой – остекление во всю южную стену – картинной галереей на верхнем этаже. Стараниями уроженцев Михайловского района, художников Я. Н. Скрипкова и Н. И. Дрючина, для галереи этой собрана и передана в дар довольно-таки приличная коллекция картин и графики художников-современников, большей частью столичных, московских, но и барнаульцы свою лепту внесли. На торжественное открытие приезжает краевое телевидение. Пришли заснять и нашу школу искусств. Втащили в небольшой наш класс громоздкие слепящие софиты, от которых тут же делается жарко. Мы, раскрасневшиеся больше от этой жары, чем от волнения, старательно изображаем юные дарования – то есть самих себя, – сидя за мольбертами-хлопушками, что изготовил по заказу Елены Борисовны михайловский наш лесхоз. Оператор ловит в кадр: скелет на подставке, развешанные по стене нос, глаз, губы и ухо – части лица «Давида», этажерку, на полках которой разложен натюрмортный наш фонд: горшки и чугунки, вазы и бутыли, череп и керосиновая лампа, плетёная корзина, чугунный утюг, гипсовые куб и пирамида, расписные деревянные ложки, восковые муляжи фруктов и сложенные стопкой драпировки…
Через несколько дней – смотрим, не узнавая себя, по телевизору в программе краевых новостей на втором канале (каналов было ровно два: центральный и местный краевой).
В картинной галерее делались выставки и наших ученических работ. Участвуя в их подготовке, мы осваиваем профессиональные приёмы монтажа графики: лист, оформленный в паспарту под стекло, зажимается четырьмя стальными S-образными кляммерами, капроновый шпагат пропускается сквозь их загибы с обратной стороны работы, перехлёстывается через штангу под потолком, затем один его конец просто связывается в петлю, а на другом последовательно вяжется ряд скользящих узлов – так чтобы можно было после корректировать высоту и выравнивать перекос.
Через несколько лет, во время летних каникул после 3-го курса училища, в Михайловскую галерею приедет с выставкой Илзе Рудзите… Но я слишком уж увлëкся предысторией и вдобавок, излагая её, забежал вперëд.
Итак, школа искусств окончена. Друг мой Саня, который тоже, как и я, получил свидетельство со всеми «пятёрками», будучи на год старше меня, остаётся в Михайловке доучиваться в десятом классе. Я же – решаюсь поступать в художественное училище. Было это в 1986 году, мне (и училищу) исполнилось (по) пятнадцать лет.
●
Не знаю, но Казанцева применила какую-то ей известную бухгалтерию, учитывающую все трудодни (и вых-е). Роме закинул вопрос.
●
Группу на педагогическое отделение – а чтобы стать художником, нужно окончить педагогическое, это было известно как-то само собою – набирал в тот год Борис Георгиевич Босько. Впервые я встретился с ним при подаче документов, на допуске. На этот самый допуск надлежало принести свои работы. Босько, набиравший курс, работы и смотрел. Я, разумеется, волновался и, что он сказал мне тогда про мои рисунки, кажется, толком даже и не понял, во всяком случае, не запомнил.
Конкурс на педагогическое в том году был сравнительно невелик, два с половиной человека: «да, я помню так, что 2,5 или 3 человека на место». В прежние времена, говорят, конкурс бывал куда серьёзнее, доходя до рекордной цифры 8. И на оформительском конкурсы, как правило, были повыше. На экзаменах в кулуарах шушукаются, что попасть в группу к Босько – это большая удача: у него сильные выпуски (до нас этих выпусков, кажется, три), он лучше других может научить, что, в общем повезло с годом поступления (кто-то и специально подгадывал этот год).
На вступительном по живописи пишем натюрморт с кувшином. Стоит жара, в мастерской тесно и душно, распахнутые настежь окна не спасают. Я притащился со своим этюдником. Маленький этюдник на ножках был у меня уже со второго года обучения в школе искусств. Купленный в художественном салоне на Социалистическом, прослужит он мне все четыре года в училище, и после будет долго ещё храниться в Михайловке, дожидаясь моих летних приездов, а когда станут продавать бабушкин дом, то пристроят и этюдник – к соседям по улице для их внучки, ученицы всё той же нашей школы искусств. Долгая жизнь вещей… И – тихая жизнь. Натюрморт, мёртвый в заимствовании из немецкого, в английском живёт тихой жизнью. Об этом английском варианте – still life – любил на первом курсе, когда писали и рисовали сплошь одни натюрморты, напоминать Б. Г. Вдохновляя и настраивая таким образом на возвышенный творческий лад, надо полагать.
Натюрморт на вступительном я, как и большинство абитуриентов, писал акварелью. А для воды – привëз с собою какую-то совсем маленькую ёмкость, какая уж влезла в маленький этюдник мой, на акварелиста вообще-то не очень рассчитанный, – какой-то пластмассовый из-под бытовой химии флакон с отрезанным верхом. Вода в нём моментально стала бурой, а часто выходить менять её было мне боязно – экзамен же как-никак. Может быть, эта грязная вода тогда сослужила службу, обобщив колорит постановки… Не забыть потом ещё рассказать про банку для воды.
Так или иначе, экзамены по спецдисциплинам удаётся мне сдать без «троек», на все «четвёрки». Отбросив скромность, замечу, что это – вполне себе неплохой результат для выпускника сельской школы искусств. Причём, первого выпуска её художественного отделения. (Но тут также стоит отметить и то, что вслед за мною во все последующие годы из МШИ в училище наше так больше никто и не поступит.) Таких, сдавших без «троек», среди поступавших на педагогическое восьмиклассников – только двое (старшие – окончившие десять классов – оцениваются отдельно и отдельным вывешены списком). Кроме меня, ещё девочка, чью фамилию я – сейчас не помню даже, запомнил ли тогда, но если и запомнил, то с годами в памяти она затерялась. И начала учёбы я жду с нетерпением, поскольку, кроме всего прочего, мне хочется увидеть талантливую эту девочку, моего «ближайшего конкурента». Но в сентябре она – по какой-то, оставшейся неизвестной, причине (что-то очень-очень смутное всплывает сейчас в голове: про сильное отравление пирожками с мясом, приведшее к госпитализации, но это вполне может быть и о ком-то другом) – на занятия не явилась.
●
Рома сказал, что 63 – это значит кажинный день по 9 набросков. И эту же норму (кроме Ленки) подтверждает и И. Слуцкая, одна из последних его учениц, которая и «курирует» нас с нашими воспоминаниями. Роме верю < … > он помнит все нужные ему трамплины (которые взять). 63 тоже трамплин, особенно на нашем фоне. Я только однажды выполнил норму.
●
Когда же наконец началась учёба, все мои «отлично» в школе искусств и «хорошо», полученные на вступительном, очень быстро забылись. Отметка «удовлетворительно», каковой доселе не бывало у меня вообще, в училище сделалась вдруг нормой. По крайней мере, так было с т. н. текущими отметками, еженедельно выставляемыми в журнал: за домашние наброски, этюды и упражнения по композиции (хотя с оценками по композиции дело у меня, как правило, обстояло чуть получше). Лишь за полугодие выводили мне на просмотрах всё же «четвёрки». Те, кто учится без «троек» в полугодии, получают повышенную стипендию, 37 рублей.