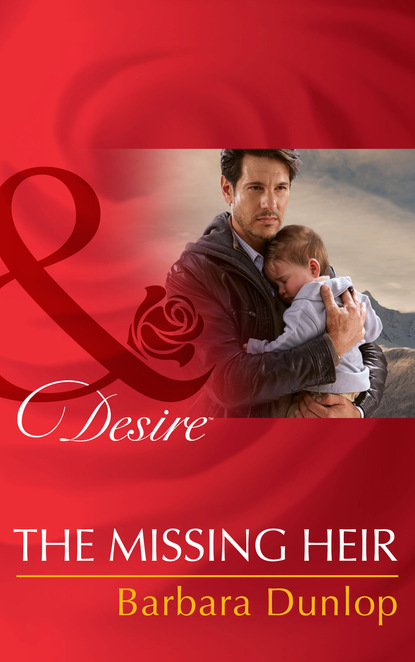- -
- 100%
- +

© Ксеня Чижикова, 2025
ISBN 978-5-0065-6097-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Обычная история
Посвящается Ф.
Like a rush of blood to the head!
1
Меня зовут Константин. Как императора, да. Это первое, что я обычно говорю. С этого, наверное, и надо начать.
Вообще-то я не особенно планировал рассказывать эту историю, и уж точно не планировал рассказывать ее сам. Я из тех, кто обычно болтается на втором плане, мелькает в массовке. Уж точно не из тех, кто выходит на первые роли и хвастается перед зрителями своим мастерством рассказчика.
Так вот. Меня зовут Константин.
Логично, не правда ли? Первым делом назвать свое имя. Надо же как-то обращаться. Эй, вы – это долго не работает. Позвольте, подождите – это работает, но так уже никто не говорит. Помогите мне – так вообще никто не начинает фразу. И правильно делает. В нынешние дни никто не любит, когда их просят о помощи.
Шесть месяцев назад у меня умерла жена. Но история будет не совсем о ней – о ней, конечно, но не совсем. Если я начну говорить про нее, то надо рассказать, как мы познакомились. А я не хотел бы начинать с этого. Я хотел бы начать намного раньше.
Ее не стало. Я каждое утро езжу на работу на автобусе. Иногда, когда совсем хорошая погода, я хожу пешком и могу даже протрусить пару метров. Но это я перестал делать примерно тогда же, когда перестал воображать себя олимпийским бегуном и носить короткие беговые трусы. Они до сих пор лежат у меня где-то в глубине шкафа, но теперь я только хожу. Но чаще езжу. На автобусе.
Ее не стало шесть месяцев назад, но я только сейчас подумал, что жизнь – это автобус. Ты едешь-едешь, едешь-едешь, и рано или поздно будет твоя остановка. Ты можешь тешить себя надеждой, что остановки не будет. Но остановка будет. Кому, как не мне, об этом не знать. Или, пробыв долго на одной остановке, замерзнув и продрогнув до костей, потому что эти идиоты опять отменили весь транспорт – твой автобус вдруг приходит, и тебе, подобрав руками полы пальто, опять надо в него лезть. Даже если тебе нравилось на этой остановке. Даже если ты всю жизнь хотел бы остаться на этой остановке. Хотя я, положим, был не уверен, что хочу остаться на ней всю жизнь. Придется дальше ехать в автобусе, одному, оглядываясь по сторонам, как будто ты отправился в кругосветное путешествие, отчалив прямо от дома. Или тебя отправили куда-то, и неизвестно, когда ты вернешься домой. Запоминать тебе дорогу? Или нет? Оставлять какую-нибудь вещь на память? Бросать монетку в реку? Стучать в окно, чтобы помнили – ведь, когда вернешься, ты тоже однажды ночью постучишь? Или никуда не стучать, не оборачиваться? А просто ехать и смотреть вперед?
Многовато вопросов для одного автобуса. К тому же такого вонючего, как этот.
Мне теперь надо ехать в автобусе одному. Оглядываться, вытягивая шею из рубашки, на которую я, чуть было, пока гладил, не поставил пятно. Сложить руки на коленях. Я забрался сюда, сгорбив спину, забрался и даже нашел свободное место.
Автобус продолжает свое движение. Я слегка подпрыгиваю на месте. Я сижу тут.
2
Меня назвал отец. Конечно же. Моей матери, вечно суетящейся по любому поводу, мое укорененное в римских императорах, гордое имя не очень нравилось. Не вязалось с орущим младенцем, потому что отец называл меня не иначе как Константин. С самого рождения. Константин снова волнуется (так он называл мои ночные просыпания). Константин хочет еды. Константин опять орал. Константин меня разочаровывает. Я не допущу, чтобы у нас рос тупой ребенок. Да он не тупой, дорогой, он просто не понимает. Надеюсь, холодно отвечал отец. Надеюсь, что не понимает.
Мать отказывалась называть меня Константином. Называла Костя. Или «Тя», как я сам придумал в два года. Я сам долго не мог это выговорить, к неудовольствию отца, который хотел, чтобы я говорил четко, верно и с идеальными ударениями, лет примерно с трех. И желательно короткими емкими фразами. Как он сам.
– Константин, выпрямись, – бросал он мне за обеденным столом. – Константин, сними ботинки и головной убор, когда в квартиру входишь!
Мой отец не мог сказать «кепка». Ему надо было сказать «головной убор».
У него было два состояния. В одном он молчаливо и сдержанно поправлял мир, поправлял всех, потому что все вокруг никогда не стояли достаточно ровным строем. Он никогда не крысился, не окрикивал, не хватал за шиворот и не ставил на положенное место – он только поправлял. Легонько ударял линейкой по пальцам, чуть-чуть касался палкой спины. И это не буквально – ни линейки, ни палки у него не было.
– Незлобный человек твой отец, – гворила мать. – Не злобный.
Я ни разу не видел, чтобы они ссорились или кричали друг на друга. Ни разу никто не выскочил на лестничную клетку и не заорал «Сука!!»
В нашем доме не было ссор. В своем первом состоянии отец мой был человеком фантастического, почти на грани одержимости самоконтроля. У него было умение владеть собой до такой степени, что даже сломав однажды руку, он не охнул, не вскрикнул – а, зажав зубы, прошипел матери звонить в скорую, сам спустился по лестнице и залез в их машину. Они чуть ли не удивились, зачем вообще было приезжать.
Он владел собой и таким образом владел миром, мой отец. Нет у меня никаких других слов, чтобы это описать.
Мой отец пытался быть школьным учителем. Недолгий и странный период, слава богу, не в моей школе. Зачем он туда устроился, да еще и физруком, я понятия не имел. Он был длинный, тонкий – даже тоньше, чем я – но мускулистый, и мог бежать, как мне в детстве казалось, сколько угодно. Любимым его видом спорта был лыжный кросс.
– Если отцу твоему надо, он сожмет зубы и до северного полюса добежит, – говорила моя мать. – Ему только дай.
И все равно – я понял бы, если бы он захотел стать, например, историком. Но никак не физруком. Свистеть в свисток и раздавать школьникам с очень белыми ногами и подбитыми коленками команды? Это было вообще на него не похоже.
Он проработал там несколько месяцев – ну максимум четверть, две, пока его не уволили. Турнули, как он сказал, невозмутимо пожав плечами.
Он вообще никогда не радовался успехам и не печалился неудачам, мой отец. И на то, и на другое ему было глубоко все наплевать.
Он не сказал, почему его уволили, сколько бы мать не прыгала вокруг и не спрашивала, делая вид, что ее это совершенно не интересует. А потом – город маленький – она столкнулась с учителкой оттуда. И та ей рассказала.
Оказывается, иногда, вместо того чтобы заставлять скорбных школьников бегать по кругу или отжиматься по нормативам, мой отец сажал их а два ряда на длинные скамьи, становился – как был, в спртивном костюме – перед доской, и начинал разглагольствовать. О чем именно он говорил, та учителка сказать не смогла. О рлигии, вроде. Я в религии плохо понимаю, но разве можно детям – детям! – в таких терминах рассказывать? Разве можно вместо того, чтобы заставлять их бегать по кругу и играть в баскетбол, рассказывать им про грехи, и про чертей, про то, что они все еще чистые и могут выбрать иной путь, но общество уже выбрано неверный путь, неверный, понимаете? Как вообще такое можно детям говорить, я вас спрашиваю. Я не говорю, что ваш муж больной какой-то, нет, вы не подумайте, что я так говорю, но что-то там определенно есть, я говорю, нет, я вас ни в чем не обвиняю, да нет, Марина Валерьевна, я же сказала, я вас…
Ага. Моя мать делала вид, что все это было ей незнакомо. Как будто отец не разглагольствовал также и перед нами, а мы не делали вид, что не замечаем. Как будто он иногда, зажав пальцами край стола, не принимался за эту волынку, и весь его железный контроль вдруг исчезал, и появлялся фанатик, и он говорил так, что мы даже не смели спорить – хотя в его этих словах, которые он все пытался нам передать, по-моему, ничего особенного не было.
Он говорил о Боге, о том, что искал Бога, искал непонятно где и что все рано или поздно его найдут, как он нашел, а мать косилась по сторонам опасливо, как будто уже тоже должна была найти, но засунула его куда-то, и теперь понятия не имела, где он притаился. Отец нечасто так делал – раз в месяц, раз в три – но яростность, с которой он это говорил, была такая, что и щепку нельзя было вставить, ничего ему нельзя было возразить, он просто не потерпел бы возражений.
Посмотрели бы вы, как можно было бы спорить с моим отцом. Никак.
Мать спросила у него об этом. Смущенно, но все-таки спросила.
Отец сразу заледенел.
– Марина. – сказал он спокойным и аккуратным голосом. – Этим детям надо было это сказать.
Он взял вилку и добавил:
– Возможно, кто-то из их понял.
– Но ты же физ-культурой. – она запнулась. – Должен был с ними заниматься.
– Физкультурой.– повторил отец. – В слове «физкультура» есть слово «культура». Ты не замечала этого?
Он всегда спрашивал как-то так, что мать выглядела полной дурой.
Я хотел было сказать, что слово «культура» еще не значит слова «религия», но промолчал. Я вообще профессионально научился сдерживать себя, когда рядом был отец. Это чуть ли не единственное, чему я у него научился.
Даже не так – я был параллельно, а отец был параллельно, и мы так и ехали по своим параллельным лыжнями. Главное было не наезжать друг на друга неудобными деревянными лыжами и потом долго и неприятно разлепляться, держась за снег, втыкая палки в землю и стараясь не упасть. Спорить с ним было бесполезно, говорить ему что-то крайне редко имело смысл – проще было ехать, отталкиваясь от промерзлой земли, и зная, что он тебя не замечает. А если мой отец кого-то замечал, это само по себе уже было явлением.
3
Я инженер. По-моему, неплохой. Не один я так говорю – это такое же качество, как, скажем, организованность – все предметы на своих местах – и чистоплотность – аккуратно начищенные ботинки в прихожей.
Когда моя жена на меня злилась, то говорила:
– Плюнуть бы на эти ботинки.
Я говорил.
– Ну и плюнь.
Она смеялась. Когда она смеялась, она всегда хваталась за мое плечо.
Я понятия не имел, почему она так громко и долго смеется. Но рад был, что ее насмешил. Шутки, в отличие от сложных производственных механизмов, не моя специализация.
Я несколько раз пытался ей объяснить, чем занимаюсь, но она ни разу не поняла.
– Ты объясняешь так скучно, заснуть можно!
Она качала головой и подхватывала пульт от телевизора. Она была из тех, кому очень нравилось смотреть телевизор – особенно шоу, где сильно накрашенные женщины, одетые в костюмы, бесконечно что-то обсуждали. При этом они сидели в разноцветных креслах и задавали друг другу вопросы, в более или более высоких тонах. Она наклонялась и никак не могла оторвать от них взгляд – как будто притягивали ее туда.
Мне нравится рассматривать, как вещи устроены. Всегда нравилось. По правде говоря, я думал, что у меня на это будет больше времени. Я думал, что не женюсь. То есть примерно никогда.
Эты мысль не вызывала у меня ни восторга, ни сожаления, она была такой же обычной, как то, что за весной будет лето, а за осенью зима, а религия не доводит до добра – фраза, которую сказала моя мать, когда исчез мой отец. Однажды он без объяснений ушел из дома. Вместо того, чтобы закрыть ключом входную дверь, он прикрыл ее, сунул ключ под коврик и ушел. И больше не возвращался.
Мне тогда было лет четырнадцать.
Моя мать даже не пыталась его искать.
Она просто подала заявление об исчезновении. А потом их развели.
Кажется, когда отец исчез из нашей жизни, я должен был расстроиться. Все как будто от меня этого ждали. Мать. Сосед по парте. Учителя в школе.
На самом деле я не ощущал ничего – ни дыры, ни пустоты, ни свистящего чувства дезориентировки, когда теряешь что-то и знаешь, что потерял это насовсем. Вроде как ключи выпадают из портфеля, и ищи их теперь, свищи, и точно знаешь, что не найдешь, даже если граблями прочешешь весь путь из школы домой.
Я ничего не чувствовал. Не было никакой свистящей дыры. Отец просто исчез, посчитав, что больше нам не нужен. Не понадобится. В общем-то, он был не так уж и неправ.
4
Мать беспокоилась за меня.
Спрашивала:
– Хочешь поговорить об этом?
– О чем?
– Ну… о том, что папа с нами больше не живет.
Я поднял глаза и посмотрел на нее.
– Нет.
А потом, потому что она продолжала ждать ответа:
– У нас суп еще есть?
– Есть.
Она поднялась и налила мне еще.
– Точно не хочешь поговорить?
– Нет.
В конце концов, к моему вящему неудовольствию, она повела меня к школьному психологу.
Психолог оказался таким старым, что я удивился, как ему все еще разрешают работать. На вид ему было лет восемьдесят, не меньше, и он не говорил, а шелестел, откинувшись на спинку кресла и глядя на меня сквозь очки в железной оправе.
– Вообще-то я не психолог, а психиатр. – прошелестел он. – Я Светлану Леонидовну заменяю. Что с вашим… эээ.. юношей?
Мать посмотрела на него с ужасом.
Он задавал мне какие-то вопросы. Показывал картинки. Спросил, не слышу ли я голоса или не вижу ли невидимых людей. Пока он говорил, медленно двигал руками в воздухе, и со своего места я видел, как у него распухли суставы. Болят, наверное.
Он как-то подозрительно быстро прекратил свои расспросы.
И спросил мою мать:
– Зачем вы пришли?
Она замялась и стала что-то говорить про то, что когда нет отца, надо…
Психиатр перебил:
– Может, это вам здесь нужна помощь? А не вашему сыну?
Она замолчала и вся подобралась. Потом сказала мне:
– Подожди в коридоре.
Я сидел и ждал ее на лавочке, вытянув но полкоридора ноги.
В конце концов она вылетела из кабинета. Лицо у нее было гораздо более веселое, чем раньше.
– Пошли. – сказала она мне почти весело. – Пошли отсюда.
5
После того кабинета мать приободрилась. С каждым днем она становилась все веселей и веселей. В конце концов она даже начала петь на кухне, готовя блинчики. Петь! Правда, когда я заходил, она резко замолкала и прикрывала рот ладошкой, как толстая девочка в детском саду, когда стащила из вазочки большую конфету.
Она стеснялась того, как громко она смеялась. Отец бы поморщился и ни за что не одобрил ни пения, ни смеха. Не запретил бы – не в его стиле было запрещать – но не одобрил бы.
Когда отец жил с нами, моя мать никогда не пела. Она косилась на него, а иногда, когда мы с ним разговаривали, поворачивала голову как на теннисном матче – сначала на него, потом на меня, потом снова на него.
А теперь она пела постоянно. По-моему, жизнь вообще стала гораздо лучше, когда он наконец убрался. Правда, когда я ей это сказал, она крикнула:
– Не говори так!
Я пожал плечами.
– Человеку нужен человек. – сказала моя мать.
Этого я не мог понять. Да и не пытался.
– Человеку нужен человек.
Говорила она это обычно когда гладила, и сама себе кивала головой. Потом посматривала на меня, потому что я в это время обычно сидел, согнувшись, за своим столом и придвинув тетрадь поближе к лампе.
– Угу. – кивал я.
Бессмысленно было с ней спорить.
6
Лет в пятнадцать, через год после ухода отца, я вдруг начал представляться Константином. Не потому, что он так говорил. А потому, что что-то не нравилось мне в обрубленном «Косте», что-то было в этом – брошенная, обгрызанная кость. Насмешка. Утвердительный стук, который слышался в моем полном имени «ннн!», вообще не имел к ней никакого отношения.
Я понял, что отец имел в виду.
– Имя тебя подтянет. – сказал он как-то. Мне было тогда лет шесть. – Уж что, что, а имя тебя подтянет. До планки.
– До какой планки?
Он не ответил. Отец вообще виртуозно умел не отвечать на вопросы.
Я до конца так и не понял, какую религию исповедовал мой отец. Мне сначала казалось, что ту, где были ангелы и черти, и все четко расставлено по двум сторонам. Но потом я понял, что и к добру, и ко злу мой отец относится с одинаковым пиететом. К злу даже чуть с большим. Как к более сильному противнику.
7
Когда мне исполнилось семнадцать лет, я посмотрел на себя в зеркало.
Все потому, что однажды я вернулся домой в десять вечера, и мать спросила:
– У тебя есть девушка?
После того, как она спросила, я включил свет в прихожей – щелкнул по выключателю, и мутное зеркало, в котором отражался я, но в которое я никогда не смотрел, осветилось. Странно – на вешалке висели две отцовские зимние куртки. И одна моя. Он их не забрал, как и никакие другие свои вещи. Мать спрятала его бритву в зеркальный шкафчик в ванной, где хранился йод и мыло, а куртку иногда накидывала на себя, когда спускалась в подвал. Чашка, из которой он обычно пил – зеленая и облезлая по краю – стояла в серванте. Но куртки почему-то особенно сильно бросились мне в глаза. Его не было, а куртки были.
– У тебя есть девушка? – спросила мать.
Она маячила у меня за спиной, ждала ответа.
Так вот. Зеркало. Я посмотрелся в зеркало, и его мутная поверхность отразила мне меня. Ну, я это я. Я редко смотрел на себя – последний раз, кажется, в магазине, куда мать меня повела выбирать костюм на выпускной. Она настаивала, что мне нужен нормальный костюм, а отцовские я носить не мог – он был худее меня. К тому же, я терпеть не мог его запах.
Зеркало отражало мои волосы, не слишком темные и не слишком светлые, приглаженные немного на лбу. Костлявые руки и ноги, рост – средний. Но зеркало закреплено низко, поэтому моя макушка почти доставала до рамы. Рубашку. Штаны. Серые. Свитер. Черный. Лицо.
Обычный человеческий набор. Смотреть особенно не на что.
Единственное, что можно было заметить, так это то, что я стал взрослым. Мне было только семнадцать, но из зеркала на меня смотрел вполне взрослый мужчина. Не знаю, как я это определил, но мне так показалось. Особенно учитывая то, что ни усов, ни бороды, ни даже щетины там не было. Что-то желторотое во мне все-таки оставалось.
Посмотрели бы вы на меня в семнадцать лет. Я вот, например, посмотрел.
Так вот. Насчет девушки. Это как та известная метафора с клеем. Будь спины девушек, которых я встречал, и моя спина намазана клеем, и даже приклейся они ко мне случайно – уже минут через пятнадцать они бы стали предпринимать усилия, чтобы отклеиться, через час им бы это удалось, и они бежали бы куда глаза глядят. Так что клей бы не помог. Никакое количество клея не помогло бы удержать рядом со мной даже самую захудалую пассию.
– Нет. – сказал я матери. – Девушки нет.
8
О том, что со своей жизнью надо что-то делать, я задумался не сразу.
Вернее нет. Я что-то делал со своей жизнью, потому что с ней надо было что-то делать. Это как полоса, по которой надо идти с завязанными глазами, прежде, чем в тебя выстрелят или ты упадешь в море. Понятия не имею, какая полоса, но кажется, я как-то раз видел такой сон. Не помню, этот сон мне приснился уже когда мы были женаты или когда мы еще не встретились. Уже когда были женаты, наверное. Мне крайне редко снились странные сны, но иногда я просыпался посреди ночи, и мышцы спины у меня болели от напряжения, как будто я всем телом защищался от чего-то. Когда были такие сны, я вставал и ощупью шел на кухню. Когда я возвращался, она лежала рядом и дышала. Я не знаю, просыпалась она или нет.
В одном таком сне я шел по полосе с завязанными глазами и знал, что далеко мне не уйти. И одновременно смотрел, как я иду. Я смотрел себе же в спину. И стрелял тоже я? Не могу понять. В сне слишком мало времени, чтобы проанализировать происходящее. Тебе показывают картинку. Вот и все.
Я двигался по узкой полоске. Кажется, она была покрыта толстой белой тканью,. Наподобие мешковины. В конце концов я дошел до конца ленты и ухнул вниз. Помню, что летел совсем недолго до того, как проснулся.
Надо было двигаться вперед. Это я понимал. Я очень слабо представлял, куда, потому что кроме того, как движутся большие механизмы, как перекатываются у них внутри железные куски, как стучит двигатель, как урчит и сокращается невидимая пружина, мало что меня привлекало. Именно поэтому я пошел на инженерию.
В жизни надо двигаться вперед. Надо шагать и одновременно думать, куда шагаешь, а у меня получалось только шагать. Я, казалось бы, должен был четче планировать свой курс, но мне не хотелось думать об этом. Мне не хотелось думать о будущем. И в любом случае. Будущего не существовало.
9
Надин я встретил на своей первой работе.
Работать я начал сразу же, как выпустился из университета – дальше жить в материной квартире я не мог, хотя бы потому, что мне хотелось просыпаться и засыпать одному и не в своей детской, а потом подростковой комнате, где все еще хранились тетрадки, с которыми я ходил в пятый класс, и ботинки, которые были мне на два размера малы. Я бы с удовольствием их выкинул, но моя мать принципиально ничего не выкидывала.
– Ты что! – говорила она, и бережно относила тетради на их старое место. – Ты что! Это же память!
Память о чем, хотелось бы мне знать. Но я с ней не спорил.
Квартиру я в итоге снял старую, с бабушкиной мебелью и скрипучими деревянными полами, кое-где облезлыми. Она была близко к работе и меня устраивала. Диван, правда, пришлось заменить – он был продавлен до такой степени, что через две недели лежания на нем у меня начала болеть поясница.
К счастью, за шкафом оказалась заткнутая туда раскладушка, на которой я и спал последующие два месяца, пока не купил другой диван. Можно было бы положить матрас на голые доски, но у меня было подозрение, что на кухне водится мышь, и потом, на раскладушке было всяко удобнее.
Мышь мне долго не удавалось поймать – она шуршала по ночам, шуршала, но каждый раз, когда я ставил мышеловки или с фонарем выходил на ее поиски, шум прекращался, и она грамотно выходила, уж не знаю как, из-под линии огня. В конце концов я пришел к выводу, что это умная мышь, и незачем лишать ее шанса на жизнь.
Поэтому к мыши у меня больше претензий не было – она исчезла куда-то сама, и больше не шелестела. Наверное, соседи потравили.
У Надин – она не любила, когда говорили «Надя», а требовала, чтобы все называли ее Надин – были черные волосы и тонкое бледное лицо. Губы обкусаны, а глаза жадные, и она водила ими следом за мужчинами, а пальцами, если все сидели в баре или на каком-нибудь корпоративе, крепко обхватывала свой бокал.
У нее была репутация. Не то, чтобы той, которая спит со всеми подряд, но той, которая «прицепится к мужику и вот увидишь, уже не упустит, ее стряхнуть тяжелее, чем бешеную собаку», как поэтично выразился один мой коллега. «Такие приклеятся намертво, и либо жениться, либо менять номер телефона».
У меня не было мыслей стряхивать ее, как бешеную собаку. С другой стороны, мысли о том, что я могу ее чем-то заинтересовать, у меня тоже не было.
Помню, я сидел и думал, как мне по-тихому свалить с очередной вечеринки. Я каждый раз об этом думал – в большом скоплении людей мне неизменно было неловко. Я не интересовался рыбалкой, не был спортивным фанатом, не любил ни пиво, ни водку и ненавидел, когда меня хлопают по плечу. Но приходилось выдерживать какое-то количество этого, прежде чем можно было уйти.
Зал уже наполнялся дымом – сухой лед, и я пристроил на спинку стула куртку, готовясь незаметно уйти. Дверь была в десяти метрах, надо было только откланяться с начальником, или, в крайнем случае, хотя бы кивнуть ему головой.
Надин танцевала с каким-то другим коллегой в рубашке и жилете, и ее пальцы с длинными, красными ногтями впились ему в плечи. Коллега придерживал ее за талию. Они раскачивались на месте. Когда они развернулись, коллега оказался ко мне лицом, а она спиной. Выражение лица у него было страдальческое.
Я поднялся, чтобы уходить, сделал этот самый кивок, накинул куртку на плечи и, уже открывая дверь, вдруг обнаружил, что Надин каким-то образом оказалась рядом.
– Уже уходишь?
Из-за громкой музыки было с трудом слышно, что она говорит.
Я понятия не имел, что делать, поэтому распахнул перед ее носом дверь. Она бросила через плечо на коллегу, которого оставила на танцполе, ядовитый взгляд, и прошла через дверь.
Я в два шага нагнал ее.
– Так что? Уже идешь домой?
Только тут я заметил, что она пьяна. Тушь у нее растеклась, рукой она беспорядочно отряхивала короткую юбку – непонятно от чего, потому что ни пепла, ни пятен я на ней не видел.