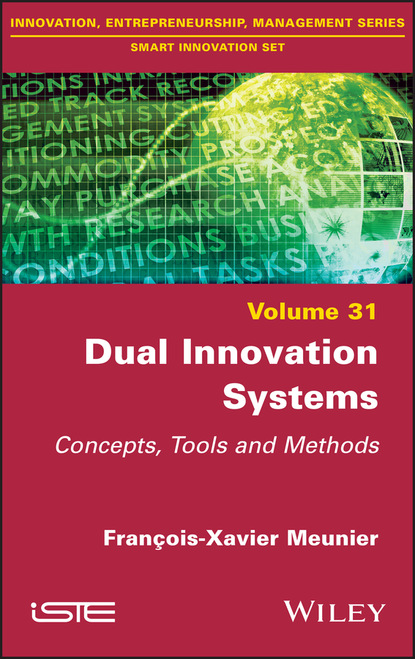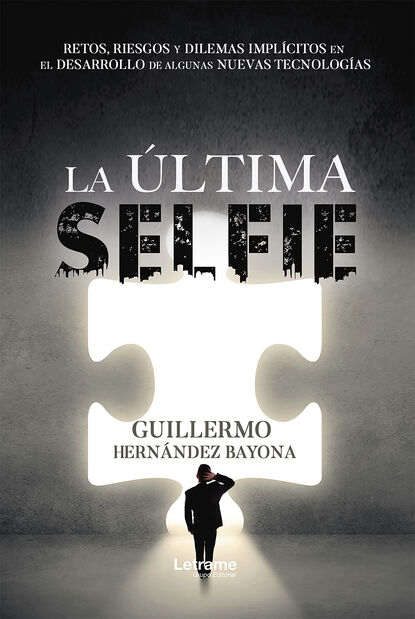- -
- 100%
- +
– Возьми новый и заново начни. Тут уже не поможешь.
– Да ладно!
– Не поможешь, говорю!
Так они и препирались, пока училка не шикала на них преувеличенно громко, и Марышева, обернувшись так резко, что ее толстая коса отлетала в сторону, смотрела на них упор и делала круглые глаза.
– А можно потиш-ше?
– Заткнулись, заткнулись, – говорил Андрюха, и она поворачивалась обратно.
Пыжик возвращался к своему листу.
Как у Андрюхи получается то, чего не получается у него, Пыжика? Он же не видел другой бок – и все равно каким-то образом знал, как она оттуд выглядит. Не очень-то справедливо, думал Пыжик, опять проводя стеркой. Водить ластиком – Андрюхиным, потому что свой он, конечно же, забыл – приходилось медленно и бережно, потому что если бумагу порвать, то ему грозил почти гарантированный кол. И кол, если изошница сподобится поставить его в журнал, это не то что большие неприятности, но такой поток наставлений, какой выдерживать Пыжику совершенно не хотелось.
Андрюха любил рисовать и даже любил чертить, но любовь эта, как быстро понял Пыжик, росла не из вдохновения. Она росла из того, что рисование для него было процессом закрытым. Туда никто не мог вмешаться и перечеркнуть. Никому не удавалось влезть в его работу, а когда кто-то пытался, он вскидывал от листа голову и резко, совсем по-взрослому, бросал:
– Подождите, я закончу!
И снова замирал в задумчивости, разглядывая лист и соображая, чего, собственно, не хватает.
Идеи у Андрюхи быстро обкатывались, и так же быстро выкатывались, и там и оставались – он долго не думал, не рассуждал, а сразу бросал идеи в реальность и смотрел, что там с ними будет. Они были простенькие – солнце, ваза которую они все старательно заштриховывали с одной стороны, стараясь, чтобы правильно легла тень. Дом с освещенными изнутри окнами. У него у единственного получилась настоящая многоэтажка, а не прямоугольник с намалванными по бокам квадратиками, похожий на терку для сыра. Окна у него были не только желтые, а еще и розовые, фиолетовые, зеленые, даже иногда синие, или совсем черные, а справа светила луна – Андрюха нарисовал ее в самом углу, но свет все равно был ночным, и небо над домом казалось огромным, а сам дом маленьким. Все так, подумал Пыжик. Все так.
Когда Андрюха рисовал, на свет выходила та его часть, которая почти никогда не показывалась наружу. Он приглядывался к листу, как будто хотел оценить его параметры и запомнить их, заполнить карандашом, чтобы в перспективе ничего не нарушилось. Странным образом в его рисунках и чертежах было очень мало его самого – карандаш выходил на первый план, а он, Андрюха, уходил. Он давал карандашу говорить, и Пыжик никак не мог понять, как у него это получалось.
Когда он рисовал, его губы были сжаты, голова чуть наклонена набок. Иногда он закрывал глаза, а потом снова их открывал, стирал и принимался штриховать снова. Пыжик тогда совершенно бросал рисовать и не открывал глаз от Андрюхиного листа.
– Ты не думаешь, что тебе надо пойти… ну, в архитекторы? Или в иллюстраторы? – спросил он как-то, когда Андрюхе надоело, и он отодвинул лист в его сторону.
– Изя тоже так говорит.
Изей он называл их учительницу ИЗО.
Он посмотрел-посмотрел, и перевернул лист белой стороной вверх.
– Я не хочу.
– Почему?
Андрюха пожал плечами.
– Неохота. Великого художника из меня не получится, а посредственных и так куча. И потом, как я буду деньги зарабатывать?
– Деньги?
– Деньги! В деньгах весь смысл, – Андрюха сгреб карандаши, которые валялись по всей парте, и одним движением запихнул их в боковой карман рюкзака. Потом согнул лист вдвое и запихал его внутрь. – Зачем работа, если денег нет?
А потом, не дожидаясь Пыжикова ответа:
– Пошли, в столовке последними будем!
6
Что за противная фамилия – Ванюков. Даже мать сказала, что противная, хотя она вообще редко замечала его одноклассников. Она складывалась то в Вонюкова, от слова «вонь», то в Говнюкова, как Пыжик стал называть его про себя. Где-то там, в фамилии, было нежное «Ванюша», то от этой нежности в реальном Ванюкове не было и следа.
Все стало понятно примерно сразу, когда Пыжик Ванюкова увидел. Это было на линейке – тот стоял в первом ряду и смотрел одновременно в Пыжикову сторону и прямо перед собой, как голубь с углом обзора в 180 градусов.
Васюков не был толстым, но брюки на бедрах у него топорщились, потому что были размера на два малы. Щеки у него смешно надувались, а потом сдувались обратно, но эта его неуклюжесть, которая, должно быть, делала его похожим на розовощекого купидончика лет в шесть, вовсе не была милой. Она была злой.
Очень скоро Пыжик убедился, какая она вблизи – эта Васюковская злость.
Он шел по коридору. Было уже после уроков, и в школе было пусто. Ванюковскую компанию он просто не заметил – не заметил, честное слово, иначе бы зарулил на другой этаж и прошел бы там.
– Эй, ты!
Их было довольно много – человек пять или шесть. Он быстро подумал, можно ли крикнуть, и если крикнуть, то что именно.
Но мысль его была медленнее, чем Ванюков – тот в два шага приблизился к нему и сильно дернул за пришитый к рюкзаку хлястик.
– Хрен тут ходит какой-то, мелкий у…
Пыжик одним движением сбросил рюкзак с плеч и резко развернулся. Рюкзак полетел – но не вниз, а в сторону, тяжело приземлился на пол и проехал пару метров вбок. Без рюкзака он внезапно стал гораздо легче и легко ушёл влево, уйдя от следующего удара, уже не по рюкзаку, а по нему самому.
Кто-то был сзади него, и он скорее почувствовал это, чем увидел – удар, пришедшийся по по ноге, послал по его телу пульсирующую волну. Но это была еще не разрывающая боль, не такая яркая, чтобы от нее нельзя было разъяриться, и он разъярился – ударил сам, почти вслепую, сначала кулаком во что-то, что было прямо перед ним, он до конца не успел понять, что, а потом откинулся назад и всем телом сбил с ног того, кто ударил его сзади. Он потерял равновесие, и они упали вдвоем – тот, что был сзади, на спину, а Пыжик вместе с ним, но надо было только резко выпутаться, подняться, во что бы то ни стало подняться на ноги, иначе бы они начали лупить его ногами, а рюкзак, который можно было бы подтянуть к себе поближе, был далеко.
Он и не знал, что в голове может не быть ему привычных мыслей, а только такая животная, белая, раскаленная ярость. Желание вцепиться и ответить им тем же, чтобы они все поотлетали по стенам и размазались там.
Еще секунда. Он все-таки вскочил, шатаясь, на ноги, и хотел вмазать Ванюкову еще раз, и они вцепились друг в друга, и кто-то, кажется, опять бил ему в спину – неумело, отдельными неметкими ударами, как будто ковер выбивал.
В конце концов прибежала классная и разняла их, и орала так, что ее крики гораздо сильнее, чем все удары, полученные до ее появления, звенели у него в голове. Кажется, там были слова «матери» и «такой-то школе» и «не стыдно» и «недоумки» – он слушал невнимательно, вернее, не слушал вообще, потому что перед глазами у него все еще было ячеисто и слегка плавало, и сфокусироваться на ней было трудно. Ноги дрожали, а дыхание вырывалось короткими резкими вдохами, и ему очень хотелось сесть на пол.
Прооравшись вдоволь, классная взяла его за плечо и куда-то повела, и на пути он успел мельком увидеть выражение на Ванюковской роже. Из носа у того текла кровь. Пыжик не смог вспомнить, как она там оказалась, но испытал по этому поводу чувство глубокого удовлетворения.
Что его больше всего удивило, так это то, что в этом белом раскаленном озверении, которое наполнило его голову, совсем не было страха. Ему даже на секунду показалось, что он в буквальном смысле вылетел из себя, привычного себя, которому впадлу было даже ботинки утром завязать, вылетел, блеснул над толщей воды, как рыбка, и нырнул обратно.
Ванюков не оставлял его после этого. Ситуацию облегчало то, что они учились не в одном классе, а в параллельных, и пересекались не так часто, как Ванюкову бы того хотелось.
Он был зол и к другим – сначала Пыжик думал, что есть какой-то универсальный источник злости, который заставляет его изо всех сил наступать девчонкам на ноги, швыряться пузырьками в черной тушью в оконное стекло, воровать из портфелей, оставленных на скамейке на входе в столовую, все подряд, а потом растаскивать это по всей школе и прятать, как сорока, а иногда спускать прямо в туалет или заталкивать в мусорное ведро, и без того полное, потому что в него весь класс имел привычку пулять туда яблочными огрызками, ручками, бумажными шариками и жвачками, быстро извлекаемыми из-за щеки при появлении учителей.
Особенно опасно было в раздевалке. Пыжик не особенно боялся, но привык всегда оглядываться по сторонам, не прячется ли Ванюков между толстых рукавов пальто, чтобы напрыгнуть на него оттуда и, пока другие быстро стаскивают куртки с плеч и ищут свободный крючок, огреть его изо всей силы по голове учебником, или нанести несколько неточных, но все равно тяжелых ударов, из-под которых он уворачивался и выбегал, и несся по короидору, быстро. А потом так же быстро, стуча ботинками, возносился на третий этаж, мимо дежурных, которые орали ему вслед: «Не бегать!! Не бегать, кому говорю!!!»
Пыжик рассуждал так – сильно не достает, и ладно. Домой они ходили с Андрюхой вместе, а сразу двоих те не посмели бы тронуть. Да и как тронешь, когда вокруг народ, сигналят машины, а во дворах даже если и кажется, что никого нет, какая-нибудь бабуся обязательно смотрит из своего окна и истошно закричит, если вдруг что.
Все почему-то считают, что надо разговаривать. Что разговорами можно склеить и исправить что угодно. Пыжик уже лет в семь понял, что это вранье. В шестнадцать он только в этом убедился
Ну-ну. Ага, конечно. Если оно уже доползло до сердцевины, и там начало покрываться серой гнилью, то удачи вам в ваших исправлениях. Большой удачи.
Иногда перед тем, как заснуть, он не удерживался и строил планы мести. Поудобнее устроившись на подушке, он думал, например, о том, как столкнуть Ванюкова с бортика бассейна, или треснуть ему чем-нибудь по голове. Пройти мимо, как ни в чем не бывало, и повалить его на пол одним движением руки, или ловко поставленной подножкой. А когда тот, отплевываясь, вынырнет, бросить что-то типа «Тяжело быть таким тупым, да?», посмотреть сверху на Ванюковскую голову, сверху похожую на мокрую кеглю, и уйти.
Или запереть его где-нибудь, вытащив у дежурки связку ключей, а потом, небрежно открыв форточку, выкинуть их с третьего этажа.
Или опрокинуть ему в рюкзак открытую баночку йогурта. Так Пыжик уже почти сделал, не удержался, когда в столовой Ванюковский портфель внезапно оказался без присмотра. Но Андрюха дернул его за рукав в самый неподходящий момент:
– Ты идешь или че?
И момент, чтобы схватить тарелку каши и опрокинуть ее в Ванюковский портфель, был упущен.
7
Сезон олимпиад был в их школе особо опасным временем. Для олимпиад надо было выудить кого-нибудь из выпускного класса железной трехпалой лапой, а потом сжать и не отпускать, пока не удастся их запихнуть куда следует.
Запихивали, конечно, с упоением – да и те, кто выступал в роли плюшевых зайцев с вмятинами на боках, особенно не сопротивлялись. Отличники въезжали в олимпиадную машину сами, буквально с ногами, чтобы изчезнуть не насколько месяцев, а то и лет. Иногда вплоть до самого выпускного, а иногда всего на пару недель, чтобы потом опять появиться на первой парте, с лицом еще более кислым, чем раньше.
Всем остальным приходилось чуть легче – троечников брали редко, потому что у них в олимпиадную тему постоянно что-нибудь не влезало. То они писали как курица лапой, то активно сопротивлялись и выскальзывали из цепких учительских рук, то слишком много ошибок было, и отправлять «такое» на олимпиаду было опасно.
Пыжик никак не мог отделаться от мысли, что школьники для учительского аппарата были чем-то вроде дров. Их надо было использовать по назначению, пока не отсырели, и делать это побыстрее. Выдергивали из-за парт их быстро и не церемонясь -то для городской спартакиады черт знает по чему (может быть, челночному бегу, думал Пыжик хмуро; нет в мире занятия более бесполезного, чем челночный бег), то для географии, то для плавания.
Единственное, что его интриговало во всем этом – так это возможность вылететь из школьного мира. Почти вся его жизнь проходила в этой самой коробке, беленой снаружи, коричневой внутри. Андрюха называл этот оттенок «кофе, в который кто-то плюнул».
Вылететь все-таки подмывало. Особо неважно было, как именно, но вне этой коробки точно был мир, о котором он, Пыжик, ничего не знал. Но, когда происходящее внутри коробки его особенно задалбывало, начинал интересоваться им все больше и больше.
– Надеюсь, они меня никуда не отправят, – сказал он Андрюхе.
– А почему они должны… – Андрюха откусил огромный кусок булки, которую ухватил на перемене. – Отпра… ить?
– Да им, блин, только дай тебя куда-нибудь запихнуть, – сказал Пыжик раздраженно. – Не отвертишься.
– Типа на историю, что ли?
– Типа на литературу.
– Почему на литературу?
– Не знаю, почему, – огрызнулся Пыжик сердито. – Зинаиде в последнее время нравятся мои сочинения.
Зинаидой звали их литературичку. Полное имя у нее было занозистое – Зинаида Михайловна. Оно ей, впрочем, подходило, потому что она сама была безнадежно старой.
У нее были старые манеры – трогать себя за пуговицу кофты, вытягивать шею, которая шла гусиными складками. Она носила бежевые блузы, которые закалывала у горла огромной брошью. Брошь была похожа на что-то, что они в пятом классе лепили из глины, а потом сажали на клей.
На самом деле Зинаиде было, наверное, лет сорок. Или пятьдесят? В Пыжиковой голове это было примерно одно и то же. Зачем она так впечатывала в себя старость, Пыжик особенно никогда не понимал. Но литература в ее исполнении тоже становилась занятием для безнадежно старых людей. Пыжик не мог себе представить, кем вообще могут быть эти люди, кому нечем бльше заняться, кроме литературы. Наверное, те, что выглядывают из-за поеденных жуками-короедами кафедр или прячутся в глубине запыленных библиотек – где-то там, где среди толстых томов никто не сможет их найти.
И главное – это было Пыжику очень понятно, понятнее, чем кому-либо в классе – Зинаида совершенно ничего не чувствовала, когда говорила о книжках. Черт его знает, где была эта анестезия и куда попал укол – может, как раз в это морщинистое горло. Или в ее венах изначально было полное безразличие.
Класса Зинаида как будто побаивалась. Когда они доставали ее окончательно, она покрикивала скрипучим голосом:
– Тишина! Тишина!!
«Нравятся сочинения» тоже было сильно сказано. Разве что в последнее время она прекратила так черкать их, жирно зачеркивая слова и поверх них сразу пиша новые. Может, потому, что стегать Пыжика метафорической хворостиной ей надоело.
8
От всего ему в итоге отвертеться не удалось, и «городов» вышло три – история, английский, и третьим пристяжным литература.
От математики, на которую шли все-превсе, ему таки удалось отговориться. Туда отправили только Верзина. Андрюху тоже хотели – больше для острастки, чем чтобы реально участвовать, но он завопил так, что слышно было даже в соседнем со школой продуктовом магазине, и классная сдалась.
Пыжик был рад, что на математику его не отправили. Олимпиадная математика вызывала у него мучительное и тягучее чувство собственной тупости. На олимпиаде прошлого года, куда он имел несчастье поехать, это стало как-то особенно понятно. Тупость эта врожденная, вроде забора, через который он никогда не сможет перепрыгнуть. Как и посмотреть, что там, на другой стороне.
На английский у него было мало надежд – он, конечно, продвинулся дальше, чем одноклассники, просто потому, что английский ему нравился. Но найти что-то хорошее в языке, который для остальных был сборищем деревянных конструкций, а для Пыжика постепенно переставал таковым быть, было недостаточно. История ему нравилась.
А вот литература вообще получилась случайно – ему домой в последний момент позвонила их классная, и он, к несчастью, взял трубку. В тот день дождило, и Пыжик до сих пор был уверен, что не останься от дома, а пойди к Андрюхе, она бы до него не добралась.
– Зачем тебе вообще эта литература? – спросил тот, который пришел с тремя шоколадками «Альпен Гольд» и банкой пива «для поднятия морального духа».
Пить пиво Пыжик не стал, а сидел, подперев голову рукой, и мрачно пялился через окно в соседний двор, где на клумбе прямо посреди грязного снега скакал грач.
– Да незачем, – бросил он наконец, и потер подбородок. – Отправили, значит поеду, чего непонятного?
Он уже привык к тому, что его вечно куда-то отправляют – мать подталкивает в спину, повязав шарфом, учительница шикает на ухо, втискивая в аудиторию, сосед со своего балкона кричит «эй, малой, пойди сбегай до магазина!», и он плетется, покорно, просто потому, что так они быстрее оставят его в покое.
– А о чем собираешься писать? – спросил Андрюха с интересом.
– Где – там?
– Ну! На городе, где еще.
«Городом» называлась городская олимпиада. По идее должна была быть еще и школьная, но ее классной организовывать было неохота, и и они отбирали кого придется, чтобы отправить сразу на городскую.
Пыжик от души потянулся, выгнув спину колесом. Толстовка в районе подмышки слегка затрещала.
– Ну… про что дадут, про то и буду писать.
На самом деле он понятия не имел, о чем собирается писать. Сочинение и есть сочинение. Это не играло особого значения.
Литературу – весь этот громоздкий аппарат, железяки, которыми надо было ворочать, чтобы препарировать текст на волокна, которые члены всех на свете комиссий хотели бы видеть на своих столах – он не любил. Как ее можно было полюбить, эту махину, этот гигантский циркуль, которыми почему-то предполагалось тыкать в мягкую писательскую фантазию, как будто это мешок с золотом, который надо проткнуть.
Что он любил, так это книжки. Хорошие книжки от плохих отличить очень просто – хорошие открывали дверь, а плохие – натягивали пелену текста над тем, что на самом деле происходит, и надо было карабкаться и съезжать, вглядываться, как через полупрозрачную ткань, но кроме слов там так ничего и не было видно.
Интересно, думал Пыжик, для всех остальных книжки – это то же самое, что для меня? Или для них книжки – это просто книжки? Страницы, исписанные словами, или места, где они когда-то были? Потому что я был в этих местах – на кораблях, в садах, в цветниках и больницах, на дощатом полу подвалов и на камнях площадей. Внутри космических кораблей и даже внутри самого космоса, когда видишь землю сверху, бело-синий крутящийся шар. Я был во всех этих местах, и, наверное, они были тоже. Не мог же я быть единственным, кто там был.
Иногда, когда на уроке ему становилось скучно, он принимался думать – а зачем вообще они все это написали? Слова Зинаиды доносились до него откуда-то издалека и были слышны совсем глухо. Можно было смотреть на портреты над доской и думать.
Андрюха эти портреты не одобрял.
– Замшелые придурки, – бросил он когда-то.
Пыжик даже не был уверен, что Андрюха знает, кто на этих портретах есть кто. Тот, что в пенсне, смотрел в окно, и вид у него был то ли безмятежный, то ли равнодушный – в зависимости от освещения. Пыжик был почти уверен, что настроение у него в тот момент, когда портрет писали, было неважное. Совсем как у него, когда надо было фотографироваться для классного альбома – уши торчали, один глаз получался выше другого, а волосы блестели странным блеском крышки рояля, масляным, влажным блеском, на который Андрюха потом смеялся.
– Ты у нас гелем пользуешься, что ли?
– Отвянь.
Мужчина на другом портрете стоял прямо. Плечи у него были не сгорблены, как у старшеклассников на линейке, а с силой отведены назад. Он не смотрел ни вниз, на учеников, ни прямо перед собой, ни даже на дверь, на которую сам Пыжик поглядывал с надеждой. Он, казалось, просто стоял посреди комнаты, и бросил только один взгляд на художника – как последний взгляд постороннего, который сейчас выйдет из вагона и исчезнет – и это выражение так навсегда и застыло у него на лице.
Пыжик смотрел и представлял – они были в сюртуках, халатах, неудобных сапогах, которые почти наверняка дубеют и их приходится долго натягивать на ногу, а потом даже не топтать, а бить обо что-то твердое, чтобы хоть немного размягчить. В косоворотках, в пальто, в шинелях, в один раз и навсегда скроенных куртках.
Зачем им было все это писать? Просто потому, что утром заняться больше нечем – после обязательных писем, которые приплывали им под нос на серебряном блюде?
Пыжику все время казалось, что что-то не так. Что все здесь не так – они должны были оставить какую-нибудь опись, пояснение, инструкцию для тех, кто ничего не понял.
Но вместо этого осталось только то, что они оставили на бумаге. Лукавость. Насмешка. Отклик. Эхо. Игра расплывчатых отражений.
Они как бужто подмигнули мне и пропали, подумал Пыжик. Подмигнули, а разбираться мне потом.
Пыжику нравились писатели, которые раздергивают реальность – на два, как сосед по парте украдкой разнимал половинки бутерброда, отклонившись в проход, чтобы училка не заметила. В середине было масло, и оно расклеивалось между двумя слипшимися хлебными треугольниками. Один сосед отправлял в рот, а другой снова заворачивал вместе с колбасой в бумагу.
Писатели, которые умели так же разорвать происходящее, жили как будто одновременно в двух мирах – один настоящий, где солнце грело поверхность парт, а второй их собственный, трехмерный, спрятанный мир, который откидывался, как плацкартная полка, и открывал глубины.
Не так уж и часто у него было ощущение, что он покрывает длинную дистанцию, пока читает – надел сапоги-скороходы и несется над сверкающими городами, с любопытством заглядывая в них сверху. Не так-то уж часто ему случалось остаться в книге насовсем. И тогда, когда он запихивал длиннющий шнурок в ботинок, опасаясь, что мать выставит его за дверь. И когда, когда он не доносил до рта ложку густой овсянки, брякнув ее обратно на тарелку. И даже тогда когда в пятый раз за день звенел звонок, и надо было слушать и не ерзать, а он смотрел, как над учительской головой собирается столб пыли.
– И зачем только нас здесь держат? – спросил Андрюха, вынимая изо рта приличного размера ком жвачки и пальцем придавливая его к обратной стороне парты.
– Черт его знает.
Пыжик пожал плечами.
Свет упал на портрет так, что человек там улыбнулся.
Пыжик только посмотрел на него в ответ.
9
На всякого рода соревнованиях Пыжику обычно было неловко. Проводились они обычно по воскресеньям, когда никому и без того неохота было идти в школу, но вот, приходилось – поэтому городская олимпиада была столпотворением недовольных людей. Сам он приехал на городскую с опозданием, боком втиснулся из маршрутки и понесся, по привычке подпрыгивая, по аллее.
В холле было непривычно людно, и листочки, чтобы записаться – имя, фамилия, школа, класс – раздавала донельзя заспанная женщина жалостливого вида, которая, тем не менее, внимательно прочитала Пыжиков листок. Чтобы проверить, правильно ли он пишет собственную фамилию, видимо.
– Пыжик? – она вопросительно подняла на него глаза. – Алексей.
– Да.
– Второй этаж, класс номер сто тринадцать!
И Пыжик побежал.
В коридорах он проносился мимо таких же, как он, заспанных и помятых людей – большинство лиц были незнакомые. До начала оставалось три минуты, и они тоже куда-то спешили. Процентов двадцать олимпиады заключается в том, чтобы бегать по незнакомым коридорам, вот честно, подумал Пыжик. И еще десять в том, чтобы подписывать тетради. Интересно, а до сочинений на компьютере все когда-нибудь дойдет?
Думая все это, Пыжик продолжал продвигаться рысью. Плечом он в кого-то врезался и почти промазал мимо двери номер 13, но в итоге все-таки ввалился туда, к неудовольствию дородной заспанной женщины, которая сидела за учительским столом.
– Фамилия? Школа? Не опаздывать надо!
Как будто если бы он не опоздал, она была бы менее заспанной и недовольной.
К тому моменту, когда у него благополучно отобрали рюкзак и начали раздавать пустые тетради, в кабинет принеслась более молодая и более озабоченная учителка, плюхнула на стол дородной кипу листков, кивнула ей и унеслась – Пыжику ничего не так хотелось, как положить на парту локти и заснуть. Он знал, конечно, что его разбудят, но все равно – спать хотелось неимоверно.
Позавтракать, выскочив утром из дома, он не успел, и от этого было еще хуже.
Звонок зазвенел. Он звенел долго и противно – гораздо дольше, чем в их школе.