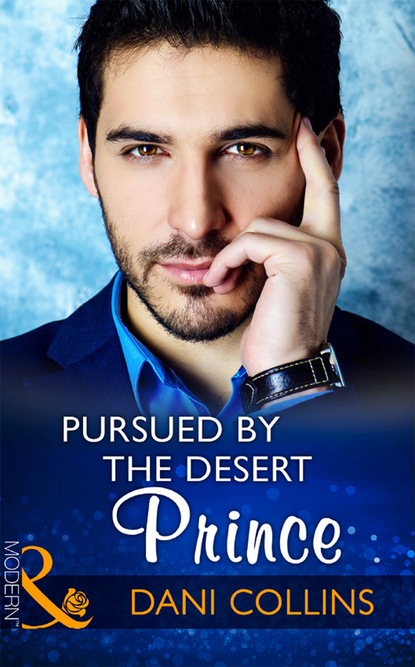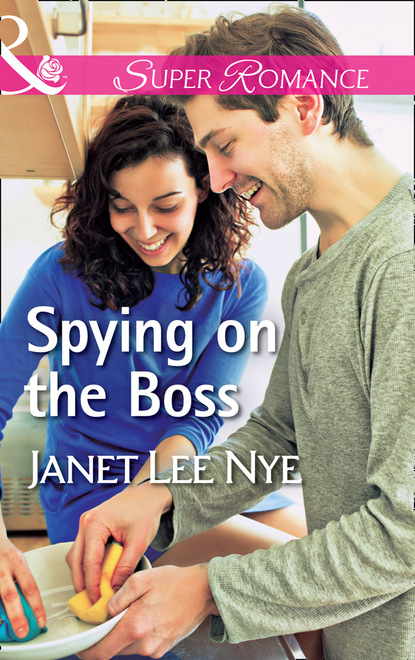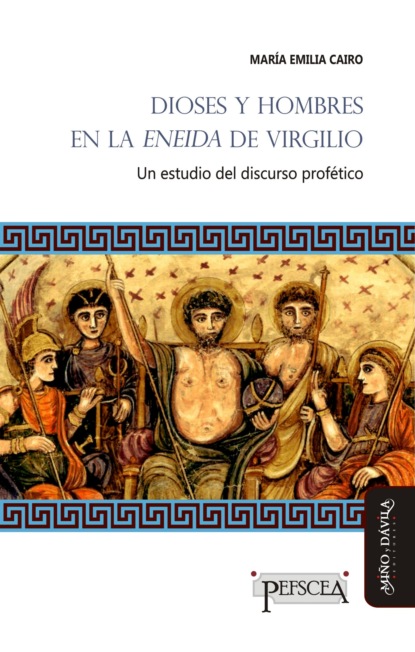- -
- 100%
- +
– Начинайте! У вас три часа! – повелительно крикнула дородная.
Ладно, подумал Пыжик. И нехотя перевернул листы, лежавшие на столе белой стороной вверх.
Разобрать надо было рассказ и стихотворение. На все про все три странички. Кто там говорил, что рассказ это пуля, которая вылетает и должна долететь вовремя? Пыжик лениво отклонился от пули, решив написать про стихотворение первым.
Ладно. Быстрее начнем, быстрее получим два, как говорил Андрюха, с сожалением приступая к контрольной по математике. Надо просто что-то написать, править все равно не придется. И Зинаида, к счастью, этого никогда не увидит.
В прошлом году, когда по дороге в школу ему неуклюже врезались в лоб здоровенные майские жуки, его позвали третьим партнером в вальс по случаю последнего звонка. Пыжик понятия не имел, что такое третий партнер и почему именно третий, а не четвертый или, скажем, пятнадцатый – его, как обычно, выловила чья-то цепкая рука в коридоре и держала крепко, пока не опустила на скамейку в углу актового зала, держала так, что возможности вывернуться на было. Он и сидел там, сплетя ноги и немного завалившись налево, и смотрел, как на сцене кружатся пары – девочки в фартуках и два потных одиннадцатиклассника, поддерживающие их под руки, неловко взявшись снизу за локоть, как канделябр и свеча.
Третья девушка кружилась сама по себе – она была без фартука, а просто в юбке, и сосредоточенно шагала – вперед, влево, поворот, вперед, влево, еще поворот. Обе руки она выставила перед собой и согнула в локтях, как будто на них должен был кто-то запрыгнуть, и потом его надо было подкинуть в потолок. Подошла учительница, что-то ей сказала – та кивнула и слегка свела руки вместе, и теперь, подумал Пыжик, это выглядит так, как будто в них зажат невидимый ананас, которым она готовилась пульнуть в первый ряд. Не выпуская ананаса из рук, она продолжила сосредоточенно топтаться.
– Я не умею танцевать, – сказал Пыжик, как только цепкая рука – вокруг запястья часики на тонком черном ремешке – снова взяла его за запястье.
– Что за чушь! Конечно, умеешь!
Чтобы показать свое пренебрежение, он завязал на поясе куртку – крепко затянул, чтобы не съехала вниз. Бросил последний взгляд на рюкзак – тот так и валялся на скамейке у стены, подмигивая ему желтым карманом. Подошел, не глядя на нее. Остановился напротив.
– Так. Руку на лопатку, другую взять в свою! И…. раз! Два! Три! Четыре! Влево! Поворот! Влево!
Руки у нее были неприятные, лягушачьи, а глаза водянистые и совсем светлые. Над верхней губой выступил пот, а на подбородке, в который он уперся взглядом, торчали редкие белые волоски. Она так сильно сжимала его ладонь, что пальцы начали белеть. Руку он нарочито аккуратно заложил ей за спину, как за шкаф, когда шарил там в поисках нужной книги, и так и держал ее плоской, чуть прижав к ее лопатке.
Я не здесь, подумал Пыжик, как всегда думал в случаях, когда ему было очень неловко. Я не здесь, не здесь, не здесь. Я где-нибудь еще.
– Держи крепче, ты меня не держишь совсем! – шикнула она и поправила его ладонь.
– Чего тебя держать – ты что, упадешь?
– Ти-хо!
Пыжик посмотрел в потолок. Под его ладонью пузырилась блузочная ткань, а ее дыхание – теплое и чуть кислое – было у него на скуле. Он скривился и почти выпустил ее руку, но она уже увлекла его в следующий поворот, и он послушно, как оловянный солдатик, повернулся на месте, потом еще раз, а потом еще.
– Отступить – приблизиться, отступить – приблизиться! Да, Леша! Да! Да! – в голосе училки слышалось удовлетворение.
– Ты выглядишь, как идиот, – бросила девушка и провернулась под его рукой.
– Сама-то че? – шикнул он в ответ и слегка отодвинулся. Она от злости дернула его руку, так, что мышцы неприятно заныли.
Отступить – в ней выхватывалось все ненастоящее. Обкусанные губы, к которым налип вишневый блеск – наверняка она носит его в пенале, он лежит там и протекает, и пахнет дохлым персиком. След под блузкой, где бюстгальтер впивается ей в бок. Полоски тонального крема на висках, пыль, когда с них осыпается пудра. Комки туши на коротких ресницах, неподшитый подол юбки, которая то и дело забивается ей между коленок. Приблизиться – она становилась реальнее, обеспокоеннее взгляд, движение, которым она закусывала нижнюю губу, пряди, висевшие по обе стороны лица, и шелковая занавеска челки, которая колыхалась туда-сюда.
– Ты слушай музыку, слушай! – посоветовал он снисходительно, когда завывания про то, что не повторяется, не повторяяяяется, не повторяется наконец замолкли.
– А ну заткнись!
Интересно, что будет, если и в тексте попробовать отступить и приблизиться, подумал Пыжик, дочитав страницу номер один и переходя к странице номер два. Страницы было всего три, но часа на задание тоже три, поэтому он никуда не торопился.
Отступить – создать достаточное расстояние между собой и тем, что там говорят. Но не так далеко, что перестать слышать. Приблизиться – засунуть свой нос герою за воротник, в угол его комнаты, на испачканный чернилами указательный палец, в отвратительный запах его сигарет. Пыжик почему-то представлял, как они дымятся чем-то вроде ядерного гриба, который поднимается к потолку его комнаты на месте катастрофы. Гриб клубился так густо, что закрывал почти все героево кресло.
Герой постоянно что-то теряет, написал Пыжик. У героя постоянно где-то дыра. Дыра ли там, где автор не смог придумать, что сказать, или там, где ему, то есть автору, намеренно надо было увести внимание от собственных прохудившихся штанишек – непонятно.
Отступить – можно посмотреть сверху на дом, где живет герой, или, например, на то, как он бросает на стол сигарету. Дались ему эти сигареты, подумал Пыжик раздраженно – как будто они не специально провели десять лет, вдалбливая нам, как плохо курить, чтобы в каждой книжке потом смолить и черкать спичками. Или с этой, как ее. Махоркой. Значение слова «махорка» он знал приблизительно, и в его голове она была чем-то вроде кучки остывшей заварки на мокром чайничном дне. Как она выглядит на самом деле, Пыжик понятия не имел. Как порох, может быть.
Приблизиться – если приблизиться, то надо, наверное, искать литературные средства, подумал Пыжик с тоской. Их искать как грибы ночью в лесу, пусть и с фонарем – вечно попадалось под руку что-то не то, лезли в кулак корни, метафоры пихались туда, куда он уже давно написал, что это метафора, и надо было выискивать что-нибудь еще.
С героем пока что ничего не происходило, и это Пыжику не нравилось. Рассказ был неинтересный, по крайней мере первые две страницы, которые он успел прочитать, стараясь игнорировать, как ожесточенно бегает по бумаге ручка соседки слева. Как сильно она нажимает на стержень, как сжимает губы, как морщится и выдавливает из себя что-то, примерно как тюбик с зубной пастой – нажимаешь пальцами изо всей силы, а белый червяк все равно то появляется, то исчезает в узком горлышке.
Пыжик посмотрел на пустую тетрадную страницу вопросительно.
– Про что этот рассказ? – так говорила Зинаида, вытягиваясь макушкой к потолку класса, от чего ее пучок, и без того высокий, поднимался еще выше. – Все ответим на вопрос, про что этот рассказ!
Пока что рассказ был про то, как герой сидит в комнате и ждет смерти. За три страницы не произошло ровным счетом ничего, и ожидание, в котором они с героем теперь вместе сидели, казалось Пыжику чем-то вроде ожидания школьного звонка. Еще пять минут. Еще три минуты. Можно оторвать ручку от листа. Еще одна минута – засунуть ее в пенал и застегнуть молнию, придвинуть портфель, сорваться с места…
– Чему можно научиться у текста?
Это уже следующий вопрос. Она задавала его, стуча длинной указкой по зеленой доске, и выжидательно смотрела на класс – к счастью, в основном на тех, кто сидел на первых партах. Марышева отвечала, не удержавшись, очень тонким голоском, а Петра потом поправляла – примирительным тоном. Тон у нее почти всегда был примирительный. Ответы Марышевой Пыжик почти никогда не слушал – вот еще.
Пыжик дочитал до конца. Посмотрел на часы – прошло двадцать минут. Думать выходило медленнее, чем читать. Герой то ли умер, то ли нет, было непонятно, как будто автор вертел-вертел правдой у него под носом, а потом увел, спрятал за спину, заставил угадывать, в правой или в левой, в Пыжик угадал неправильно, и теперь смотрел на пустую щепотку, где должен был быть ответ, а получился только щелчок пальцами.
Почему они все время прячутся за словами, подумал он раздраженно. Как будто надо возвести целую стену слов между собой и читателем, чтобы они уж точно не поняли, остался герой там, в этом облаке дыма, или в этом облаке ничего и не было, ни его, ни его сигарет, ни смерти.
«Герой размышляет о том, стоит ли ему жить», – написал Пыжик. – «И приходит к выводу, что». К какому выводу приходит герой, он уверен не был, и поэтому подпер подбородок колпачком ручки и снова перелистнул на первую страницу. Он попытался немного подумать о смерти. Это не дало особенных результатов – смерть для него была словом пустым, белым, проскакиваемым. Ее не произносили, не выговаривали, и так было даже удобнее – он давно договорился сам с собой, что люди не умирают. Они просто исчезают, растворяются, как спина в тумане – и их становится не видно. Но если их не видно, еще не означает, что их нет, верно?
Вот бы автор лучше написал о том, кто точно был жив, а не о том, кто сидит в ожидании смерти, думал Пыжик, с независимым видом корябая дальше. Ему очень хотелось нарисовать на полях рожу, чтобы повеселить олимпиадную комиссию, но он удержался.
Про тех, кто всегда с тобой, как -то сразу в голове появляется много интересного. Полноватые руки, взлетающие над доской для формовки в облаке пыли. Родинка на внутренней стороне плеча – такое белое, такое мягкое, и он любил хвататься за него, когда был маленьким, и слегка трясти, и виснуть на ней, гыгыкая. Он сидит, положив подбородок на стол, и смотрит, как упругой колбаской раскатывается тесто, как переливается в миске начинка, как искрят маленькие частички лука, которые она только что добавила – сверху, чтобы не смешались с фаршем. Скалка летает туда-сюда, то опасно приближаясь к его носу, и он чуть подается назад, то снова разравнивая тесто на другом берегу стола.
Когда ее не стало, место не осталось пустым – каждый раз, когда заходил в малюсенькую кухню, он представлял это нежное облако муки, ее руки, вот те же самые руки, на которые он смотрел с не меньшим восхищением, чем смотрят в первый раз на радугу, или на масляные картины какого-нибудь итальянца, который писал их, будучи подвешенным в люльке к потолку. Каждый раз она была там, просто потому, что одного его воспоминания хватало для того, чтобы ее вернуть. Она исчезла куда-то, и пельмени теперь некому лепить – он почти забывал, что ее нет, и какой-то частью себя все равно думал, что она есть, не могла она пропасть просто так. Его не пустили на похороны. Потому что был слишком маленький. Это давно было. Он уж и не помнил, когда.
А пельмени помнил.
Пыжик опустил голову и посмотрел на лист.
– Прочитай рассказ по-другому, прочитай рассказ еще раз, – что-то такое он слышал в электричке. Бледная и наполовину смытая женщина в застиранном джемпере вытянула руку в проход и теребила плечо девочки, которая сидела позади него. – Не забудешь, что мы с тобой повторяли?
Девочка разлепила глаза, обернулась и посмотрела на нее недобро.
– Не забуду.
Ладно, думал Пыжик зло. Попробуем прочитать этот самый рассказ по-другому. Что насчет героев? С героями все просто – их не было, кроме того, что в кресле, ну и его друга. Друг был как галочка – всунут сперва в начало, а потом в конец, и то выходил, то входил из героева мозга, как в ткань входит игла. Пыжик устал следить за его перемещениями, да и цель, зачем он там был, была не совсем ясна.
Не очень-то друг этот друг, конечно. То уходит незнамо куда, то рвется в закрытую дверь. В закрытую рваться интереснее, потому что открытая это обычно символ. Надо запустить туда кого-нибудь, чтобы так просто не стояла.
Подделываться под других было проще. Это немного как сольфеджио – когда он первый раз открыл пустую нотную тетрадь и должен был записывать ноты, которые слышит, а слушал он невнимательно – Пыжик посмотрел на женщину у фортепиано так, как будто она сошла с ума.
– Нет абсолютного слуха, – она привстала со своего стульчика, чуть отдернула на окне занавеску, и поправила полудохлое растение, которое там стояло среди стопок нот. – Абсолютного слуха нет. Пыжик записал в нотную тетрадь «си». Это было просто – рисуешь кругляшок между двумя строчками и плотно закрашиваешь карандашом, не забывая пририсовать ему ножку – палочку вверх.
Женщина у фортепиано посмотрела на него неодобрительно.
Он так и не понял про ноты, но подделываться под других было интересно – у кого-то фраза раскатывалась, у кого-то свистела, один так вообще звонко опускал свои «л» в пустоту, как будто капли падали. Как, интересно, у некоторых фразы выходят такими ладными, плотными, положенными друг на друга, а у кого-то перескакивают с одного на другое, как будто нервишки шалят. Пыжик представлял, как автор обрезает фразы – от слишком длинного предложения остается верхушка, как от колбасы, и со всего текста, если состричь с него лишнее, осыпаются слова. Интересно, кто-то подбирает выплюнутые на обочину слова? Пусть они даже и банальные, и не подходят под общий порядок. Ему казалось, что отзвук от них в тексте все равно есть – их стоило сохранить, не сметать пушистые горки в мусорное ведро. Не так спешить отсекать ненужное, поиграться с ним немного – авось что-то и выйдет.
Почему никто не говорит о том, что подбирать интереснее, чем искать, подумал Пыжик. Во-первых, подбирание случается просто так – детали валяются везде, в любом мире – что космическом, что земном, нет недостатка в потерянных деталях. Во-вторых, для подбирания не надо делать таких усилий – ориентироваться по картам, шарить с фонарем, куда-то специально снаряжать экспедицию. Подобрать можно хоть сегодня, хоть завтра – в школьном дворе или на уроке физры. В-третьих, подбирание это всегда сюрприз – никогда не знаешь, какая вещь тебя найдет в следующий раз. Пыжику нравилось думать, что это не он находит вещи, а вещи находят его. В них падает свет, и точно тогда, когда он идет мимо, они выпрыгивают из фона и обозначаются, и начинают для него существовать. Может быть, это всего лишь обертка от творожного сырка, брошенная в траву, а может быть, цепочка с овальным пыльно-голубым медальоном – он как-то раз нашел такую прямо под качелями.
Подбирание стало в некотором роде его специальностью – не то, чтобы он был коллекционером и так уж любил рассматривать то, что обнаружил. Но, если повторить этот трюк достаточно раз, то можно перенести его на что-нибудь еще. На людей, например. Можно подобрать их привычку стучать треугольником по парте, или надвигать на переносицу очки, или откидывать волосы с глаз – подобрать и спрятать, отметить про себя. Подобрать их любимые выражения – очень просто, даже стараться не надо, они сами выскакивают изо рта. Подобрать ругательства, острые или смешные, подобрать то, как качается у них на рюкзаке висюлька, когда они с опозданием влетают в класс. Подобрать привычку опаздывать и виноватый затылок, когда они опускают голову пониже, как будто боятся, что сейчас по нему заедут ладонью.
Подобрать чужой стиль не так просто, но можно и его, наверное, подумал Пыжик философски. Писатели наверняка что-нибудь цепляют друг у друга – стреляют, как сигареты, и посмеиваются, что они первыми нашли. Кто первый опустил в карман, того и ценность.
Может, они и фразы, которые остались от какого-нибудь шедевра, подбирают – или мысль, которую вообще-то можно было всунуть в классическую пьесу, но бородатый мыслитель поленился и оставил ее лежать, где была. Странно – все, кто хоть что-нибудь сделал для школьной программы, были бородатыми. Пыжик почесал бровь тупым кончиком ручки и решил оставить эту мысль.
Пока он писал, с ним произошла странная штука. Сам он, его тело как будто бы было внутри скафандра, а все, что происходило снаружи – бумага, лист, синие строчки, которые он видел, как появляются на листе одна за одной – было вне скафандра, в космосе. Он сверху и издалека смотрел на то, как его пальцы сжимают ручку. Как выводят очередное слово, ставят очередную запятую. Как переворачивается тетрадный лист, и буквы начинают бежать снова.
Он понимал, конечно, что писал – но одновременно и наблюдал за тем, как пишет, и страница бесконечно удалялась, а потом бесконечно приближалась. Интересно, это потому, что он ничего не ел? От перенапряжения, и сейчас он упадет в обморок?
Пыжик посмотрел на часы, оглянувшись назад – они висели на стене позади. Наблюдающая, подняв голову, сердито зыркнула на него – но он показал подбородком на циферблат и пожал плечами.
От положенных трех часов оставался час. Куда делись два, которые он писал? Он в жизни не писал подряд так долго.
Голова у него была странно чистая, как будто кто-то прибрал ее от беспорядочных мыслей. Обычно они кучковались, особенно не спрашивая, и лезли ровно тогда, когда были нужны ему меньше всего.
Пыжик сидел внутри этой чистой и легкой головы, и ему не хотелось уходить. Ему хотелось еще немного побыть там, в этой комнате с вымытыми полами, всей залитой солнцем, и сидеть на выскобленном полу, и смотреть сверху вниз в окно, как обычно, кгда он ждал мать с работы и смотрел, не наступает ли вечер.
Попишу еще немного, решил он. В конце концов, чего нет в страничном рассказе, что нельзя раскатать на десять страниц?
10
Когда пришли новости, что он занял на городе третье место и едет на регион, у Пыжика не было никаких особенных чувств. По правде говоря, он думал, что это ошибка. Однорукий бандит под названием «комиссия по проверке олимпиадных заданий» выдал его имя, и ему ничего не оставалось, как подчиниться.
Зинаида не сказала ничего. Наоборот, ее прежний холод стал еще холоднее, и от нее уже почти дуло арктическим ветром. Она проплывала мимо и смотрела на Пыжика так, как будто не узнавала. Наверное, готовится к разочарованию, решил Пыжик.
Ну что же, долго ждать ей не придется.
По мере того, как регион – региональный этап олимпиады – становился все ближе, внутри Пыжика начало что-то шевелиться – он толком не мог понять, что это было такое. Все шло как обычно – уроки начинались и заканчивались, звонок звенел и звенел, Андрюха храпел рядом с ним, дожидаясь, пока все это закончится.
Зинаида иногда подсовывала ему какие-то пособия. Он пытался их читать, а потом, когда глаза застревали на странице, вежливо возвращал их, кладя на самый краешек ее стола, чтобы она не сразу заметила.
Это была не единственная область, на который ему предстояло ехать – каким-то образом он попал и на английский тоже, но там он был хотя бы не один. Вместе с ним ехали еще пять или шесть девочек «из профильного», которые все как одна были тоненькими и с длинными белыми волосами, которые они носили распущенными. Всех их звали Аня Ну, или почти всех. Марышева не попала, и очень печалилась по этому поводу. Верзин попал – конечно же. Строго говоря, ему и не надо было никуда «попадать», потому что он ехал на Всерос по физике автоматически. По сумме заслуг предыдущих лет, так сказать.
Мимо истории Пыжик, правд, пролетел, и это было обиднее всего.
– Наверняка было бы интереснее, – сказал он Андрюхе.
– Да? – спросил тот, задумчиво вкладывая жвачку в рот. – По-моему, они все отстой.
– Отстой, но ехать все равно надо, – Пыжик вздохнул.
Как, черт возьми, у него получилось завалить историю, но не завалить литературу, на которую ему было совершенно наплевать? И английский. Это же просто насмешка какая-то.
Холодная штука внутри Пыжика перемещалась и ездила туда-сюда, и чем ближе придвигалась дата областного этапа, тем холоднее она становилась. Он упорно отпихивал ее, а она опять дружески придвигалась обратно, как навязчивый собеседник на автобусной остановке.
Иногда Пыжик поглядывал на Верзина – тот сохранял свой обычный невозмутимый вид. Интересно, что тот делает со своей ледяной глыбой? Ничего, потому что этот самый железный механизм в его башке, который знает наперед все решения задач и по математике, и по физике, всегда работает, никогда не ржавеет, не пылится, не скрипит и не сдаёт? Он всегда подозревал, что это так устроено – дай задачку, и лоб его, загорелый от лыж с родителями на горных склонах, или от футбольного клуба каждые выходные, или черт знает от чего еще, засветится внутренним светом. Шестеренки внутри этого самого механизма зацепятся друг за друга, и шарик покатится по тоненькому желобу, и звякнет что-то – и вот, он уже начинает писать. И пишет ровно то, что нужно – а не ходит, как он, Пыжик, кругами, и решение у него не растекается по листу неудобной лужицей. Оно сразу четкое и правильное, это самое решение. Все эти штуки, которые у него спрашивают, сами начинают крутиться и вращаться в Верзинской голове, а тот только располагает их таким образом, чтобы удобнее было записывать решение.
Поэтому неважно, думал Пыжик, в какой Верзин сидит аудитории – городской ли, областной, или какого-нибудь универа, с партами и стульями, усыпанными занозами и надписями, которые уже въелись туда намертво. Черная коробка его мозга просто включается, а всем остальным нам приходится вздыхать, потеть и прилаживать к решению уже известные им куски, вместо того, чтобы изобретать его – то есть решение – заново.
Но ничего особенно выдающегося у меня в мозгу не происходит, подумал Пыжик. Вот в чем проблема. В отличие от мозга Димы Верзина.
Нам всем постоянно твердят, не затыкаясь, что все равны, и что, если мы нормально сдадим экзамены, то у всех у нас равные возможности. Что выбор есть, и выбирать будет из чего, и что кто-то будет нас ждать за этой самой закрытой дверью.
Но школа, блин, сама школа уже и есть первое доказательство, что люди – ни фига не равны.
У кого-то отлаженный механизм вместо мозга, и там уже лет в шестнадцать лязгают железки, которые будут ладно лязгать всю оставшуюся жизнь. А у кого-то месиво, или, скорее, крошево, как из вдавленных в глубину рюкзака печенек, из которого он, Пыжик, иногда вылавливал то дату, то имя, то формулу, то дату, то цитату. И то – чаще всего оказывалось, что формулу он запомнил неправильно.
Ничего внутри, в моей башке, нет, думал Пыжик с тоской. Кроме наростов воспоминаний – толстые, неровные, которые зачем-то подворачивались ему под руку, когда он искал совсем не это.
– Да не завидуй ты, – сказал Андрюха.
Как обычно, походя, и даже не посмотрев в Пыжикову сторону.
– Перестань. Он индюк, и больше ничего.
– Я и не завидую.
Это прозвучало ненатурально, и Андрюха покосился на него.
– Ага.
11
На регион они поехали вчетвером. С Зинаидой, естественно. С кем же им было еще ехать, как не с Зинаидой. Ей даже доставляло удовольствие произносить это полностью «региональная олимпиада по литературе», и в этой фразе Пыжику слышалась странная комбинация «липы» и «дуры».
На олимпиаду в итоге поехало трое – полноватая девочка, которая всю дорогу не отрывалась от книжки «Методы анализа художественного текста», такой толстой, что держать ее, очевидно, стоило ей немалых усилий. Тонкий остриженный очень короткое пацан, как будто парикмахер специально старался обкорнать его как следует – Пыжик не знал его по имени, понятия не имел, из какой он школы, но вроде бы видел его, когда бежал на городе по коридорам. Тот был в джинсах и свитере размера на три больше, мандаринно-оранжевого цвета, который доставал ему почти до колен.
Оба были младше Пыжика – девочка на год, а пацан на два.
Сам Пыжик по такому случаю был завернут в черный пуховик и шарф. На платформе, пока ждали электричку, Зинаида зачем-то придерживала его за дутый рукав, а тонского пацана – за капюшон. У пацана был скорбный вид, как будто его привели сюда против его воли. Впрочем, наверняка так оно и было. Пыжик походя заметил, какие неприятные пальцы у Зинаиды – сухие, обветренные, но цепкие, точь-в-точь прищепка для белья – и с трудом удерживался, чтобы не стряхнуть их со своего рукава.
– Интересно? – спросил Пыжик у девочки, заглядывая в страницу, которую она читала. Бумага была сероватая, буквы убористые, и ничего конкретного он не успел прочитать, потому что она проворно выдернула книгу у него из-под носа.
– Может и не интересно, но мы же на литературу едем, – бросила она угрюмо. – Тебе-то что?
– Ясное дело, на литературу, – отозвался Пыжик. – Не в Гондурас же.
Она поджала губы и покосилась на него.
– Как тебя вообще взяли-то? Ты, небось, пишешь-то с ошибками. – сказала она. – Кроме школьной программы ты что, вообще ничего не читал?
Пыжику хотелось сказать, что он и школьную программу-то не оценил, но рядом сидела Зинаида. Поэтому он, почти автоматически, прибег к Андрюхиной стратегии.