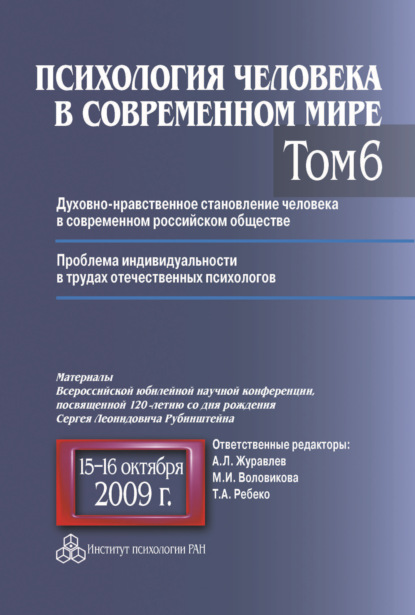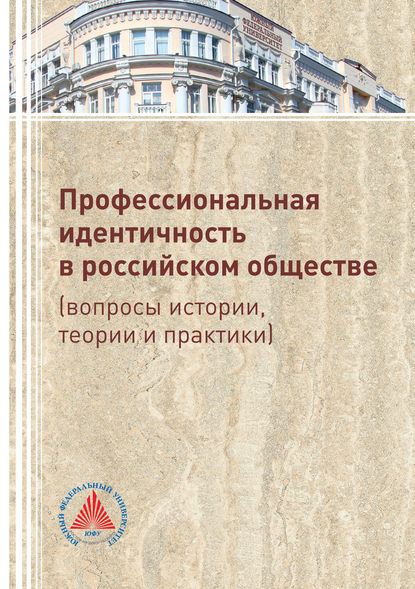- -
- 100%
- +
Эта небольшая смирная речка напомнила другие, более буйные, кипящие меж отвесными скалами кавказских гор. Ещё там любил наблюдать этот дикий нрав горных рек и сравнивать с жизнью людей, рассуждать, сопоставлять. Тогда его жизнь напоминала клокотание горного ручья, а сейчас на закате должна была походить на эту, что движется покойно по ровной местности, перед глазами… Должна быть такой, но нет покоя…
За многое цеплялся ум, на одном предмете еле касался, слегка по поверхности, на другом задерживался, обнимал его своим внутренним взором, пытался расчленить его на атомы. Мысли его касались великих и не особо «великих» не задерживался на них, но вот подумалось о совсем мальчишке, горные реки напомнили, юном корнете, что написал «Тамань»:
– Ах! как написал этот мальчишка, где такие слова взял и каким образом сочетал их между собою в такую стройную удивительную картину, ну что тут поделаешь? поразительно… И «какие силы были у этого человека… Каждое его слово было словом человека власть имеющего… Вот в ком было это вечное, сильное искание истины. Если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский. Вот в ком было это вечное, сильное искание истины! Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог!..» [5], – и не было в его словах и намёка на едкость, что нередко встречалась в разговорах о поэтах, писателях. Никого не возвышал и не возвеличивал этот столп литературы русской, а здесь словно не он и не узнать того Льва, что и себя, не жалея бичевал не раз…, – Все эти великие и вовсе невеликие, а так мнящие себя таковыми…
Небольшой порыв ветерка донёс дымок далёкого костра, ароматы готовящегося завтрака… Где-то на другом берегу Воронки уже текла жизнь то ли заядлых рыбаков, то ли ребятишек с ночного… Втянул в себя запахи, и голова закружилась приятно, томно…
Любил костёр…
Любил с детства, когда старшие братцы разжигали и смотрели они на разметавшиеся в пространстве языки пламени. Потом были костры его походной военной жизни, возле которых, протянув руки, грел озябшие пальцы, подогревал на лезвии сабли остывшее мясо, сало… Любил приготовленное на огне, оно пахло дымком и тайгою, чем-то древним из далёкой жизни предков, его он чувствовал… Какими-то неосязаемыми касаниями дотрагивалось, и мысль уже пронзала века и убегала в древность, к кострищам, к святилищам и многое было там ему знакомо, откуда?.. Костры всегда будили в нём рой каких-то воспоминаний, необязательно связанных с его уже богатой на события жизни. Вспоминал биваки, ночные дозоры казаков, охранявших станицы и южные подступы российских рубежей от вольных и неукротимых горных абреков… Удивительно, как мало надо, для разгула прошлых картин, лёгкий далёкий запах костра и голова уже во власти дум, связанных с его былой походной жизнью… Так работает ассоциативная память у людей, когда какое-нибудь воспоминание может порождать большую связанную с ним область. Один предмет напоминает нам о другом, а тот в свою очередь о третьем и так далее…
Однако хаотичности в рассуждениях сейчас не допустил и смог управить своими скакунами мысли, вовремя возвратить их в нужный для себя путь…
– Поди ж ты, дай им волю… Умчат резвые, – проговорил вполголоса, закончив прерванные дымком размышления. И мысли побежали, побежали по именам и мимо, мимо всё… Как всё неинтересно. Но внезапно столкнулись об одно Имя… Единственный человек, когда-либо живший на Земле, останавливал его, будоражил своей непостижимой силой, непонятной преградой останавливал поток рассуждений и этот был Иисус… Скалою загадочной высился Он, а он чувствовал себя перед Ним маленьким, совсем таким земным человеком, тем, кто надоел самому себе, поднадоел окончательно…, хотя называл всё равно ласково – соседом. Говорил про себя, про своё тело: «Насел на меня этот Лев Николаевич и не пускает никуда; ужасно надоел этот сосед» [6]
Да был он таким, кто не мог не спорить, будь хоть кто перед ним… Спорил!.. И всё же признавал, что Христос дал понятие духа божьего, а «дух Божий – это любовь. И любовь живет в душе каждого человека». [7] Перед таким он не мог идти против, признавал, но его «безудержная рассудочность» [8], как обозвали его рассуждения и поиски ответов на вопросы жизни, что ставил он себе, не давала покоя и здесь, где христиане веками возводили основание крепкой веры и этот фундамент шатался под ним, не было крепости, как казалось ему. Да! он соглашался с величием нравственного Учения Христа, но при этом всё же видел в Нём выдающегося проповедника, а не сына Божьего. Не признавал Воскресение Христа, игнорировал слова апостола Павла, говорящего: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо написано: „погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну“. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» [9] Павел, апостол, словно на него показывал перстом указующим: «Внемли!», но кто бы ему, ни грозил, не помогало…
Не мог он не знать предупреждения Эразма [10], что «…такие деликатные богословские проблемы, „…“ лучше обсуждать тихим голосом в ученом кругу. Теология не орет на всю улицу, позволяя сапожникам и торговцам грубо вмешиваться в столь тонкие предметы. Дискуссия перед галеркой и на ее потребу снижает, на взгляд гуманиста, уровень обсуждения и неизбежно влечет за собой опасность смуты, беспокойства, народного возбуждения…»
Лев и здесь оказался могучим Львом, признавая в себе, что гордыни многовато… Был Создатель и был Лев и ни одно живое существо или дух небесный ни один посредник не должен был стоять между ними, только прямая связь… Он любил Христа, не того людьми придуманного, а того кем был и являлся, в рубище, босиком, кто не думал о себе, только о нуждающихся, страдающих, болеющих… На память приходили слова молитвы его детства, и он замечал в дневнике: «… ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня… Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства…». [11]
Всею силою своего ума, обширных знаний старался обнять, понять, охватить Бога, не мог… Только и можно было его сердцем почувствовать, принять, приблизится к нему, но не мог, молчало оно… Пытался всю жизнь размышлениями доискаться, и сердце помогало в этом размышлении, но и только, и только. «Понятие Бога в самом даже грубом смысле – разумеется далеко не отвечающем разумному представлению о нем – полезно для жизни тем, что воспоминание, представление о нем переносить сознание в высшую область, из которой видны свои ошибки – грехи, заблуждения». [12] «Я молился Богу в комнате перед греческой иконой Богоматери. Лампадка горела «…» вышел на балкон, ночь темная, звездная. Звезды, туманные звезды, яркие кучки звезд, блеск, мрак, абрисы мертвых деревьев.
Вот Он. Ниц перед Ним и молчи!» [13]
4
Только Он! но…
Навязчиво, упрямо последнее время, стали возвращаться думы о матери… Образ её, не знакомый чертами, но родной, милый внутренним ощущением, стал часто грезится… И хотя он её не видел, вернее не помнил, маленьким был ещё, но ясно понимал, что это она. Когда писались воспоминания, тогда до боли занимало ум воспоминание о той, что дала жизнь. Не мог помнить её, а думы касались. Казалось, что лучше, объёмнее и ярче не было в его творчестве дней, как тогда, когда писались воспоминания о ней… Образ контуром выхваченный на бумаге заботливым и быстрым художником, в его внутреннем мире слагался в чёткий цветной портрет, написанный воображением. Он прикасался к нему мыслями осторожно, как хотят потрогать нежный цветок и при этом не тронуть пыльцу его, бережно притрагивался к тому истоку, откуда и всё начинается, где с молоком матери начинался мир, где чистый прозрачный родник питает тебя через всю жизнь. «Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства. Да, удивительное было время» [14] Воспоминания подобно пуповине, соединяющей со всем до боли родным, до слёз, до какой-то нестерпимости, до того что чувствуется, но без слов, слова не произносятся, их нет таких…

Маленький чёрный профиль Марии Николаевны Волконской, матери Льва Николаевича Толстого, выполненный неизвестным художником
К матери тянулся, как младенец, старик, стоящий на пороге в жизнь вечную, а материнской ласке, во внимании, в нежном прикосновении, нуждался крайне. Было чувство всю жизнь обделённости с этой стороны, может быть по молодости и бросался во все тяжкие, ища на стороне эту ласку и…, не находил её. При воспоминании о ней в нём просыпалась такая любовь, такое почтение. В нём пробуждалось особенное настроение мягкое, нежное, в его словах слышалось такое уважение к её памяти, что она казалась его детям святой, когда о ней им рассказывал. Временами он испытывал такое чувство любви к ней, что просил Создателя сохранить это чувство по отношению ко всем людям… И как подарок судьбы, под закат жизни нашлись несколько синих тетрадей дневниковых записей юной маменьки. Долгими вечерами, закрывшись в кабинете, он читал полувыцветшие строки родного росчерка письма, вглядываясь в суть строк, словно за ними можно было разглядеть минувшее, и он мог разглядеть… За строчками ему виделся образ её, её движения, походка, лучистые глаза. Этот образ магнитом притягивал его внимание и рисовался уже ясным, отчётливым… Она улыбалась ему, как будто из временной дали и пространственного отсутствия своими дневниками она окликнула его. И он тянулся к этой улыбке, как младенец, старик, на пороге небытия… А небытия ли?..
«Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление – желание ласки, любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешаемым. Но кто такое существо, к которому бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мною людей – ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе. Да, да, маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня» [15], пожалей…
И слов не находил нужных, правильных, таких, чтобы душу переворачивало, вспоминая о ней… Слова, что мы говорим, ничто, по сравнению с тем, что мы чувствуем. Чувство?.. Оно принадлежит другому миру, более высокому совершенному, что над людьми, а не под ними. Под ними эмоции, что захлёстывают всего и всех, берут в плен и как трудно избавиться от их объятий… Человек постепенно теряет свободу, увлекаемым всевозможными страстями ревности, зависти, ненависти, алчности, становится неуравновешенным, легко поддающимся раздражению, что делает его уязвимым для более тяжких пороков…
Он знал такое, и многое испытал на себе…
5
Возвращаясь, он присел на скамью…
День медленно охватывал собою окружающую местность, настойчиво заявлял у утра свои права, оно неохотно уступало, посылало свежесть и лёгкость в своём восприятии его… Ветерок утренний, освежающий забавлялся листвою, шелестел ею и касался его бороды. Под его ласковыми порывами седые волосы развевались, теребливо отзывались на его прикосновение, и была в этом лёгкая приятность. Любилось просто посидеть, понаблюдать утро… Палочкою начертил на земле всякие хитроумные фигурки, смысл которых он и сам не знал – чертилось. Откинулся и вошёл собою в утро, неожиданно мягко так, почувствовал всего себя во всём, что окружало, как когда-то давно… Давным-давно, ещё на Кавказе, в молитве обращался к «существу Всеобъемлещему» простить его и всех, всех и дать минуту блаженную:
– Да, да, кажется так в единстве со всем окружающим… Вот надобно как жить… В единстве со всем окружающим… Хорошо бы записать это, а то уйдёт… Полюбуйтесь, среди деревьев нет вражды, они мирно уживаются и гармонично соседствуют друг с другом… Вон ели, а рядом берёзы, чуть поодаль акации весело шумят кронами и каждому дереву даётся свой лист, своя песнь поётся. И солнце ничему не ущемляет себя, всем ровно даёт тепло… Как бы это так прожить, чтобы со всем с миром и любовью…

Лев Николаевич Толстой
В этот момент он ощущал себя неотъемлемой частью окружающего среди чего жил и дышал.
– Верно, собрались уже все и ждут к чаю, а покидать благодать окружающую нет желания, протестует всё. Однако надо, нехорошо задерживать… Наприезжает опять пропасть людей в имение. Пойдут опять разговоры, разговоры, ну куда от них… Опять меня упекут в словесный блуд, потом кто остановит?.. Слова, слова, как это мучительно выслушивать… А сам-то?.. Тоже хор-р-рош! Уж не раз и не два говорил себе и другим, что не держи язык впереди ума своего, это не помело у дворника, которое всегда впереди. Держи язык позади ума, чтобы он (ум) мог контролировать его (язык), что тот «метёт»… Вот и в святоотеческой литературе припоминаются замечательные слова Никодима Святогорца: «Самая великая лежит на нас нужда управлять как должно языком своим и обуздывать его. Двигатель языка – сердце; чем полно сердце, то изливается языком. Но, обратно, излившееся чрез язык чувство сердца укрепляется и укореняется в сердце. Потому язык есть один из немалых деятелей в образовании нашего гордого нрава» [16]. Да, да обуздывать надобно свой язык, да где там?.. Так и ждут от Льва слов…
Днём опять обещали наехать фотографы, заставят его поворачиваться так и этак… Не любил фотографии, где в искусственной позе снимали его, а вот если за работой, то есть в естественном положении, это уже другое дело.

Лев Толстой в кабинете дома в Ясной Поляне. 1909 г.
– Стань так, посмотри этак, ну полюбуйтесь для кого и чего такое, а вот когда я что-то делаю, ну это совсем по-другому, тогда как в жизни. Понаедет уймище людей и «надо будет говорить, говорить… по обязанности». Как это мучительно и тяжело. Но мучительно и другое, «приходят к человеку, приобретшему известность значительностью и ясностью выражения своих мыслей, приходят и не дают ему слова сказать, а говорят, говорят ему то, что гораздо яснее им, или нелепость чего давно доказана…». [17] Вот это-то и самое странное и до сих пор непостижимое… Никак в толк не возьму, откуда столько у людей родилось самомнения, вроде многие признали мастером слова, приехали послушать, а сами говорят, говорят… «Странно, что мне приходится молчать с живущими вокруг меня людьми и говорить только с теми далекими по времени и месту, которые будут слышать меня…» [18] Как такое выдержать? Бесконечную вереницу потока людей, идут, идут… Покоя нет!..
Уж сколько лет ему, а про это он не переставал удивляться. Его поражало то невежество, когда окружающие его люди пытались рассуждать в вопросах, о которых «ни бельмеса» не смыслили, но пробовали быть в уровне с ним, а ещё проще притянуть до своего уровня… Всякий живёт надеждами, но несоответствие между ожиданием и реальным тем, что есть и складывается в жизни, вызывало внутрь его взрывы, заставляло нервничать, отсюда рождало злость, ведь не так мечталось, не так!.. А следовательно, протестовало, не хотелось идти домой… Как случилось, что его дом крепость, семья, то, что всегда незыблемо должно было быть, восхищало, теперь стало не просто раздражать, а многое в этом опостылело. Как такое могло случиться?..
Взгляд упал на цветы, что росли в достатке вокруг. Нежные хрупкие божьи создания не просто радовали глаз, а вопрошали о красоте и вечном гимне природе. Своими розовыми лепестками, распустившимися наступающему дню, под лёгким слабым ветерком кивали головками и мило радовались новому дню. Всё вокруг, всё это разнообразие окружающей жизни, словом всё: и листья, и травы, бабочки и птицы, мухи и пчёлы, всё жило самой напряжённой жизнью и творило, всё отдавало жизни свои плоды, аромат, красоту!.. Творило по-своему, как могло и, как уготовано было ему Создателем…
Стало почти неписаным законом, после прогулки приносить в дом цветы, фиалки… Он первым приносил в дом букетик, ставил в горшочек и запах тонкий, едва уловимый стелился по дому, напоминая о красоте, земле, о небе…
– Небо!? Да, да… Где то прочитал, жаль не упомню, что небо упало на землю и цветами разбилось, рассыпалось по земле, и своей красотою, заставляя поднимать очи к небесам… Да-а-а, поэтично и как правильно!..
Небо?!.. Небо всегда останавливало, заставляло вглядываться в себя, звало в мысли, в работу, в вечность. Так и сейчас с цветов перевёл взгляд на небо, в его высь и далёкость и вновь внутрь себя ощутил, как и раньше, пребывание сил, убеждённость в правдивости слов, которые когда-то написал: «… Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу!..» [19]
6
И слава Богу!..
В это состояние, когда всё внутри отдыхает, сливается с окружающим, как задумано природою, Им задумано, когда легко и просто думается и, казалось бы, жить должно легко, добавлялись думы о ней… Где бы мысль не крутилась, где бы не странствовала она, всё одно возвращалась «на круги своя», [20] семейные… Как не крути, а дума крутит, крутит, и в земном мире, и небесном, а потом свернёт в эту колею, да и как не свернуть?.. Столько лет вместе, столько прожито, столько горя, радости, видевшие и вот на тебе – пути дальше и дальше расходятся. А должно-то быть наоборот, сходиться они обязаны, чтобы слиться и быть единым организмом, один одного чувствуя, переживая… А ведь какие мечты были в юности, как мечталось!..
– «… Я женат – моя жена кроткая, добрая, любящая, и она Вас любит так же, как и я. Наши дети Вас зовут «бабушкой» «…» Я воображаю, как он (Николенька, брат) будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки. «…» как он будет с ними играть, как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспоминания об давно прошедшем времени, как Вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас…». [21] И вот что получилось на старости лет, изводит и изводит… «Недобрые чувства, ох! недобрые к ней… И ведь надо прощать и жалеть, но пока не могу». [22] Это невозможное требование любви, переходящее в ненависть, если раньше её спасали дети, её к ним любовь, глубокая, самоотверженная и что же? когда они выросли и ушли во взрослую жизнь?.. Остался я, стал её объектом для сброса всего того, что нарабатывается в её воспалённых мыслях, накручивании всей себя на негатив. Нет, если так дальше, то не выдержу, нет, не выдержу… «… Нет жизни. Одна мука. Сказал ей: моё горе, что не могу быть равнодушен… И что же? Начались сцены, беганья в сад, слёзы, крики…». [23]
Мысль всё дальше всверливалась в воспоминания и думы о ней, точно наваждение застряли рядом, и хотелось сбросить их, даже уничтожить, чтобы с этим уничтожением и исчезли враждебность и нехорошесть в их отношениях. Однако ни прелесть утра, ни свежесть дыхания полей, леса, ни восторженные трели и свист птиц, чем ещё недавно наслаждался он, уже не могли своим чудным фоном покрыть его переживания… Они как необузданные кони понеслись галопом всё, более увлекая за собою. Становилось от них горько внутри, отравительно и избавиться бы, да не мог, не мог – дышало рядом уже Вечное, и его он чувствовал и как! хотел правильно подготовиться к Этому…
А задумок, замыслов неосуществлённых, неоконченных трудов было немало…
– Помнится, обвиняла она меня в трате сил на пустяки, «такие умственные силы пропадают в колотье дров, ставлении самоваров и шитье сапог…». [24] Да откуда, и как вы все можете знать, на что мне тратить силы, куда устремлять умственную энергию, о чём размышлять?.. Неужели я должен в вашем понимании походить на вас, желать как вы, смотреть как вы, а может и такое статься, что и писать как вы… Такое вы хотите?.. О таком мечтаете?.. Эх! в заблуждении пребываете, не о том говорите, не о том вам следует заботиться… Кто вы? что вы? – вот надобно об чём помыслить. А я?.. «Как был одинок», [25] как было такое тридцать лет назад, презираем многими, так и тянется этот шлейф до сего дня…

Леонид Пастернак. Лев Толстой за плугом
Его нравственное перерождение не смогли понять, осознать и принять даже самые близкие люди. Что можно было ожидать от остальных?.. Могло ли случиться чуткое понимания и большее уважение?.. Можно ли было ожидать, что кто-то способен был понять тот глобальный внутренний процесс движения духовного строительства, какой был у него?.. И те, кто окружал его в семье, был близок ему, дружил с ним, не имея его уровня, смогли вместить в себя эти процессы?.. Нет! невозможно влить ведро воды и поместить в литровую банку.
– Всем ли ведома борьба с самим собою, со своими недостатками, пороками, немощью нравственной. Ведали такое?.. Всю жизнь быть недовольным собою и одновременно быть самолюбивым, даже в творчестве… «Я слишком самолюбив, чтобы написать дурно…». Этот вечный изнуряющий труд, чистить в себе «Авгиевы конюшни», не всегда оканчивается победою, а чаще полным поражением… И необходимо время, чтобы вернуться, осмотреться, обрести силы… Для того, чтобы писать нужны чистые мысли, а каким образом их достичь?.. Садясь работать, ты должен находиться в состоянии согласованности в самом себе, чтобы можно было спокойно проявлять на свет какие-то строки. Эти строки должны читателями восприниматься живою картиною, в них этих словах должна быть заложена энергия жизни, правды, истины… Если нет внутренней уверенности, искренности любые строки не дойдут! Надо, чтобы читающий верил в то, что написано, даже не написано, а выстрадано внутренней борьбой, внутренним ощущением сердца, ты должен видеть всё глазами сердца, а они открываются только тогда, когда внутри есть умирение… Где же мне брать те силы, что помогут в написании того, что хочу, если всё в семье старается поселить внутрь меня хаос и раздрай, раздрай и хаос… Но что делать?!.. Даже если случаться такое, что ведя борьбу, ты не достигаешь успеха, нельзя останавливаться, а опять и опять вести…
Увы, вместе с победами были и частые проигрыши. И снова в дневнике появляются всё чаще привычные слова: «Лень. Безнадежность. Сладострастие. Глупость». И сейчас, когда голову убелила седина и редкость волос, замыслился, сумел ли он избавиться хотя бы от единого недостатка, сумел?..
– Как же так случилось, что мои самые родные люди не просто не согласны, а питают что ни есть враждебные чувства… Откуда эти истоки?.. А эта ненависть к нему Льва Львовича, сына единородного. Откуда? Из моих поисков или из того, что он мой сын? Уже одно то, что я Лев и он Лев, но не такой?.. И был бы «большим числителем», а то ведь один знаменатель. Ненавидят оттого, что я даю им удочку, а они сами должны выудить рыбу? А на деле? Хотят рыбу и, чтобы подали жаренную и под изысканным соусом. Как не понимают?.. Ведь стыдно жить так, стыдно за счёт кого-то, пусть родителей, а самим играть и проигрывать незаработанные деньги, ведь как должно быть стыдно… Да! я это знаю, сам проходил такое, и было стыдно, прежде всего, перед самим собою, перед Богом, перед людьми… А здесь?.. Нет такого стыда, даже перед родителями. Всё дай, дай и дай!.. Нет понятия, каково не иметь рядом отца и мать, и расти сиротою… И ведь приложили бы малейшее усилие, осознать себя в этом мире, откуда что притекает и каково достаётся, попытаться что-то в себе исправить, понять хотя бы умом, если сердце не работает, живущего рядом, пусть не меня, а свою мать. Ведь она жизнь на детей своих положила… Нет, проиграться в карты, дай мама! Потратился на авантюрный проект, дай мама! А ведь поседели и у них свои волосы…
– Пойми же, Соня! – услышал он свой голос и как будто испугался, оглянулся, никто не видит, ещё подумают бог что…
Бывали моменты, когда весь он превращался в сплошной нерв, когда он болезненно реагировал на всё происходящее, на слова, на действия окружающих его. Казалось всей кожей всё слышится, болится, всё страдает… Это случилось впервые после Севастополя, где перед глазами проходили тысячи жизней и уходили в небытие, гибли… Гибли молодыми, полными сил и самой жизни и таких вот, под пушки, под ядра… Для чего, почему, чтобы показать все свои лучшие и худшие качества, нужны человеку условия нечеловеческие, как война, тюрьма и прочие условия, где нервы натянуты, как струны инструмента музыкального… Ведь на рождение каждой новой жизни в человеческом теле Вселенная затрачивает такое количество энергии, что наивно было бы полагать – это всё идёт на создание какой-то ничтожной жизни, какую большее население Земли влачит и коптит, если бы это не было бы, как грандиознейший план чего-то огромного и значимого для Космоса… Каждый рождённый для него, как надежда, помощник, как сотрудник… Думы о том, что над этим «трудятся» два человека противоположного пола, получая к тому же удовольствие – темнота и невежество…