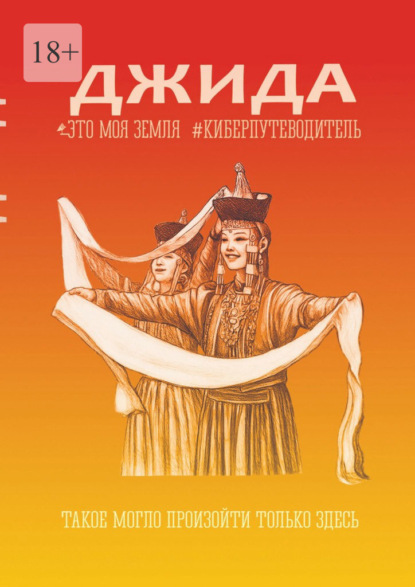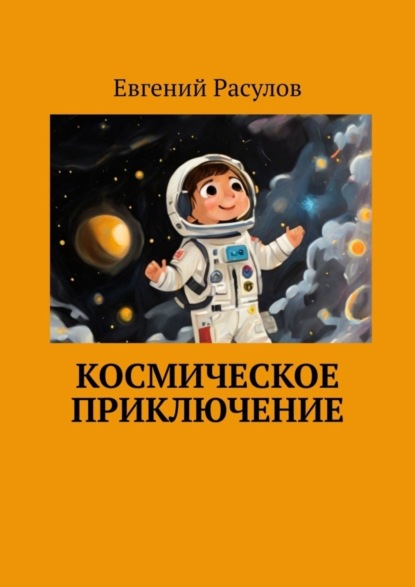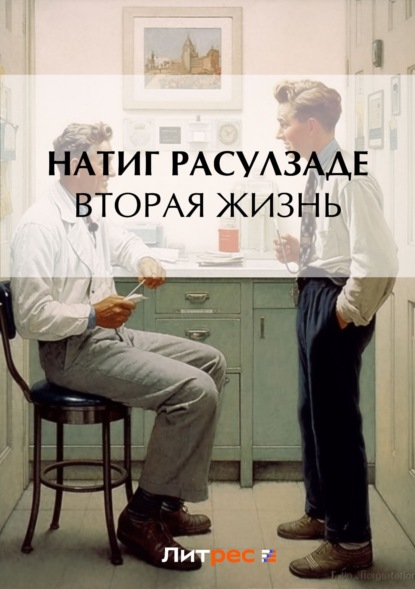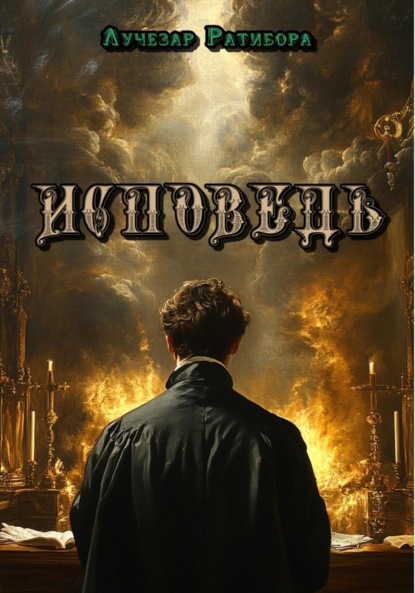- -
- 100%
- +
Кирилл взял листок дрогнувшими руками:
– Но как… откуда у вас…
– Дочь маршала приезжала к нам в 1980-м, на открытие нового здания музея. Привезла копии некоторых документов. Сказала, что отец всегда с теплотой вспоминал Желтуру.
Молодой историк читал письмо, и его лицо постепенно менялось. Исчезла снисходительная улыбка, брови сошлись на переносице.
– Здесь он пишет о сомнениях в правильности некоторых приказов… Это… это меняет представление о его отношении к событиям того периода.
– История не черно-белая, молодой человек, – Лидия Петровна присела на краешек стола. – Даже великие маршалы сомневались и ошибались. Они ведь тоже люди.
Кирилл поднял глаза от письма:
– Вы позволите мне поработать с этими материалами? Это бесценно для моего исследования.
– А как же ваш плотный график? – лукаво улыбнулась старушка. – Улан-Удэ заждался.
– К черту график, – неожиданно резко ответил Кирилл. – То есть… простите. Я останусь столько, сколько потребуется.
Часы в музее пробили три, когда Лидия Петровна внесла в комнату поднос с чаем и домашним печеньем. Кирилл сидел за столом, обложившись папками и фотографиями. Его пиджак висел на спинке стула, галстук был ослаблен, а в глазах горел тот особый огонь, который бывает только у людей, нашедших сокровище.
– Перерыв, – объявила Лидия Петровна тоном, не терпящим возражений. – Маршал любил чай с мятой. Говорят, всегда возил с собой.
Кирилл неохотно оторвался от бумаг:
– Спасибо. Я и не заметил, как проголодался.
Он взял чашку, сделал глоток и вдруг замер, глядя на фотографию, лежавшую перед ним.
– Это же… Это невозможно, – прошептал он.
На снимке Рокоссовский стоял рядом с человеком, которого Кирилл явно узнал.
– Откуда у вас эта фотография? – его голос дрогнул. – Это же мой прадед, Игнат Воронцов!
Лидия Петровна прищурилась, разглядывая молодого историка новым взглядом:
– Так вы внук Игната Степановича? Вот почему мне ваша фамилия показалась знакомой.
– Прадед никогда не рассказывал, что служил с Рокоссовским. В семье говорили только, что он был кавалеристом в Гражданскую.
– Он не просто служил с ним, – Лидия Петровна достала из шкафа еще одну папку. – Он спас ему жизнь. Вот, читайте.
Дрожащими руками Кирилл развернул пожелтевший лист с рукописными воспоминаниями.
«…Командир полка К. К. Рокоссовский попал в засаду у реки Джида. Белые открыли огонь из пулемета. Я успел сбить командира с коня и оттащить в овраг. Пуля задела меня по касательной, но мы оба остались живы. Потом командир сказал: „Воронцов, теперь мы с тобой повязаны кровью. Будем жить долго…“»
Кирилл перечитывал строки снова и снова, не веря своим глазам:
– Почему я никогда об этом не слышал? Почему прадед молчал?
– Многие фронтовики не любили рассказывать о войне, – тихо ответила Лидия Петровна. – А Гражданская… она еще страшнее была. Брат на брата шел.
Она осторожно коснулась плеча Кирилла:
– В сорок четвертом, когда Рокоссовский уже был маршалом, он разыскал вашего прадеда. Вот письмо, которое он ему отправил.
Кирилл взял конверт, бережно извлек листок. Почерк маршала был твердым, уверенным: «Дорогой Игнат Степанович! Прошло много лет, но я помню тот день у реки Джида. Если бы не ты, не командовал бы я сейчас фронтом. Жизнь разбросала нас по разным дорогам, но память о боевом товариществе жива. Если будешь в Москве, найди меня. Двери моего дома всегда открыты для тебя. Твой К. Рокоссовский».
– Они встретились? – спросил Кирилл, не поднимая глаз от письма.
– Нет, – покачала головой Лидия Петровна. – Ваш прадед был слишком скромным человеком. Или гордым. Кто теперь скажет? Но письмо сохранил. А перед смертью передал в наш музей вместе с фотографией.
Кирилл поднял взгляд, и Лидия Петровна с удивлением увидела в его глазах слезы.
– Всю жизнь изучаю историю по книгам и документам. Думал, что знаю о Рокоссовском все. А оказывается, моя собственная семья… моя кровь связана с ним.
Он аккуратно положил письмо на стол и вдруг рассмеялся сквозь слезы:
– Знаете, я ведь ехал сюда для галочки. Думал, что в провинциальном музее не может быть ничего ценного. А теперь…
– А теперь история перестала быть для вас страницами в книге, – закончила за него Лидия Петровна. – Теперь она стала частью вас самого.
Сумерки окутали музей, превратив окна в темные зеркала. Кирилл и Лидия Петровна сидели в ее маленьком кабинете, окруженные разложенными документами, фотографиями и открытыми папками. На столе стоял второй опустевший чайник.
– Уже поздно, – Лидия Петровна взглянула на старые настенные часы. – Музей давно должен быть закрыт.
– Простите, что задержал вас, – Кирилл начал аккуратно складывать бумаги. – Я даже не заметил, как пролетело время.
– Ничего, маршал не обидится, – улыбнулась старушка своей коронной фразой. – Он понимает важность момента.
Кирилл осторожно закрыл папку с письмом прадеда и на мгновение задержал на ней ладонь, словно пытаясь через прикосновение связаться с прошлым.
– Знаете, я ведь собирался написать сухую академическую работу, – признался он. – С цитатами, сносками, библиографией. Все как полагается. А теперь понимаю, что это было бы предательством.
– Предательством? – Лидия Петровна приподняла бровь.
– Да. Предательством живой памяти, – Кирилл обвел рукой комнату. – Всего того, что вы здесь сохранили. Историю делают не даты и не сражения. Ее делают люди – с их страхами, надеждами, сомнениями. Такие, как мой прадед. Такие, как Рокоссовский.
Он помолчал, собираясь с мыслями.
– У меня есть предложение, Лидия Петровна. Я хочу помочь оцифровать ваши архивы. Создать электронную базу данных всех документов, фотографий, воспоминаний. Чтобы они стали доступны исследователям по всему миру.
Старушка задумчиво посмотрела на него:
– А как же ваша монография? Дедлайны? Издательство?
– К черту все это, – Кирилл махнул рукой и тут же смутился. – Простите за выражение. Я напишу книгу, но совсем другую. О людях, а не о датах. О том, как судьба маршала переплелась с судьбами обычных людей. О том, как память о нем живет здесь, в Желтуре.
Лидия Петровна молчала, разглядывая молодого человека. За день он изменился – исчезла столичная надменность, появилась какая-то внутренняя глубина во взгляде.
– А что будет с музеем, когда… – она замялась, но все же договорила, – когда меня не станет? Кто будет хранить эти истории?
Кирилл встал и подошел к окну. В стекле отражались они оба – молодой историк и пожилая смотрительница музея.
– Знаете, моя бабушка часто говорила: «Пока память жива, живы и люди». Если мы сохраним эти истории, если передадим их дальше – они будут жить. И маршал будет жить. И все те, кто был с ним рядом.
Он обернулся к Лидии Петровне:
– Я вернусь через месяц с оборудованием. Мы создадим виртуальный музей, но настоящий, живой музей всегда будет здесь, в Желтуре.
Старушка улыбнулась и вдруг по-молодому тряхнула головой:
– Хорошо, договорились. Только учтите, молодой человек, я буду следить за каждым вашим шагом. Никаких вольностей с историей!
– Обещаю, – Кирилл улыбнулся в ответ. – Только правда, ничего кроме правды.
Они вышли из музея в прохладный вечер. Над Желтурой зажигались первые звезды, а вдалеке темнели очертания тех самых холмов, где когда-то проходил со своим полком Рокоссовский.
– Переночуете в гостинице? – спросила Лидия Петровна, запирая дверь музея.
– Да, а завтра вернусь. Хочу еще поработать с документами, если можно.
– Конечно можно, – кивнула старушка. – Маршал будет рад.
Они пошли по тихой улице, и Кирилл вдруг понял, что впервые за долгое время чувствует себя на своем месте. Здесь, в маленьком селе Желтура, в тени великой истории и в свете человеческой памяти, он наконец нашел то, что искал, сам не зная об этом – связь между прошлым и будущим, между книжной наукой и живой памятью.
– Знаете, – сказал он, глядя на звезды, – мой прадед был прав, что сохранил то письмо и передал его в музей. Он понимал, что личная история – это часть большой истории.
– Все мы часть чего-то большего, – отозвалась Лидия Петровна. – И маршал это понимал лучше многих.
Они шли по ночной Желтуре, пожилая смотрительница и молодой историк, унося с собой частичку прошлого и надежду на будущее. А в музее, за запертой дверью, маршальские погоны поблескивали в лунном свете, храня память о человеке, чья судьба соединила судьбы многих.
Справка об объекте
Дом-музей К. К. Рокоссовского,
Россия, Республика Бурятия,
Джидинский район, село Желтура,
ул. Рокоссовского, 66
История создания этого музея такова – к двадцатилетию Великой Победы над фашистской Германией в школе по инициативе учителя Владимира Сергеевича Клочихина был объявлен конкурс на лучшее оформление боевого уголка. Вся поисковая работа велась под руководством самого B. C. Клочихина и директора школы А. Г. Вербилова. При подведении итогов первое место по школе заняли учащиеся 6 класса с классным руководителем Марией Федоровной Клочихиной. Последовавшие за этим встречи со старожилами села, участниками гражданской войны Т. П. Илимешковым, А. И. Фильшиным, И. А. Жарковым, Ф. Ф. Лалетиным и участником Отечественной войны И. С. Андреевым подтвердили факт пребывания К. К. Рокоссовского в Желтуре.
23 февраля 1968 года в честь дня Советской Армии в здании, где в 1921 году размещался штаб 35-го конного кавалерийского полка, был открыт музей.
Источник: https://dzhida.ru/muzeyu-marshala-k-k-rokossovskogo-50-let/

Песнь реки Кит-Кит
Светлана Ефимова
Когда в селениях у подножия Хамар-Дабана начинает шуметь ветер с гор, жители знают – это время историй. И тогда люди отправляются в дом на окраине, туда, где живет старый Мерген.
Мерген не всегда был слепым. Говорят, в молодости у него были глаза острее, чем у орла, и он мог увидеть соболя за сотню шагов. Но те глаза отдал он реке Кит-Кит, а взамен получил другое зрение – зрение сердца и память древнюю, как сами горы.
Старик сидел на низком деревянном стуле перед своей юртой. Его длинные пальцы постоянно двигались, словно играли на невидимом инструменте. Эта привычка появилась у него вместе со слепотой – будто перебирая струны воздуха, он находил в нем нужные слова и истории.
– Мерген-абгай, – шепнула маленькая девочка, дергая его за рукав, – расскажи про целебный источник.
Вокруг старика собирались люди – кто на лавках, кто прямо на земле. Даже те, кто слышал историю десятки раз, приходили снова. Ведь история реки Кит-Кит никогда не звучала одинаково. С каждым разом в ней появлялись новые повороты, как новые притоки у горной реки.
– Эхэ-хэй, ты слышишь? – Мерген поднял морщинистую руку и наклонил голову, будто прислушиваясь. На его запястье тихо звенели металлические браслеты с узорами. – Это река зовет. Слушайте вместе со мной.
Люди затаили дыхание. Никто не слышал зова реки, но каждый чувствовал, как в тишине рождается нечто большее, чем просто слова.
– Это было во времена, когда духи говорили с людьми громче, чем люди друг с другом, – начал Мерген, и его голос, как ни странно, был сильным и чистым, совсем не похожим на старческий. – Когда золото в реках текло свободно, как вода, а вода ценилась дороже золота. Когда великий Хамар-Дабан еще только расправлял свои каменные плечи, а Кит-Кит была юной и своенравной рекой.
Старик чуть наклонился вперед и внезапно ударил ладонью о колено – этот звук всегда заставлял вздрогнуть даже тех, кто был готов к нему.
– Никто не называл тогда Кит-Кит целебной. Ведь когда все реки исцеляют, никому не приходит в голову называть исцеление чудом. Но случилась беда. И началась она со спора.
Мерген всегда обрывал историю на самом интересном месте, оставляя своих слушателей в томительном ожидании. Он улыбнулся и снова заиграл пальцами невидимую мелодию.
– А хотите знать, что это был за спор? Тогда слушайте внимательно, ибо эта история не просто о целебном источнике. Это история о выборе между любовью и долгом. И выбор этот сделала девушка по имени Сарма…
Мерген сделал глоток кумыса из деревянной чаши, что всегда стояла рядом с ним. Дети нетерпеливо переминались с ноги на ногу, а взрослые подались вперед, словно так могли быстрее услышать продолжение.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.