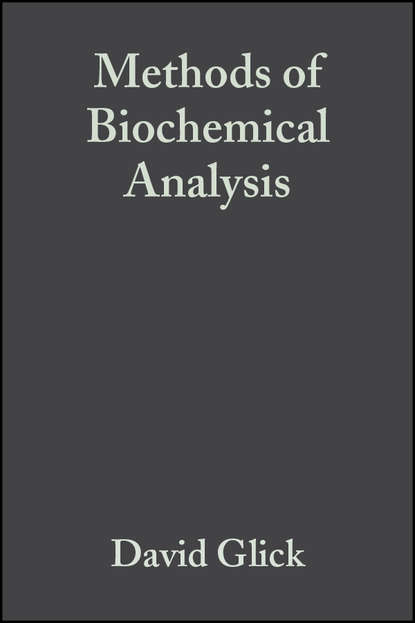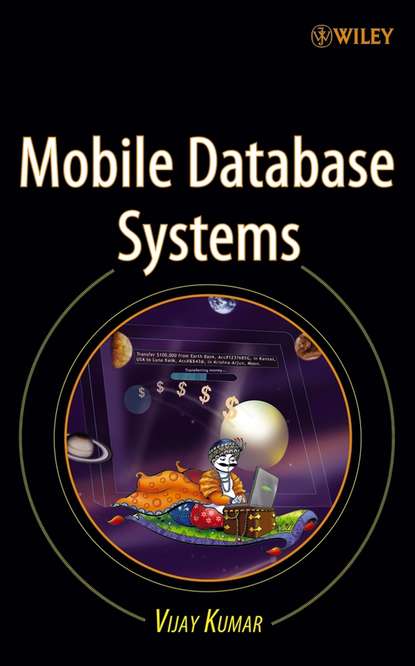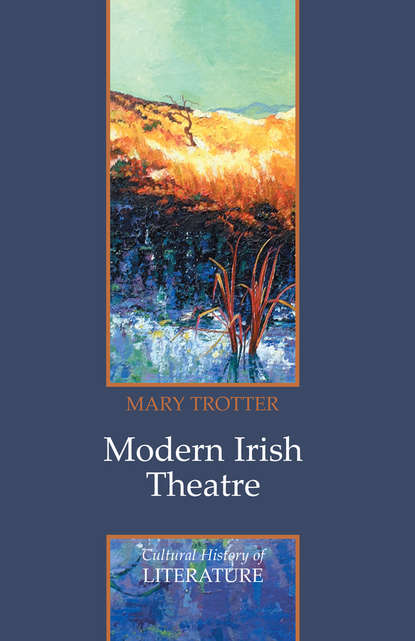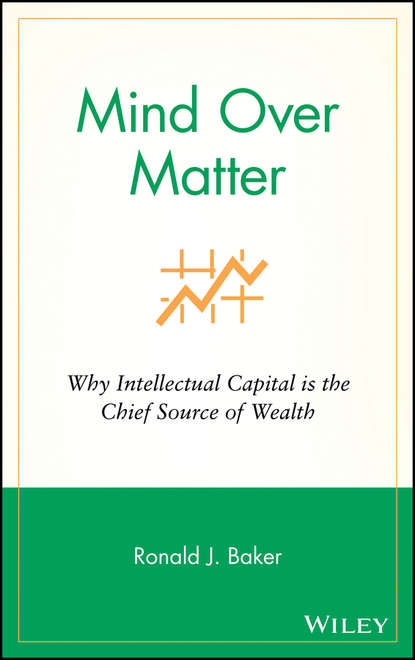- -
- 100%
- +

(Документы против мнений)
эссей-поэма
Предуведомление
Внимание! Эта книга, вероятно, попадёт в раздел «история» – не верьте! Хотя всё здесь – преследование исторической истины в перепроверке достоверности фактов, она сделана для другого. Постепенное прояснение замысла должно искупить вынужденные перебивки хронологии и свободу отступлений, необходимые для увязки смыслов.
Первое предварение: что за неизвестный генерал Го-Ку?! Тут забавно, что вослед забвению настоящей родовой его фамилии – Голенищев-Кутузов, последовала и… малоизветность, как выяснилось, этого знаменитого героя… Получается так! Во всяком случае, так в документах, им подписанных, так и в письмах родным – "Го-Ку".
Второе предварение: отчего не всякому историку дозволить можно излагать мнение на публику? Общественное мнение последнего времени пестрит избытком исторических тем с новыми ответами по старым вопросам. Притом, поводы к тому, зачастую, не в обнаруженных, потерянных бы допрежь материалах, а лишь в отдалённых от сути предмета пересудах о хорошо прежде известном. Примечательно, что среди «содокладчиков» многочисленно отмечаются и профессиональные историки.
Однако, непременно выступать публично – не является, собственно, занятием историков! Их задача – работа с документами, увязывание исторических фактов в смыслообразующие концепции, доказательность которых им ещё только предстоит утвердить в научных дискуссиях. Скороспелые мнения на разрозненных примерах, допустимые в художественном творчестве, не должны ими пропагандироваться в форме околичных высказываний наукообразной формы. Всякая недостоверность, сиюминутное псевдообоснование случайной политической потребности частного мнения высказываемое публично, выказывает недостаточность настоящего научного просвещения. Сами профессиональные (так они числятся) историки, располагая возможностью работы со всем массивом документов, вступили не только в прямое противоречие по важнейшим для общественного самоопределения предметам, но главное, что не решаемое слишком долго! Стало быть, или их научная метода слаба, или они не владеют ею.
Пока они будут разбираться между собой, попробуем зайти с другой стороны: на их же материале покажем им границу формально-научного взгляда. Для этой степени обобщения не нужно меркантильно-полного «научного» списка источников. Речь как раз и пойдёт о том, что известные и многократно повторённые документальные свидетельства имеют совершенно другое значение, чем по давно заученной привычке.
Вот как странно! Очевидно, что школьное математическое «минус на минус даёт плюс» – вряд ли кто способен объяснить, во всяком случае, без помощи «настоящих полк…» математиков, но принимают за истину по итогу правильности расчётов. Так и здесь, предстоит не открыть новое, а, наоборот, восстановить давно известный, но по некоторым причинам, извращённый исторический факт. Более того, внезапно окажется, что таких извращений накопилась уже прорва…, но как узнать правдивость той или иной стороны?
Подобно картине под рестварацией тёмное и тусклое изображение начнёт насыщаться яркими цветами с хорошо узнаваемыми фигурами, отношения между которыми подтвердятся естественностью их положений; к тому же, окажется, что это и было о них когда-то известно! – до той поры, пока шелуха мелких обыденных мнений, копящаяся столетиями, не запорошила их лиц. Но главное – общая картина, историческая картина вдруг сойдётся в непротиворечивое полотно и гораздо шире против прежнего, вместо драных лоскутов с дырьями и где концы с концами не сходятся.
Здравый смысл имеет, конечно, своё ограничение в специальных вопросах, где может сбиться в профанацию, но применённый уместно ограничивает ту степень специальной абстракции, когда уже сама учёность превращается в наукообразное безумие. (К слову, непременный взаимоперевод дат юлианско-григорианского календарей не имеет в этой работе никакого значения, так уж к этому-то цепляться не стоит).
Третье предварение: отчего всякому читателю не стоит безоглядно пересказывать чьё-либо мнение?
«Все, испытавшие войну, знают, как способны русские делать своё дело на войне и как мало способны к тому, чтобы его описывать с необходимой в этом деле хвастливой ложью.... Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необходимой, военной лжи, из которой составляются описания»1.
Хороший пример наблюдения Толстого-философа над административными страданиями Толстого-артиллериста, которому и самому приходилось и читать, и составлять донесения… Соотнесение конкретного действия и его предметного, образного представления явно не находятся в очевидной зависимости… Действительна ли неизбежность присочинения даже при «выправлении» (некоторый каламбур!) служебных бумаг ? С одной стороны, эта ложь видимо, неизбежно для чего-то потребна, с другой, Толстой замечает, что хотя русским «врать» поневоле тоже приходится , но удовольствия им всё-таки это не доставляет. Выходит, что «русские» что-то должно определять, что так же требует объяснения. Оно вполне возможно и даже в одном предложении, но без того же присочинения, будет ли достаточно убедительным? Насколько всякая математическая формула пригодна для тех, кто не умеет пройти всего доказательства? Но, отложим это, пока не будут уяснены некоторые основания
К тому же слова Толстого имеют прямое отношение к объявленной «злобе дня» – т. н. «информационным войнам». Если клевета и наговор действительно плотно перешли из личных отношений в общественные «правила», то странно не замечать, что взаимная перебранка никогда не считалась разумным поведением. Вообще же, сказано прямо: действительность, как она есть, превосходит возможность правдивого описания в принципе – мысль изреченная есть ложь… и правда возможна только ограниченная необходимой задачей.
Четвёртое: цитаты из документов представлены редко хоть с малейшей правкой – так надо! Правда и то, что после долгого их чтения, общий взгляд на правила орфографии претерпевает модификацию, а там и слог корячится, не обессудьте....
Предисловие
1. Объект
В древности полагалось, что истории народов зависят, если не от одной воли богов, то от поступков людей, то ли значительных общественно, то ли по в силу личных обстоятельств – царей или героев, скажем так.... Лишь с развитием науки стали замечаться те закономерности, которые действительно определяют исторические перемены. Однако, вовсе не следует умалять историзм личности в значении событийного агента, причём, как излишним упрощением в «классовый подход» (который, тем не менее, существует), так и в отношении личности самой по себе значительной.
История общества есть природный процесс, опосредованный самим человеком; он достаточно закономерен, что подтверждается возможностью изучения в понятиях той же политэкономии с объяснениями без привязки к конкретным событиям и вполне безличной. В таком виде «история» по преимуществу объективна. Другая сторона этой же истории совершенно субъективна, ибо в реальности совершается людьми в личных поступках. Здесь событие во множественности выбора, вариантности выхода и непредсказуемости в принципе, вбирает волю каждого участника, но… не подразумевая степень его понимания конечной причины своих поступков (то есть, пункта первого).
Поэтому представление о прошлом невозможно без единства и борьбы этого подвижного противоречия. Но… способность исследователя к такой, должной бы для каждого учёного, широте взгляда нигде не оговаривается, может быть, иным слишком очевидная… а прочие могут всю жизнь спокойно заниматься историею, так и не познав сути предмета своих занятий.
И вот пример, когда углубление в «анкету» исторического лица привело к неожиданному прояснению заученных исторических фактов, которые казались прежде вполне и достаточно понимаемыми. Поневоле, попутно были затронуты и другие персонажи, сопряжённые в исторических событиях; влияя на их исход, они и сами получали собственное значение.
Оказалось, что несмотря на многотомье профессиональных историков, взвешенная оценка важного исторического периода сколько-нибудь ими не выработана. И даже те специалисты, кто подобрался к самой сути и, казалось бы, заявившие о ней – впоследствии заглушаются сонмом крикунов так, что давно и очевидно показанное, странным образом куда-то запропадывает… Похоже, что сознание толпы имеет свойство затягивать ряской забвения ясность былой очевидности. Разве не примечательно, что обнаруженный слой именно прежних (!) взглядов общества, внезапно получает подтверждение перепроверкой устоявшихся фактов… которым ныне придано другое значение? Если допустить, что история событий должна обладать атрибутом непрерывности, то, видимо, можно найти управу на эту толчею, сменяющих друг друга, переписываний истории?
Как и в предыдущей работе, отвергается заведомой задачей принуждение читателя к предложенной точке зрения. Напротив, его призывают проверять здравым смыслом каждое фактическое свидетельство на достоверность объяснения – не закралась ли где ошибка соответствия очевидности и какую сторону выбрать ему. На случай другого решения, однако, автору простительно пояснять свой выбор.
Ещё важно понимать существование «сопряжённой субъективности»: то есть, читатели без доли совпадающего жизненного опыта никогда (никогда!) не признают правоту иной точки зрения, «хоть ты их режь!». Здесь главное условие опытного естествознания – однозначность причины и следствия иногда затирается до исчезновения, ибо не присуща самой гуманитарной области, а лишь по личной возможности размышляющего предшествует ей – всё то же иное соотношение частей задействованной логики в гуманитарности. В общем-то, важнейший вопрос именно в этом: до сих исторических пор сравнительное (именно так!) здравомыслие общества обеспечивалось бессознательно вменяемым большинством населения. Благословенные, в этом смысле, времена оставляются нами безвозвратно. Далее решайте сами.
2. Субъект
Хотя впредь перетолки будут вестись на полях исторических сражений, главный разговор не о них, а, как и всегда, о выяснении закономерностей более общего порядка. Поводом послужило недоверие к справедливости мнения, которое ныне стало модным среди людей образованных… «Дело о репутации» из далёкого прошлого, неожиданно заодно прояснило некоторые самые злободневные политические недоразумения и даже тайну русского либерализма. Но не странно ли, что исследование поступков исторического лица вывело на столь широкие обобщения? Нисколько, всё дело в масштабе личности: он связан со многим и участвовал во многом. Не то, чтобы «каждый сам выбирает…», но если выбор есть – каждый сам определяет меру желания за долю своего же риска и идёт вперёд сколько может…
Чтобы показать градус дискуссии, придётся упомянуть кое-кого из заочных оппонентов. Как говорится, «ничего личного», но есть справедливое утверждение: «сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя». Стало быть, лица, «капитализировавшие» свои способности в общественную известность получают силу голоса многажды превосходящую влияние частного человека, и, стало быть, должны нести ответственность за то, к каким поступкам они подтолкнули своих приверженцев, поскольку знамениты не только печатно, но и многомиллионным радиослушателям.
Один замечателен тем, что книга ещё не была закончена, а он уже набежал потенциальным читателем.... Неважно, прочтёт он её когда-либо или нет, но такое точное попадание в «яблочко» средоточия аргументов чьей-то головы, достаточно, чтобы считать работу не напрасной. Даже маловероятно, чтобы он её открыл, если книга и будет напечатана, что может и к лучшему – «зачем обижать хорошего человека?». Ведь тут случай неординарный… Он попал в тему книги случайно, пока она ещё была в работе,.. Это довольно удивительно, так как я оппонировал там совсем другим именам, пытаясь понять грани их профессионализма. Не могу удержаться, чтобы не представить его по своеобразному псевдониму образа. В конечном счёте, тем, кто поймёт, будет достаточно, а другим и знать не надо – «Денис Кораблёв» – будь благословенна память родителей его и, в этом случае, особенно отца! Столько радости, сколько он подарил своими «Денискиными рассказами» мало, где можно было сыскать. Я просто бился в пароксизмах смеха, если уж было смешно и точно – не я один!
Дениска вырос, стал, кроме прочего, известным писателем; бывает, что выступает устно, рассуждая толково и интересно. И вот, кстати, пришлись два его публичных высказывания, имеющих прямое отношение к сюжету книги, притом прямо за сторону оппонентов. Замалчивать мнение нет причин; тем более, раз он, сам по себе, известный, общественных наклонностей, человек, следовательно, желающий или предполагающий оказывать влияние на других, придётся эти две позиции объявить – «не я это начал!». А если с тех пор он уже мнение переменил, так «слово не воробей» и его точка зрения имеет влияние на многих и многих людей.
Во-первых, например, на 15 часов 05 минут по московскому времени от 20 сентября 2017 года, он имел следующее убеждение, которое отстаивал публично: «Подождите, Кутузов был педофил, потаскун и мерзавец, однако мы знаем его как героя Великой Отечественной войны 12-го года. И Лев Николаевич Толстой описал Кутузова совершенно не таким, как он был. И мы Льва Николаевича Толстого за это не ругаем»2.
Во-вторых, ему, как и многим (в общем-то, почти всем…) понравился недавний Би-Би-Сишный сериал «Война и мир». Если второй пункт покается неважным и даже смешным, так дело тут серьёзней, чем кажется. Ведь сериал… вполне может нравиться, но за единственным и главным условием: если бы там стояло «по мотивам»; если угодно, «по Льву Толстому» и так далее, но ни в коем случае как представление оригинального авторского замысла, лишь переложенного из литературы в кинематографию. Почему это так и в чём тут дело – об этом будет разговор дальше. А то, что подвоха не заметил никто из «интеллигентствующих культурологов» весьма печально. Им-то отзываться, подобно пятиклашкам, односложно: «Понравился…», как о мороженом? Для рефлексирующих интеллектуалов это довольно легкомысленно и так нельзя говорить.
Что касается самого утверждения в цитате, то сначала всё-таки разберёмся: не являются ли всем как бы известные факты – заученной вульгарной пошлостью (в какие бы академические тоги она не рядилась)? И если возможно было культурного человека подвести к такому мнению, чего ожидать от беззаботных любителей ну, по-простому, трепать языком по любому поводу? Тем более, что истина, как таковая, ищется из оснований, которые не имеют отношения к добродетелям образования и даже шахматы здесь не помогут. В конце концов, это только игра, как стало окончательно ясно по всемирно известному политику-чемпиону.
Стало быть, за простым бы вопросом о педофильстве Кутузова появится более важный. а именно: если значительная доля гуманитарного знания всего лишь псевдонаучная белиберда, то отчего самобразкющаяся интеллигенция особенно падка на эту часть и так склонна проповедовать безосновательное чужое мнение?
Ведь, что тут самое интересное: нет ни малейшего повода сомневаться в уме «Дениса Кораблёва» в самом положительном смысле его биографии образования и череды заслуженно занимаемых служебных должностей; формально он имеет полный сертификат на общественное доверие к себе. Разумеется, в рамках тех специальных вопросов, в которых подразумевается его квалификация. Но… каковы же они, эти рамки и, ещё важнее, отдаёт ли сам он себе отчёт в заведомой их ограниченности?
Если сначала это замечание покажется достаточно бессодержательным, но сейчас оно радикально преобразится простым напоминанием: «Денис Кораблёв» – гуманитарий. Оп-па! Чтобы показать, насколько этим всё меняется, вместо обычного простого методологического разъяснения воспользуемся (ох, держите меня!) чрезвычайно уместным свидетелем – объявившимся вторым (уже!) номерным нечитателем.
Этот другой, тоже человек неординарный, причём, далеко за биографический формуляр. Если брать творческие способности не по результату содержательности (пока что разыскивается по статье «распространение заведомо ложной информации о действиях ВО РФ»), а эстетически, стало быть, без знаков плюса и минуса, правды и лжи, добра и зла, то личность он весьма примечательная! По крайней мере, длинный список, что называется, «компетенций», видимо, заслуженно увенчанный депутатством Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации I—IV созывов и членством Комитета Государственной думы ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству 19932007г. г.; уже не говоря о внесении 7 февраля 2012 года в список доверенных лиц Владимира Путина.
В этом творческом потенциале важен масштаб его влияния на аудиторию,… невзирая на чехарду и перебивчивость в учебе, не доведённой до дипломированного конца. Ну и что с того? Лев Толстой тоже не кончил курса! Однако, Лев Толстой, помимо озабоченности в предельно общих вопросах, в своей неоконченной специальности по факультету иностранных языков, как живых, так и древних, не единожды доказывал изрядную квалификацию. Самообразование предполагает вменение себе критерия качества подчас способное посрамить недоверчивых формалистов. Так что нет никакого повода заранее придираться к этому свидетелю, который, как нарочно, неоднократно публично заявлял, что ни в грош не ставит стандартную систему гуманитарной научной квалификации, что называется, по факту её недостаточной достоверности (вот, тоже ведь замечает!).
Посему он публично отрёкся от допрежь наработанной как-то гуманитарной образованности в пользу естественнонаучного подхода в объяснении посильной ему действительности. Всячески осуждая религиозное мракобесие, он дополнительно свидетельствует этим избранную методологию. Удастся ли Александру Невзорову (а это именно он) поменять гуманитарную иллюзорность на причинно-следственную логику в наукоёмких вопросах? Это ему только предстоит доказать (кому надо – пусть проверяет согласно методике).
Но вот ему, как публицисту, случилось вновь встряхнуть стариной и высказаться 11 сентября 2019г. по старозаветной для него, сугубо гуманитарной теме:
– «Мне нравится вся эта история с Бородино, потому что она показывает размерность лжи. Она показывает, действительно, то, что ложь должна быть гигантская, она должна быть огромной. И это первый день, первый случай полного торжества пропаганды над здравым смыслом, когда эта госпропаганда еще при царях ощутила вкус крови и утвердилась в своем всемогуществе.
– Вот любые поражения были, и были различные ситуации и только в этом случае вдруг стало понятно, что любое, самое позорное поражение можно преподнести как победу. Там всё абсолютно белыми нитками шито. Этот одноглазый педофил Кутузов, действительно, оставляет поле боя с 30 тысячами раненных, уходит, бросив второй по значимости город и оставляет все позиции. И при этом разгромленный хитрец абсолютно откровенно лжет. Он говорит: «Виктория, победа!» – он говорит. И немедленно получает табакерку, усыпанную алмазами. И ему верят. Потому что решают, что на самом деле, если он так уверенно говорит…»
– «…Да, да. И смешное абсолютное поражение с отступлением приобретает статус победы».
Причём, у Александра Глебовича есть двое интервьюеров, которые тоже вполне сочувствуют в беседе его тону:
О. Журавлева― Но у Наполеона тоже победа была так себе. Она вроде как победа, но так… как с выборами приблизительно.
А .Невзоров― Нет, она не была ничья. Тот, кто оставил раненых на поле, тот считался проигравшим.
В Дымарский― Но, вообще-то, вошли в город, между прочим.
А. Невзоров― Да. Вошли в город и оставили позиции.
В Дымарский― Александр Глебович, в французских учебниках истории Бородино обозначено как победа французского оружия.
О. Журавлева― И битва на Москве.
А. Невзоров― Это во всех военных энциклопедиях она обозначена.
В.Дымарский― А поражение французов – это только Березина.
А. Невзоров― Нет ни одной военной мировой энциклопедии, начиная с Нотнагеля, где было бы написано по-другому. Вот такие финты, настолько бесстыжие, их не удавалось в чистоте повторить почти никогда..3
Кстати, в этой цитате замечательно соединяются убедительной логической связью: 1) как бы объективный факт события; 2) его чёткая оценка; 3) увязанная характеристика лица; 4) доказательство корысти. Очевидно же, что они подтверждают друг друга и как бы иное было бы логически несообразно, и даже невозможно тронуть одно, чтобы не затронуть другое, следовательно….. Притом упрекать самого Александра Глебовича Невзорова в таком мнении напрямую бесполезно – за ним сразу обнаружится воздвигнутый многими профессиональными историками монолит именно такого очевидного исторического факта!
То есть, несмотря на то, что оба примера выказывают людей рассуждающих вроде бы самостоятельно, опровергать только их – пустое дело, потому что на самом деле своё мнение они (и очень многие другие) усвоили со слов учёных-историков…
Возьмёмся же их опровергнуть и показать по делу «О педофильстве Кутузова» противное в главном: любой грамотный и способный вычитать до конца всю цепь причин и следствий, житейски опытный человек (это важно) сделает однозначный вывод – работа историков приводить в порядок документы из прошлого, разыскивать пропавшие и пояснять их содержание. Объяснение исторических событий не входит в их компетенцию! К сожалению, нельзя им этого запретить… но только в рамках свободы выражения мнения всякого обывателя ни в коем случае не доверяя ничему, не представленному доказательно. Здесь есть проблема.
Ведь гуманитарная научность получает доказательность за пределами своих профессиональных знаний. Они тоже могут сознательно достичь «здравого смысла», но желающему того сперва надо ощутить его недостаток, а ежели бессознательно…, то к нему даже более горазды… многие работники простого (так принято говорить) физического труда…. Доказательство? – уверяю, вы удивитесь! Тому, что узнаете нового? Ещё более тому, что не понимали очевидного из уже известного…
3. К слову…
Таков общий сюжет книги, притом сопровождаемый попутными отступлениями. Это не прямые ответы; в таком виде они просто заучивались бы, когда случается то же, что произошло с многомиллионной партией советских коммунистов: оказалось, ни один не понимал уже своего учения. Безотносительно этих «рыцарей печального образа», очевидно, что учение, которого они не понимали, очередной раз доказало безупречность своей теории. Всё происходит в точном ей соответствии, и желающие разобраться хоть в чём-нибудь, пусть смотрят во все глаза. Неудача очередного хождения России в капитализм до того, что даже «т. н. цивилизованные страны» уже не знают, что и придумать, чтобы отпихнуться от странного попутчика показывает яснее ясного – основания её исторического движения лежат гораздо ранее какого-либо «большевизма».
Ещё более удивительно, что «военная тайна» Мальчиша-Кибальчиша была выписана ещё двести лет назад образцовым иностранцем на русской службе и в свободе доступа к себе не имела ограничений. Почему Россия находила бескорыстную помощь со стороны подобных людей, весьма толковых? Почему этот исторический кредит может иссякнуть и что надо успеть сделать? Есть там и сведения из которых можно понять – что такое либерал? Почему либерал может быть только исторически-оригинальный, а современные протухли, как «осетрина второй свежести»»? Кто были русские либералы? Почему они первыми догадались бы о причине сегодняшней общественной катастрофы в политике «цивилизованных стран»?
К слову сказать, Запад расценивает противостояние с Россией как антагонистическое, но это заблуждение; задача России вполне гуманитарная: не уничтожение, а возвращение, забытого ими же наставления, хоть они этого не понимают. Как не понимают невозможности всегда быть правыми – эта истина и раньше в Европе была бы для них непривычна до непереносимости и теперь одно предощущение слабости заставляет их делать вещи вовсе недопустимые.
Россия же, несмотря на постигшее её, по списку причин, недавнее отступничество, уже как лет двести явно определилась в общечеловеческом долге: если было именное французское «Просвещение», то теперь – русское «Вразумление» Европы. Русское по месту сохранения истины, которая изначально была присуща всем, но отдалилась там настолько, что одно напоминание о ней – им нравственно мучительно. Но она есть и в том лозунге «Свобода! Равенство! Братство!», которое так долго выкликали до сих пор не подозревающие его содержания, когда -то «вполне ничего себе», либералы.