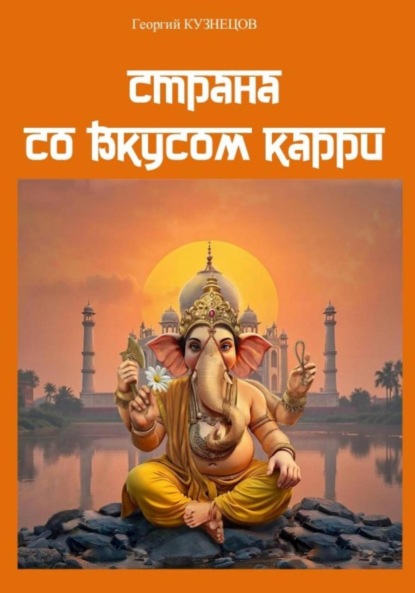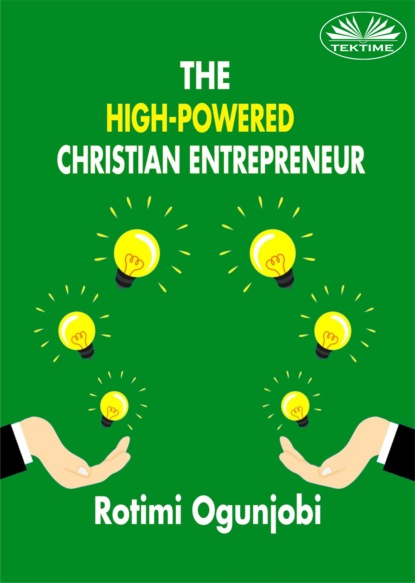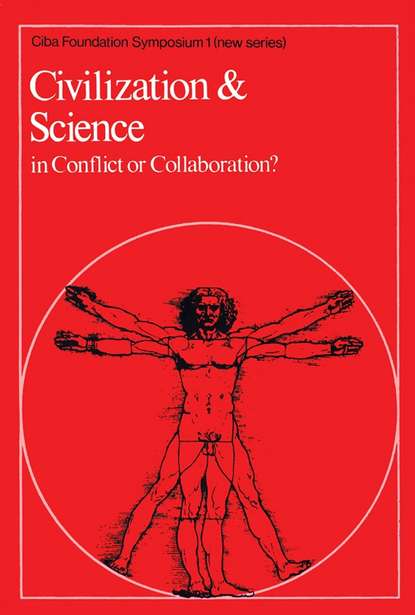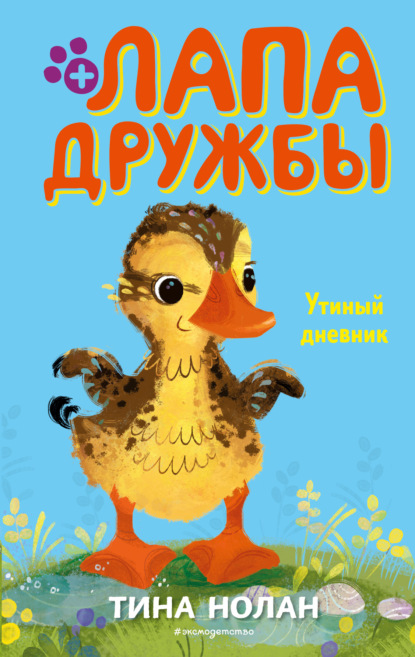- -
- 100%
- +

Предисловие
Индию в России любили всегда. Со времён похода туда Афанасия Никитина в XV веке и его знаменитых путевых записок под названием «Хождение за три моря» эта страна стала синонимом чего-то далёкого, сказочного и невообразимо прекрасного. Коробочки индийского чая с непременным слоником на упаковке являлись обязательным атрибутом на кухне любой советской семьи. Самобытная, столь необычно звучащая для нашего уха индийская музыка лилась фактически из каждого радиоприёмника. А чего стоит индийское кино с его вечными душераздирающими драмами и фееричными танцами?! Эдакий вечный красочный карнавал и праздник.
Лучшей демонстрацией прочности отношений с Индией в советский период стал, как мне кажется, провозглашённый в 1955 году Никитой Сергеевичем Хрущёвым на митинге в городе Бангалор лозунг дружбы «Хинди руси бхай бхай» («Индийцы и русские – братья»). Фраза, до сих пор регулярно звучащая даже из уст людей, далёких от этой темы, прочно вошла в умы и сердца наших соотечественников, превратившись в отражение чрезвычайно нежного и трепетного отношения ко всему индийскому.
От настоящего повествования не стоит ждать классического рассказа об Индии, её красотах или недостатках, достопримечательностях, традициях и религии. Об этом многократно и подробно написано настоящими специалистами-индологами. На подобные глубокие знания этой страны я, увы, претендовать не могу, хотя и прожил в ней около четырёх лет. С учётом имеющегося бэкграунда я на всю жизнь вошёл в когорту индологов. Сделано это было, на мой взгляд, не вполне заслуженно, неким авансом и «на птичьих правах», однако в нюансы редко кто вдаётся. Сам факт проживания в Индии на протяжении нескольких лет должен был изрядно наследить в моей душе, сердце, желудке и иных органах, точный перечень и степень поражения которых определит лишь вскрытие.
Мне страна открывалась с довольно необычной стороны – с точки зрения иностранца, заброшенного туда волей судьбы. Не туриста, который видит лишь парадную витрину, но и не местного жителя, которому открывается вся изнанка. В моём случае речь идёт о некоем усреднённом восприятии индийских реалий. Да простят меня мои друзья, знающие и чувствующие эту страну гораздо лучше и тоньше меня, это будет рассказ о моей Индии, очень личной и субъективной, какой она запомнилась и полюбилась мне.
Не намерен утомлять пространными рассказами о подробностях общественно-политического устройства страны, хотя некоторых элементы всё же будут кое-где присутствовать, приводить экономические выкладки, подробно писать о происходящем социальном прогрессе. Думается, что такие вещи являются уделом гораздо более серьёзной и «взрослой» литературы. В данном же случае стилистически или жанрово получилось, на мой взгляд, некое смешение страноведческих заметок, путеводителя и занимательных баек, вполне, надеюсь, интересных и удобоваримых для читателя.
Для тех, кто судорожно схватился за голову, едва увидев названия частей, сразу хочу оговориться, что по ходу повествования вам будут регулярно попадаться необычные термины и явно незнакомые слова. Я вплетал их в текст намеренно, но, щадя чувства читателей, постепенно. Специально не всё сразу расшифровываю, давая вдоволь насладиться экзотикой и превратив книгу в своеобразный квест или, если хотите, интеллектуальную игру. В итоге все ответы будут получены, но без торопливости и суеты. Терпению и смиренности учит Индия. Так что не ищите в конце книги некий глоссарий с пояснениями, не листайте судорожно страницы, забегая вперёд. Повторюсь, всё будет в своё время.
Некоторым, возможно, не хватит иллюстраций. Тоже в некоторой степени намеренно не стал превращать книгу в иллюстрированный словарь Индии и индийских реалий. По-моему, гораздо интереснее заставить работать воображение, самостоятельно дорисовывать отдельные недостающие элементы.
Как поведали мне «знающие люди», настоящий индолог на своём пути проходит все стадии любви и ненависти к Индии. Из этого «коктейля» и рождается истинное, глубокое и искреннее отношение к этому самобытному государству, его культуре и населению. Причём перечисленные ипостаси могут вызывать диаметрально противоположные чувства. Один человек, долго проработавший в Индии, как-то сказал мне: «Индия была бы самой замечательной страной, если бы силами жителей провести в ней генеральную уборку». Циничная, но тоже точка зрения, имеющая право на существование. Я не разделяю столь радикальных взглядов и стараюсь воспринимать страны и континенты в их совокупности, всегда выискивая положительные моменты. На страницах книги вы едва ли найдёте много негатива, который, безусловно, присутствует в любом месте планеты. Разница в восприятии таковых, заострять ли на них внимание, выпячивать ли, или скромно опускать за скобки, воспринимая как некую, возможно не всегда устраивающую вас лично, данность.
Понятно, что Индия – не самая чистая и с эпидемиологической точки зрения благополучная страна, однако она такая, какая есть. Нате – любите. Или ненавидьте. Это сугубо ваш выбор. Надеюсь, что прочтение написанных мною страниц как минимум вызовет интерес и сподвигнет изучить какие-то вещи более пристально и подробно.
Так что приглашаю в мою Индию! Такую разную и противоречивую, однако оставившую заметный след в моём сердце.

ЧАСТЬ I
ПОСТИЖЕНИЕ БРАХМАЧАРЬИ
Едем в Индию
Начало 90-х годов было временем непростым. Только что распался Советский Союз, в стране наблюдался тотальный дефицит всего и вся. Люди не жили, а натурально пытались выживать. В магазинах пустые полки, талоны на некоторые виды товаров. Деньги обесценились, зарплаты честных людей превратились в пыль.
В школе время от времени распределяли гуманитарную помощь: то банку сухого картофельного пюре приносил домой из списанных запасов Бундесвера, то кусок датской консервированной ветчины перепадёт из очередной партии гуманитарной помощи от европейских поставок. Выручали дача и дары огорода в виде огурцов, помидоров, морковки, картошки. Мы с сестрой активно собирали клубнику, землянику, малину и смородину, из которых мама варила варенье или просто замораживала ягоды на зиму. Всем семейством ходили в лес за грибами, чтобы их сушить, морозить, мариновать. В итоге волей-неволей стали неплохо разбираться в дарах грибного царства. На балконе в московской квартире у нас стояло две деревянных бочки, в одной квасили капусту, которую зимой я с удовольствием вырубал изо льда, в другой – солили грибы. Родители научились делать вино из фруктов. На даче в моей комнате стояли большие банки с натянутыми на горлышко резиновыми перчатками, которые необходимо было иногда прокалывать, чтобы выпускать газы от бродивших внутри плодов. В темноте поднятые надутые белые перчатки, выстроившиеся рядком на уровне пола, смотрелись жутковато. В народе эта конструкция называлась «Привет Горбачеву», эдакая аллюзия на антиалкогольные законы тогдашнего руководителя страны.
Я был подростком и, честно говоря, не особенно замечал тяготы, с которыми сталкивались родители, пытавшиеся одеть и прокормить нас с младшей сестрой. Тем более мне непонятны были моральные терзания окружавших людей, связанные с крахом огромной страны. В определённой мере они были даже более болезненными, чем отсутствие товаров на полках магазинов. Опустошению подверглись души и умы. Крушение идеалов и непонятные новые ориентиры серьёзно смущали многих.
В складывавшихся условиях неопределённости, отсутствия зарплат, тотального дефицита, исчезновения империи надо было что-то делать. В те голодные времена самыми надежными друзьями считались работники продуктовых магазинов, мясники, через которых можно быть хоть что-то достать из еды. Многие ринулись в предприниматели, открывали палатки по продаже всякой всячины, видеосалоны, работали «челноками», таская дефицитные товары и продукты из-за границы. Часть населения ударилась в криминальную сферу. Помню, насколько страшно стало ходить по улицам, сколь велики были шансы попасть на банду. У нового общества появлялись свои герои. У некоторых ровесников пределом мечтаний стало попасть в организованную преступную группировку и, позанимавшись в «качалке» (спортивном зале), стать рэкетиром. После выхода и осознания обществом фильма «Интердевочка», например, несколько одноклассниц пошли промышлять своим телом в ближайшую к школе гостиницу. Таковы были реалии начала 90-х годов в России.
Все вышеперечисленные варианты категорически не вязались с моральными принципами моего отца, который всю жизнь верой и правдой служил Отечеству и имел правильное представление о долге, чести и совести. Так что необходимо было найти иной выход. Наиболее спасительным вариантом виделась командировка за границу.
К тому моменту наша семья уже побывала в длительной загранкомандировке в США, но затем наступил затяжной период пребывания в Москве. Пару раз мы вроде как куда-то собирались, отец даже начал в дополнение к имевшемуся английскому изучать испанский язык, готовясь к возможной поездке в Латинскую Америку. Но затем папа говорил, что всё отменяется. Поэтому, когда он однажды вечером пришёл и объявил, что, возможно, нам предстоит командировка в Индию, никто особо в это не поверил. Однако через некоторое время нас с сестрой потащили в поликлинику на медицинскую комиссию, которую полагается проходить перед выездом, а затем мама отвела в фотоателье фотографироваться на паспорта. Процесс оформления явно продвигался, момент выезда неумолимо приближался.
Каковы в то время были мои познания о далёкой стране? Боюсь, что на уровне героев книги Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч», то есть нечто, «находящееся на самом краю земного диска и накрытое хрустальным куполом». Безусловно, романтическая, но в высшей степени сомнительная ориентировка. Среди всех многочисленных знакомых моих родителей нашлась лишь одна семья, которая там работала в середине 70-х годов ХХ века. Насколько я помню, они рассказывали какие-то ужасы про вопиющую антисанитарию, повсеместную ужасающую бедность и даже чуть ли не трупы на улицах. Во всяком случае, именно подобный образ Индии всплыл в моей голове, когда настал черёд предметно готовиться к поездке.
Та информация, которую удалось обнаружить в энциклопедиях, имевшихся в семейной библиотеке, оказалась довольно скудной и излишне научной, не дававшей полноценного, живого представления о стране и её жителях. Ориентироваться на сказки народов Востока или произведения прекрасного, но явно устаревшего британского писателя Редьярда Киплинга «Маугли» и «Рикки-Тикки-Тави» тоже едва ли имело смысл. На Маугли я походил лишь тёмными волосами и пугливостью. Также имелись подозрения, что в Индии осталось мало махараджей, а если где-то они и сохранились, то вряд ли будут со мной общаться.
На уроках географии помимо базовых вещей типа наличия на территории Гималайских гор, протекавшего через всю страну Ганга и перечня крупнейших городов ничего интересного узнать не удалось. Занятия по истории дали лишь урывки информации о нещадной эксплуатации туземцев жестокими британскими колонизаторами и их борьбе за независимость, а из романа обожаемого мной Жюля Верна «Капитан Немо» неожиданно узнал про некое восстание далёких и неведомых мне сипаев. Параллельно нахватался разных имён индийских политиков вроде Махатмы Ганди, Раджива Ганди, Индиры Ганди и Джавахарлала Неру.
Единственным доступным связующим звеном показался Клуб имени Рабиндраната Тагора, индийского писателя, поэта, композитора, художника и общественного деятеля, который существовал в моей московской школе. Проблема состояла в том, что я на протяжении нескольких лет чуть ли не каждый день ходил мимо его дверей на пути в английский корпус, однако ни разу не видел, чтобы кто-то там появился или чтобы двери были открыты. На самом деле было загадкой, как он вообще мог появиться в Советском районе столицы. Видать, Клуб стал плодом деятельности некоего энтузиаста, а к моменту моей учёбы оставался в качестве своеобразного атавизма, никого особо не занимавшего. Я же, движимый корыстными мотивами хоть как-то расширить ничтожный багаж знаний об Индии, задался целью во что бы то ни стало попасть в заветную «тайную комнату». В конце концов, мне это каким-то образом удалось, однако в практическом плане мало что дало – там обнаружилось лишь несколько книг этого самого Р.Тагора на нескольких языках, пара его портретов, с которых он весьма сурово взирал на посмевших нарушить его покой граждан, да некоторое количество вырезок про известного индийца из советских газет и журналов. Полное отсутствие чего-либо современного и актуального.
Московская школа
Отъезд был назначен на начало декабря. Командировка за рубеж означает начало больших перемен как для командируемого сотрудника, так и всех членов его семьи. Речь не только в перевозке вещей, когда приходится решать, что можно и нужно взять с собой в далёкую страну, а что там явно не понадобится. Супругам приходится увольняться с работы, жертвовать амбициями, отказываться от мечты построить собственную карьеру. Детям – оставлять дома любимые игрушки и книжки, менять школы, расставаться с друзьями.
Карьера дипломатических работников в этом плане похожа на судьбу военных, которых за жизнь немало мотает по разным гарнизонам. Зачастую это довольно болезненные процессы, связанные со сменой континента, климата, еды, всего окружения. Случаются ситуации, когда в силу объективных обстоятельств нет возможности поехать всей семьёй, приходится, например, оставлять на родине кого-то из детей. Дело вовсе не в недостатке любви к наследникам, а в более прозаических вещах вроде неподходящего климата, неблагоприятной военно-политической обстановки, отсутствия доступа к обучению в школе. Знаю, что отец отказался от нескольких предложений по той причине, что меня, подростка, он бы взять не смог. В случае с Индией всё сложилось более-менее благополучно: в Дели имелась полная средняя школа при нашем посольстве.
Я был в девятом классе, поэтому перед выездом потребовалось не только взять в школе выписку и забрать личное дело, но также досрочно проставить отметки за четверть, которые будут учтены в аттестате о неполном среднем образовании.
С оценками получилось не совсем складно. В силу природной скромности я не отличался какими-то сумасшедшими достижениями в учёбе, занимая в классе в 35 человек место середнячка. Мальчиком я был покладистым и прилежным, даже излишне тихим и забитым. В средней школе у меня в четвертях стабильно наличествовало по несколько «троек» по непонятным для гуманитария предметам вроде алгебры, геометрии, химии и физики. С гуманитарным блоком дела обстояли чуть более складно: по русскому, английскому, литературе, истории, географии и биологии я стабильно носил домой «пятёрки» да «четвёрки» и не слишком беспокоился в их отношении.
Но здесь на первый план совершенно неожиданно вышел человеческий фактор, показавший подростку всю глубину людской натуры и жестокости этого мира.
У меня, по собственному честному признанию, имелись некоторые сложности с рядом дисциплин. К таковым относилась, например, химия. Мало того, что я её не понимал, так ещё и вела предмет женщина-фурия со стальным характером, которая при каждом удобном случае припечатывала боящихся шелохнуться при ней учащихся фразой «Менделеев знал химию на пять, я знаю на четыре, все остальные – на три». Из данного незыблемого принципа она и исходила. Дама держала в страхе всю школу, включая меня, которому не единожды приходилось пересдавать контрольные и лабораторные работы, чтобы получить в четверти не «неуд», а хотя бы вожделенную «троечку». Каково же было моё удивление, когда она, узнав о моём предстоящем отъезде, вдруг вывела в дневнике «4». Я не поверил своим глазам, а мадам лишь хмыкнула и сказала, что после её занятий именно этому соответствуют мои знания для других учебных заведений. Конечно, она выразилась более прямолинейно, назвав всех остальных «школами для дебилов», куда мне, судя по её мнению, и была прямая дорога, однако нечто человеческое в тот краткий миг мелькнуло в её взгляде. Я был невероятно тронут неожиданной щедростью гарпии.
Ничуть не лучше обстояли у меня дела с алгеброй и геометрией. Перебиваясь с «тройки» на «двойку», я влачил весьма незавидное и скорбное математическое существование, которое, справедливости ради, разделял с тремя четвертями класса. Наш математик слыл человеком чересчур экзальтированным и в общем понимании малоадекватным. Он выбрал нескольких любимчиков, которые что-то понимали, и сконцентрировал на них свои педагогические усилия. Остальным тем временем оставалось подсчитывать выпадавшие на их долю неудовлетворительные оценки и стараться лишний раз не раздражать учителя, способного крайне нелюбезно, вплоть до рукоприкладства, отреагировать на малейший и самый безвинный проступок. Стоит сказать, что через некоторое время после моего отъезда его таки отстранили от работы за то, что он хорошенько приложил к стене одного учащегося.
Сами понимаете, что к такому субъекту инициативно подходить с вопросом о досрочной аттестации не имелось ни малейшего желания, поэтому я старался оттянуть этот «волшебный» момент. Дотянул до того, что в один прекрасный день он подошёл ко мне сам. Его горевшие демоническим блеском под сросшимися бровями глубоко посаженные глаза никогда ничего хорошего не предвещали. Когда он ко мне приблизился, я в очередной раз скукожился, ожидая новой подлянки, но тот на удивление миролюбивым голосом поинтересовался, действительно ли я уезжаю с родителями и, не моргнув глазом, поставил по обоим своим предметам «хорошо». У меня отвисла челюсть, а учитель простодушно пояснил, что просто не хочет портить мне аттестат. Вот так! Просто и по-человечески.
От физика, ещё одного странного преподавателя, встретившегося на моём жизненном пути, я подобного снисхождения не дождался, но, если говорить откровенно, ничуть на какую-либо щедрость и не рассчитывал. Он отличался нездоровой, поистине маниакальной привязанностью к своему предмету и требовал от школьников полной взаимности. При этом преподавал он плохо и непонятно, бубнил под нос нечто нечленораздельное, которое почти никто не понимал. Педагога ничуть данное обстоятельство не смущало, и он стабильно выводил в журнале ровные ряды не самых воодушевлявших оценок. Короче, получил я от него полагавшийся мне по всем статьям «тройбан» и на том удовлетворился. Спасибо, что «двойку» не влепил!
Зато откровенно удивила завуч, преподававшая у нас русский язык и литературу. Интеллигентная, стильная, красивая женщина, сын которой учился в параллельном со мной классе. Может я и не блистал на её предметах, однако ниже хороших оценок тоже редко опускался. В силу своей должности она первой узнала о моём переводе в другую школу, первой же отметилась досрочной аттестацией, поставив две «тройки» и с милой улыбкой пояснив, что если бы я остался до конца четверти, то непременно были бы традиционные для меня «четвёрки», но в сложившихся «чрезвычайных обстоятельствах» она, увы, в силу безусловной приверженности высочайшим стандартам профессиональной этики ничего другого поставить не в силах. Подчёркнуто горестно вздохнула, мило похлопала ресницами, ободрительно потрепала по плечу и отправила восвояси. Вот ведь какая… нехорошая женщина, подумалось мне.
С таким противоречивым багажом оценок и горестных дум я покидал стены учебного заведения, в котором проучился восемь с половиной лет. Будучи человеком привязчивым, мне виделось некомфортным расставаться и с классом, хотя каких-то близких друзей я там не завёл, со всеми общался ровно, но без дружбы, которая осталась бы на всю жизнь. Скорее всего, виной всему моя природная скромность и скрытность, отсутствие в том возрасте склонности и необходимости в тесном общении со сверстниками. Не могу сказать, что сильно от этого страдал, скорее удивлялся, что у некоторых других происходило иначе.
Впереди ждала встреча не только с новой страной, но и с новой школой и новыми одноклассниками, что пугало меня неизмеримо больше.
Дорога
В начале 90-х годов летали до Индии с дозаправкой. Маршрут авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Дели проходил через малоизвестный тогда город Дубай. По соображениям безопасности всех пассажиров на время заправки топливом выгоняли из самолёта в транзитную зону.
Аэропорт оказался новеньким, свеженьким и ультрасовременным, с огромной зоной магазина беспошлинной торговли, что создавало разительный контраст с имевшимся тогда в родном московском «Шереметьево» мрачным, каким-то полукриминальным «Дьюти Фри». Однако с практической точки зрения шоппинг нас едва ли тогда интересовал: у отца в кармане лежали последние, скромные, оставшиеся после сборов в дальнюю дорогу десять долларов, которые существенно ограничивали покупательную способность нашего семейства.
Но посмотреть было на что. Ломившиеся от обилия и разнообразия полки с алкоголем, сигаретами, косметикой и парфюмерией никак меня тогда не интересовали, зато поразили новенькие автомобили, размещённые в центре зала, и почему-то запомнились продававшиеся там шикарные наборы для гольфа, призывно блестевшие хромированными элементами под яркими софитами. Такого мы в России ещё не видели. Вообще аэропорт больше напоминал люксовый торговый центр из американских фильмов, пестрел вывесками бутиков, светился рекламой. Среди развешенных плакатов были и огромные баннеры, рекламировавшие Дубай как туристическое направление. Мы про себя посмеялись: кто вообще знает об этом месте и что тут делать?
Полуторачасовой транзит в аэропорту стал первым моим соприкосновением со страной со странным названием Объединённые Арабские Эмираты. Что осталось в памяти? Безоблачное голубое небо и сухой зной, который обдал нас при выходе из самолёта. Чувствовалось, что где-то рядом море: нотки солёного воздуха нежно щекотали ноздри. По краям лётного поля виднелся золотой песок и пустыри, переходившие в небольшие барханы. Хотелось увидеть на одном из них верблюда. В моём разумении он вполне органично вписался бы в этот незатейливый антураж Богом забытого, неразвитого и небогатого места.
При посадке мы видели скромные рыбацкие деревушки, маленькие домики, узкие асфальтированные дороги с редкими автомобильчиками. На взлёте в иллюминатор показалась другая часть города с несколькими вполне приличными и довольно высокими многоэтажными домами, ровными дорогами, уходившими за горизонт, в пустыню, и многочисленными строительными площадками, заставленными кранами. Видать, Дубай не такой уж и зачуханный, есть надежда на какое-то развитие.
На календаре был 1992 год, до начала дубайского чуда оставалось совсем немного времени.
Добро пожаловать
Аэропорт города Дели сильно отличался от только что виденной авиагавани в Дубае. Я сидел возле иллюминатора и с жадностью всматривался в открывавшиеся при посадке виды, а они разнообразием не отличались. Казалось, что вся земля заполнена жильём, такими-то малюсенькими лачугами, хлипкими домишками, огромные кварталы, изредка прорезаемые практически неразличимыми ленточками дорог. Ни намёка на простор пустыни, на бескрайние джунгли, даже сельскохозяйственных полей не наблюдалось. Самолёт был уже совсем низко, а жилые массивы всё не заканчивались. Неужели лётчик так и будет садиться на крыши? Но, нет, мелькнул забор с колючей проволокой, плотно завешенной каким-то мусором и обрывками полиэтиленовых пакетов, показались рулёжные дорожки, шасси коснулись бетона взлётно-посадочной полосы. Прибыли! Добро пожаловать в Индию!
Здание аэровокзала показалось мрачным и неприветливым, с низкими полотками. Но всматриваться во всю эту «красоту» времени не было. Возле трапа нашу семью встречали коллеги из посольства и представители «Аэрофлота», которые подхватили нас и ловко провели через паспортный контроль и таможню по «зелёному коридору» для дипломатов в обход выстроившейся очереди из обычных пассажиров. Дождались наш нехитрый багаж, состоявший из нескольких картонных коробок, надёжно проклеенных широким скотчем и искусно перевязанных шпагатом, из которого делались удобные ручки. Так красиво и компактно упаковывать вещи мог только наш папа, изрядно набивший на этом руку во время предыдущей командировки. Настоящий талант, который я безуспешно пытаюсь копировать на протяжении всей жизни, однако, честно признаюсь, его высот так и не смог достичь.
Загрузились мы в ожидавшие нас две или три посольские машины и небольшим кортежем двинулись к месту будущей постоянной дислокации. Мелькавшие за окнами панорамы городских магистралей не слишком воодушевляли: сумбур, грязь, всюду люди, хаос на дороге. Дворцов махараджей пока видно не было, слонов – тоже. Первое впечатление далеко от ощущения любви с первого взгляда.