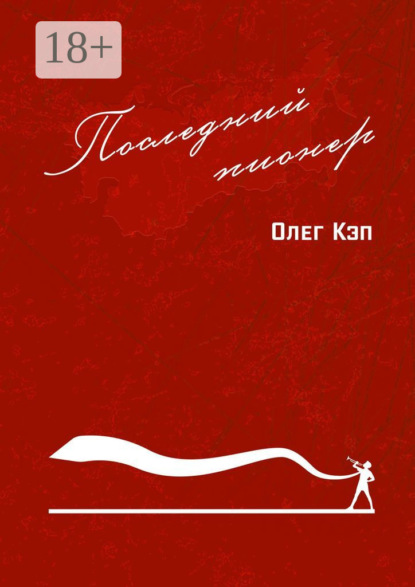- -
- 100%
- +
Аттракционы были просто шикарные, по тем временам. В других парках не было ни комнаты страха, ни американских горок, а здесь и то, и другое, и еще куча всего. В комнату страха и на американские горки меня не пустили родители, ибо мал слишком. Пришлось довольствоваться аттракционами «для малышей». Так хотелось туда… Туда, где визжат от восторга и страха, откуда все выходят радостные и возбужденные. Они там, а я здесь, на детской карусели. Обидно…
Я был раздосадован до предела. Столько времени мечтал попасть в этот парк, а тут такой облом. Вид у меня был самый жалкий и несчастный. Родители сжалились надо мной и предложили компромисс – в комнату страха и на горки отведут, когда исполнится 10 лет, а пока карусели и жвачка Pedro.
В магазине продавались жвачки, но только советские. Они назывались «Ну погоди!» и были так себе, невкусные. Pedro же были мечтой всех ташкентских мальчишек. Стоила жвачка целых 60 копеек, для меня – целое состояние. Долго упрашивал родителей купить не одну жвачку, а две. Когда уговорил, сиял от счастья. Ведь одну можно сохранить до понедельника и принести в школу.
Нас с первого класса учили всем делиться. Если кто-то что-то принес в школу, надо поделиться с одноклассниками. Это был закон для всех. Куличи, чак-чак и даже жвачки. Я уже не помню, на сколько кусочков мы расчленили бедного Pedro, сколько было желающих его отведать. Помню только, что кусочки были крохотными.
Зато дома меня ждала целая жвачка. Ее открыл еще в Лунапарке и жевал дня четыре точно, если не больше. Жевал бы и дальше, да только она стала разваливаться на части. Сначала пропал вкус и я раз за разом сыпал на нее сахар. Затем исчез алый цвет и она стала бледно-розовой. Пробовал натереть свеклой, отчего она окрасилась в фиолетово-сиреневый. Но и это не спасало, краска быстро сходила. Сходила с жвачки, но приставала к языку. А потом она стала распадаться на части и бабушка выкинула ее в мусорку, пока я играл во дворе.
Возвращаюсь домой, а жвачки нет. Поднял шум, спрашиваю: «Где жвачка?» Бабушка показала, где. О нет! Мое сокровище, моя прелесть лежит в мусорном ведре. Сердце кровью обливалось, чуть не заплакал. И смех и грех…
Тем летом мы с мамой отдыхали в Костромской области, на базе отдыха «Ветлуга». Страна менялась, в российской глубинке уже сложно было достать дефицит, что для меня, приехавшего из зажиточной Узбекской ССР было чем-то непостижимым. Но еще больше та поездка мне запомнилась песней «Яблоки на снегу», доносившейся из каждого приемника. Да что там из приемника, казалось, что каждый утюг и кипятильник навзрыд исполнял этот хит. Подними меня посреди ночи, скажи чтобы спел «Яблоки на снегу» и я спою. Она въелась в подкорку мозга.
По возвращении с базы отдыха произошло событие, которое потрясло меня – восьмилетнего пацана, до глубины души. 31 августа в Ташкенте пошел дождь. Вам смешно это читать, а для меня это было нечто сродни Апокалипсису. До тех пор я никогда в Ташкенте летом дождь не видел. Для меня нормой было – в апреле отшумели грозы и до конца сентября сухо. На том и рос. а тут посреди дня набежали тучи и начался ливень. Как сейчас помню те ощущения – растерянность, испуг. И ожидание чего-то плохого, очень плохого. Жизнь покажет, что те ощущения были не напрасно, но это будет потом, а пока, жизнь дарила последние беззаботные месяцы счастливого советского детства.
Осенью была Олимпиада в Сеуле. Это была первая олимпиада, которую я запомнил. Сборная СССР рвала всех в лоскуты. Моя двоюродная сестренка начала заниматься спортивной гимнастикой и мне понравился этот вид спорта. Поэтому старался не пропускать ни одной трансляции из гимнастического зала олимпийского Сеула. Что творили наши гимнастки и гимнасты, дух захватывало от их пируэтов.
Поскольку сестренка занималась гимнастикой в «Трудовых резервах», то персонально болел за Светлану Богинскую. Она была кумиром всех девчонок из «Трудовых резервов» в Ташкенте. И моей сестренки тоже.
Еще смотрел трансляции по легкой атлетике. Я сам неплохо бегал и физрук постоянно твердил, что мне надо развивать этот дар. Желание заниматься у меня было, но подводило здоровье – очень часто простывал. В секции же требовали справку из поликлиники об отсутствии болезней за несколько месяцев. Мне такую справку никто дать не мог. По той же причине не брали в секцию по плаванию. Наверно можно было решить вопрос взяткой, но родители были иначе воспитаны. Взяток давать не умели. Да им это даже в голову не приходило.
Я обо всем этом не думал, просто смотрел Олимпиаду и болел за наших. Отчаянно болел за Сальникова, который принес сборной СССР золото в плавании. Болел за наших бегуний, за наших прыгунов.
Когда Сергей Бубка готовился к решающей попытке, душа в пятки ушла. Сердце колотилось так, что казалось – еще миг и выпрыгнет. Но он взял высоту! Я сам в этот момент подпрыгнул от радости. Даже потом, когда Бубка станет выступать за Украину, всегда буду за него болеть. Кумир детства.
Во время олимпиады, или чуть позже, дома появились красочные импортные банки. Маме на работе к 7 ноября дали праздничный продуктовый набор с деликатесами. Среди них были и эти банки. Красивые, с олимпийской символикой.
Часть из них была с каким-то джемом. Вкусный был джем, ничего плохого не скажу. И была банка с сосисками. Чудно так, импортные сосиски. Вкусные наверно… Слюнки текли, страсть как хотелось попробовать..
До праздника их беречь не стали, сварили на ужин в тот же день. Для сравнения сварили и обычные сосиски, советские. Ужин готов, пробуем. В предвкушении чего-то удивительного беру вилкой импортное чудо, кусаю и… на лице гримаса удивления, разочарования, досады. Да они же совершенно безвкусные! Как трава.
Так я познакомился с вкусом «соевого мяса». На их фоне советские сосиски, про которые говорили, что они сделаны из бумаги казались шедевром кулинарии. Они-то как раз были сделаны из мяса. Кое-как дожевали импортный «деликатес» и благополучно забыли об этом казусе.
Кто мог тогда знать, что пройдет десяток лет и наша пищевая промышленность перейдет на «современные стандарты». Что с прилавков магазинов исчезнут колбасы и сосиски из мяса, а им на смену придет соевая дрянь…
Самым же ярким событием того года стала поездка в пионерский лагерь. В честь окончания первого класса, родители раздобыли для меня и двоюродного брата путевки в пионерлагерь «Лайнер».
Лагерь был ведомственный, принадлежал авиазаводу имени Чкалова и находился в горах Ташкентской области. Авиазавод был гигантом, там трудились десятки тысяч человек, было при заводе свое конструкторское бюро. Завод процветал, имел самую лучшую инфраструктуру, в том числе, несколько домов отдыха и пионерлагерей в Узбекистане и других республиках Средней Азии. Одним из них был «Лайнер». Не лагерь, а сказка…
Представьте себе, 1988 год: каждый день кино, несколько полноразмерных бассейнов с дорожками, прокат не только велосипедов, но и скейтбордов. Скейтборды только-только появились в СССР, везде их было не достать. А здесь – сколько хочешь. Ко всему прочему: горы, прогулки на катере по горному водохранилищу, шведский стол в столовой. С пирожными, Фантой, Кока-Колой, свежими фруктами в ассортименте.
В Ташкенте было полно Пепси, а вот Кока-Кола была в диковинку. Нечасто она встречалась в магазинах, видимо не на местных заводах ее разливали. А в пионерском лагере – хоть упейся. И все это удовольствие стоило нашим родителям 6 рублей с копейками.
А теперь скажите мне, что это был не коммунизм. Самый настоящий коммунизм, в отдельно взятом пионерлагере. И этот пионерский лагерь был не единственный, где детям создали идеальные условия отдыха. Десятки подобных лагерей каждый год принимали тысячи школьников. И все они были доступны для простого ташкентского рабочего, инженера, служащего.
Предвидя скепсис, что все так прекрасно быть не могло, скажу следующее: ребенку свойственно идеализировать свое детство, но помимо этого, в Ташкенте тогда и правда неплохо жилось. Узбекская ССР поставляла стратегическое сырье – хлопок. Сырья требовалось много и местные руководители хорошо поняли правила игры – даем хлопок и получаем все плюшки. А плюшек давали из центра щедро: никакого дефицита в магазинах, отличные дороги, газификация всей республики, массовое жилищное строительство и отсутствие коммуналок. Правда, каждый год происходили ЧП при перевозке, прямо в железнодорожных вагонах сгорало (согласно официальным бумагам) около миллиона тонн хлопка. И так год за годом…
Понятное дело, что пожары были для вида, как ограбление магазина в «Операции «Ы». Столько хлопка республика дать не могла, при всем желании. Хоть все хлопком засади, каждый клочок земли. Доходило до того, что на окраинах города вместо цветов в клумбах сажали хлопок. Все все знали, все все понимали, но делали вид, что действительно хлопок сгорел при перевозке.
И за весь этот хлопок, в том числе и якобы сгоревший, республика получала из центра хорошие деньги. А еще были самолеты ИЛ с авиазавода имени Чкалова (ТАПОиЧ), тракторы с ТТЗ, комбайны с Ташсельмаша, золото и уран из Навоийского горно-металлургического комбината и многое-многое другое, что тоже приносило деньги в бюджет Узбекской ССР.
Денег хватало на построение коммунизма в отдельно взятой республике. А про столицу республики и говорить не приходится – Ташкент катался как сыр в масле. До такой степени, что холодильник «Минск» проще было купить в столице Узбекистана, а не в столице Белоруссии. Звучит как анекдот, но так и было.
Я был еще совсем мелким, но хорошо запомнил, что не существовало проблем с Пепси, «птичьим молоком», тем более не было проблем с колбасой, сыром. Эти продукты дома не переводились. А ведь семья у нас была самой обычной, со средним достатком.
Кто знает, как долго эта идиллия могла бы продолжаться, возможно, что и долго. Однако, жизнь решила по-своему… Настал год 1989-й.
5. 1989. «Езжай в своя Россия!»
Год этот стал переломным, по крайней мере для меня. Тогда закончилось мое беззаботное детство, и для маленького мальчика из Ташкента началась эпоха перемен и потрясений.
Понятно, что изменения в стране уже были. Изменения глубокие, коренные. Экономика менялась, кооперативы появились, видеосалоны с американскими фильмами выросли как грибы после дождя. Однако, все это было хоть и необычно, но не было ощущения крушения всей прежней жизни. Страна оставалась советской, своей, родной. Радовались серебру сборной СССР по футболу на Евро-1988, триумфу сборной СССР на Олимпиаде в Сеуле. Когда в Карабахе началось противостояние, это воспринималось как нечто странное, непонятное, но вскоре произошло землетрясение в Спитаке и вся страна бросилась помогать пострадавшим. Конфликт сошел с полос газет и выпусков новостей. А дальше все (в сознании советского мальчишки, росшего с мечтой о покорении космоса) затмил полет «Бурана».
До сих пор помню, как родители подарили модель этого космического корабля, который я тщательно собирал и склеивал. Кусочки пластика соединились и превратились в модель красивого белоснежного корабля. Не только меня мечты уносили в глубины вселенной. Такие модели разошлись по стране сотнями тысяч и сотни же тысяч моих сверстников, которые так же мечтали стать космонавтами, грезили о полете на этом самом «Буране».
Беды 1989 года для меня начались с семейной трагедии – умер отчим. Человек с добрейшим сердцем и золотыми руками. К сожалению, сердце у него было не только доброе, но и больное. Врожденный порок сердца, который не в состоянии тогда была излечить наша медицина. Этот человек для меня стал настоящим отцом. Им он для меня, навсегда, и останется.
Было больно видеть, как он угасает. Угасает на глазах. Такой веселый, остроумный, добрейшей души человек. Он мучился, но продолжал бороться со своим страшным недугом. В апреле 1989 его не стало. Остановка сердца, клиническая смерть, реанимация, отказ внутренних органов и снова смерть. Уже без шансов на спасение. Он умер не дожив даже до сорока лет.
Годы спустя мне не раз приходила мысль, что отчим с его слабым сердцем, вряд ли смог бы пережить 90-е. Завод, на котором он работал, фактически закроется через несколько лет. Сотни рабочих этого завода сначала будут сидеть на хлебе и воде, а затем окажутся на улице. Без денег, без работы, без перспектив. Может и к лучшему, что он не увидел всего этого…
А потом полыхнуло в Ферганской долине. Я был еще совсем мелкий и взрослые не всегда просвещали о проблемах. Рос себе и рос советским школьником, в духе интернационализма. А тут такое…
Проблемы появились, еще когда был жив отчим. Мама рассказывала, что однажды он ехал на работу и увидел на балконе многоэтажки плакат «Русские в Рязань, татары в Казань!». Мне, естественно, об этом никто ничего не сказал тогда. Но, уже по нашему двору было понятно, что происходит нечто странное, неприятное. Вчерашние друзья -узбеки стали смотреть косо, огрызаться, без повода лезть в драки.
Один раз я проснулся посреди ночи, пошел в туалет и услышал разговоры взрослых на кухне: бабушка рассказывала маме, как ей нахамили на базаре. Она хотела купить полкило грецких орехов и ей нахамил какой-то молодой продавец. Если раньше продавцы без проблем взвешивали полкило и давали еще «с походом» (с довеском), то теперь она услышала: «Не хочешь брать килограмм – езжай в своя Россия».
Пока отчим болел, нашей семье было не до политики, не до межнациональных вопросов. Обсудили взрослые, повозмущались, да забылось все. А потом его не стало. Мама долго приходила в себя, плакала по ночам, думая, что я уже сплю. Тогда, на семейном совете было решено, что надо сменить обстановку и куда-нибудь уехать на несколько недель, благо у меня наступили летние каникулы. Мама достала путевки для себя и меня на озеро Иссык-Куль, что в горах Киргизии. Было это в конце мая 1989 года.
Иссык-Куль – место фантастическое. Если есть возможность туда поехать – езжайте не раздумывая, не пожалеете. Горы, море цветов вокруг и огромное соленое озеро, воды которого уходят далеко за горизонт. Одна беда, стоит зазеваться и ты становишься красный как рак. Солнце в горах термоядерное, получаса на пляже хватает для получения солнечного ожога, поэтому надо брать крем от загара, да помощнее. Казалось бы, мы с мамой из Ташкента родом, люди к солнцу привыкшие, чего нам бояться? Оказалось, есть чего… В общем, обгорели мы в первый же день и пришлось сидеть в номере, с головы до ног обмазанными всевозможными кремами.
Ожоги сошли за несколько дней, как раз в это время отгремели последние грозы (с дождем и градом) и наступило настоящее лето. Тот, кто не бывал в горах, вряд ли поймет мой тогдашний восторг. Сейчас-то, по прошествии многих лет, Иссык-куль вспоминается как сказочное место, а тогда восторгам не было предела. Еще бы… из мегаполиса с кучей заводов, фабрик, автомобилей выбраться в места, где воздухом дышишь и надышаться не можешь, до того он чист. В каждом горном ручейке ледяная кристально чистая вода, которой не можешь напиться – хочется еще и еще. И цветы, цветы, цветы… Такой расцветки у ирисов, как там, я в жизни не видел ни до, ни после. А еще гигантские живые ковры из алых тюльпанов на склонах гор. Завораживающее зрелище.
Посреди этой красоты нас и настигли новости про резню в Ферганской долине. В новостях, поначалу, масштабы трагедии сильно приуменьшали. Запомнились слова, что все это раздули СМИ, и что была «обычная драка» из-за «тазика с клубникой» на базаре. Но слухи распространились быстро, благо от киргизского Иссык-Куля до Ферганской долины не так и далеко, километров 450. И слухи эти не радовали: рассказывали о сотнях и тысячах замученных, убитых и заживо сожженных турках-месхетинцах. В голове не укладывалось, как можно убивать только за то, что ты – не узбек? Как можно сжечь человека живьем? Избить, замотать в ковер и поджечь… Можете представить ужас, охвативший людей, десятилетиями (после Великой Отечественной войны) живших в мире. Можете представить и мой ужас, ужас девятилетнего ребенка, на чьих глазах рухнула вся спокойная жизнь.
А слухи шли и шли нескончаемым потоком, начали говорить о погромах не только турок-месхетинцев, но и армян, русских. Что делать? Можно ли возвращаться домой в Ташкент, или бежать? И куда бежать?
Сами понимаете, в 1989 году никаких сотовых телефонов в СССР не было, вся связь только через стационарные телефоны в домах, организациях, уличных таксофонах и на пунктах междугородной связи.
Пункт междугородной связи был оккупирован с самого утра и до самого вечера, все звонили родным, друзьям, знакомым. У нас в Ташкенте осталась бабушка, до нее мы и пытались дозвониться. Связь работала плохо, дозвониться было практически нереально. Сейчас я понимаю, что линии были перегружены выше всяких пределов, а тогда все верили слухам, что связь специально глушат власти.
Ближе к ночи нагрузки на телефонную связь спали и до Ташкента удалось дозвониться. Бабушка в эти дни жила на осадном положении, не выходя из дома. Приготовилась к возможным погромам и поджогам, как могла – протянула по квартире шланги, подключила к водопроводу. Если бросят в окно бутылку с зажигательной смесью, оставалось только повернуть краны и пустить воду, чтобы потушить пожар.
Ситуация была напряженная, хотя в Ташкенте погромов не было, рассказывали о погромах в ближних пригородах. Сколько не искал подтверждения этому, ничего не нашел. Видимо, кто-то специально нагнетал ситуацию, в своих интересах. Толпа же мгновенно подхватывала новый слух и разносила по всему городу. А возможно, что-то и было, но не получило огласки в СМИ. Не берусь утверждать.
Так или иначе, а было тревожно. Обдумывали родители и вариант переезда, но вскоре ситуация стала успокаиваться. Внутренние войска ввели в Ферганскую долину, на окраинах Ташкента солдатами усилили милицейские посты. Еще через неделю в Ташкенте ситуация пришла в норму, тут и наш отпуск на Иссык-Куль подошел к концу, пора ехать домой.
Сколько себя помню, всегда в Ташкент возвращался с удовольствием. Родной город, родной район, родной двор. Все свое, все родное. А тут… Тревога в глазах мамы, тревога у меня на душе.
К счастью, в Ташкенте и правда было спокойно. Ну как спокойно… Не стреляют, не убивают – уже хорошо. Но людей было не узнать. Вчера еще жили тихо, спокойно, мирно, а сегодня уже смотрят волком друг на друга. Если до этих событий случаи конфликтов на межнациональной почве было раз, два и обчелся, то теперь они происходили регулярно. Чуть ли не каждый день.
Словно по мановению чей-то недоброй, но волшебной палочки, вчерашние друзья стали врагами. Повсеместно стало раздаваться: «Вали в Россию», «Скоро вас всех выгоним». Кто эти мысли внушал не знаю, однако нашлось немало тех, кто их впитал и принял как руководство к действию. Драки между русскими и узбеками вспыхивали везде и всюду. И все тот же мотив: «Уезжайте!», «Вы здесь чужие».
Затем, как по команде, начались разговоры о том, что когда выгонят всех русских, «узбеки будут купаться в золотых ваннах». Ключевое слово «когда». До этого, чаще употреблялось «если». Тут уже внедрили мысль, что это обязательно произойдет. До развала Союза было еще целых два года, мало кто мог даже подумать о таком. Но кто-то решил (либо знал), что так будет и убедил других.
Летом 1989 мама и бабушка регулярно смотрели объявления об обмене. Частной собственности на квартиры не было, но можно было сделать обмен. В том числе, обмен квартир в разных городах. Но желающих, сами понимаете, после прогремевшей на всю страну ферганской резни, не было.
Неделя за неделей проходили, пришла осень, новый учебный год и вместо обычных детских разговоров, у 9-ти летних пацанов, начались разговоры о том, кто и куда уедет. Я был уверен, что и мы скоро уедем, но жизнь распорядилась иначе – обмена мы так и не нашли.
Но многие уезжали. Город, как уже упоминал ранее, был интернациональным. В конце 80-х для евреев и немцев открылись двери в Израиль и Германию. Руководство СССР эти двери открыло. Соседний с моим квартал заметно опустел, там, как раз, проживало много евреев и немцев. Из класса несколько человек туда уехали. Затем крымские татары стали перебираться в Крым. И вот наступила очередь для русских уезжать из Ташкента.
Кто-то, тогда, окольными путями через фиктивные браки умудрялся продавать квартиры и уезжать. У нас такой авантюрной жилки не было, обычная законопослушная советская семья. Сидели и ждали лучшего. Либо обмена, либо нормализации ситуации. Подходящего варианта обмена трехкомнатной квартиры, в неплохом районе Ташкента, так и не нашлось, а ситуация действительно нормализовалась, как только во главе республики встал Каримов.
Понятия не имею, было ли это взаимосвязано, но при Каримове в Ташкенте ситуация быстро пришла в норму. Если из других регионов приходили жуткие новости и слухи, о том, как люди бросают все и бегут, спасаясь от погромов, убийств, изнасилований, то в столице Узбекской ССР общественный порядок навели быстро. Русскоязычное население, с облегчением на душе, встретило новость о новом главе республики, узнав, что жена у него русская. На самом деле, Татьяна Каримова только наполовину русская: отец таджик, мать русская, но мы тогда таких подробностей не знали. Везде упорно твердили одно – она русская и точка.
Поднявшие было голову, националисты и исламисты, с явным неодобрением восприняли это назначение. Им Каримов был как кость в горле: и жена русская, и говорит по-узбекски плохо, и родом из Самарканда. Первые два обвинения понятны и без разъяснения, а вот по последнему надо сделать отступление от повествования. Попробую растолковать, почему же факт рождения в Самарканде для узбекских националистов было «черной меткой».
Самарканд – город древний, практически ровесник Рима. Там до сих пор сохранились остатки стены Александра Македонского. Когда в 20-х годах была образована Узбекская ССР, столицей новой республики стал Самарканд. Ташкент получил столичный статус пятью годами позже. Казалось бы – первая столица Узбекистана, туристическая жемчужина республики, и на тебе – на его уроженцах «черная метка»… Все дело в том, что Самарканд – город таджикский. Находится в Узбекистане, самый известный за рубежом узбекистанский город, но основное его население – таджики.
Знакомый узбек рассказывал такой случай:
«Приехал, я как-то, по делам в Самарканд. Зашел в ближайшую чайхану и вижу, что чайханщик явный узбек, а не таджик. Обратился к нему по-узбекски – молчит. Повторил погромче – молчит. При этом, отвечает другим посетителям, которые обращаются на таджикском и на русском. Решил обратиться на русском – моментально ответил и принял заказ.
Дальше – больше, Решил дождаться, когда будет поменьше посетителей, а значит – будет меньше лишних ушей. Выждал момент, когда все разошлись и заново подошел к чайханщику. Спрашиваю:
– Ты чего не отвечаешь на узбекском? Ты же узбек! Я слышал, как другие тебя называли узбеком.
Чайханщик с грустным видом ответил:
– Ты извини брат, но иначе нельзя. Мне тут жизни не будет, если буду на узбекском говорить, а мне семью кормить надо…
– Но почему? Мы же в Узбекистане живем. Здесь же полно узбеков, вы чего это терпите?
– Самарканд – город таджикский, здесь такие правила.»
За правдивость этой истории головой не ручаюсь, но подобных рассказов слышал множество. Знакомые ташкентские узбеки, в приватных беседах, откровенно говорили, что «самаркандских» на дух не переносят. Будь ты хоть самым чистокровным узбеком, многие будут считать тебя таджиком. Никакие документы, подтверждающие родословную от самого хана Шейбани (он привел кочевых узбеков на территорию современного Узбекистана в 16 веке) не убедят в обратном. А все потому, что в советские времена многие таджики Самарканда при переписи и выдаче паспортов записали себя в узбеки. Имея в графе национальность запись «узбек» было проще продвинуться по служебной лестнице, чем имея запись «таджик».
Тут стоит рассказать о взаимоотношениях народов Средней Азии и Казахстана. Многие сейчас не понимают, как могут враждовать близкие по крови и вере народы. Например, как могут воевать, между собой, братские славянские народы на Донбассе. Я же могу сказать, что вражда народов не редкость, а скорее обычное явление. В Средней Азии все не любят всех и это чистая правда. Узбеки терпеть не могут таджиков, казахи – узбеков и т. д. Спросишь, почему – начинаются долгие и путанные объяснения кто у кого тысячу лет назад «яблоки понадкусывал». Одни других не любят за «излишнюю предприимчивость» (проще говоря – за хитропопость и природную натуру барыг), в ответ раздаются обвинения в природной многовековой лени (поверьте, это обвинение не является чисто украинским и прибалтийским ноу-хау). Еще об одном народе слышал такую версию причины давней неприязни – предатели, которые всех и всегда предают. Короче, полный набор.
Претензия по историческому прошлому тоже в тех краях известна: один народ предъявляет современным узбекам претензии из-за Тамерлана (речь о событиях аж 14 века). Тамерлан (он же Амир Тимур), как рассказывают из поколения в поколение аксакалы, ради строительства своего дворца Ак Сарая приказал собирать у одного подвластного народа грудное молоко. По легенде, кто-то посоветовал ему использовать женское грудное молоко для улучшения качеств раствора, которым скрепляли кирпичи. Под раздачу попало 40 тысяч рожениц, у которых отбирали половину молока. В итоге, дети этих рожениц умерли, не получая полноценного питания. Прошли века, дворец Ак Сарай давно исчез с лица земли, а память об этом эпизоде осталась. И эту память используют как предлог для неких претензий в наши дни.