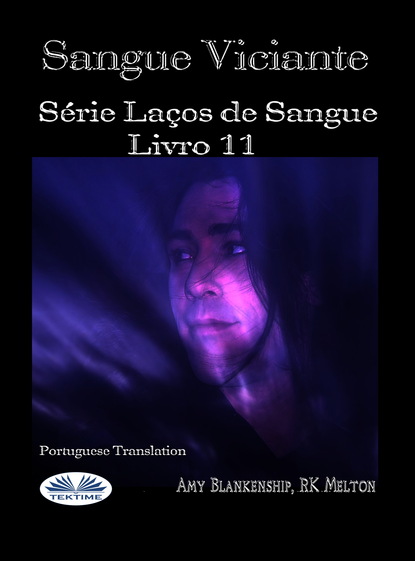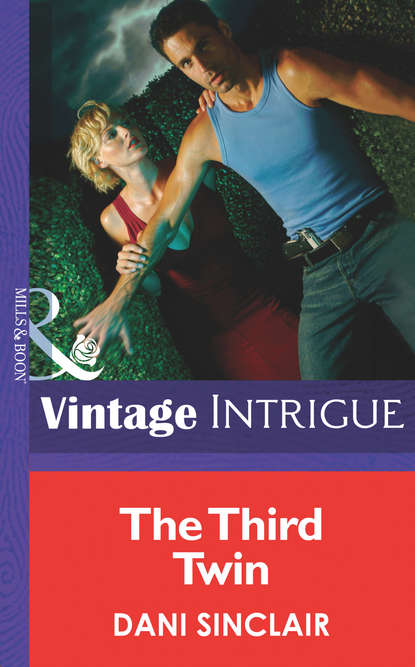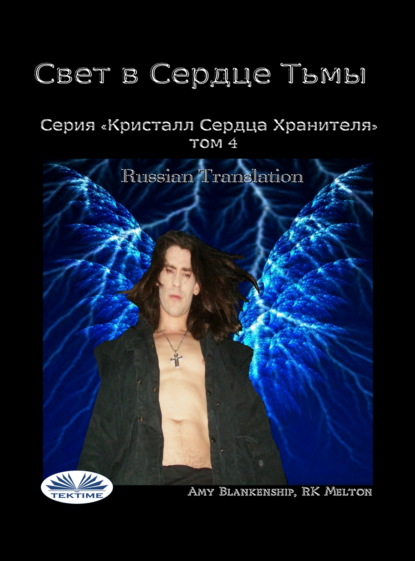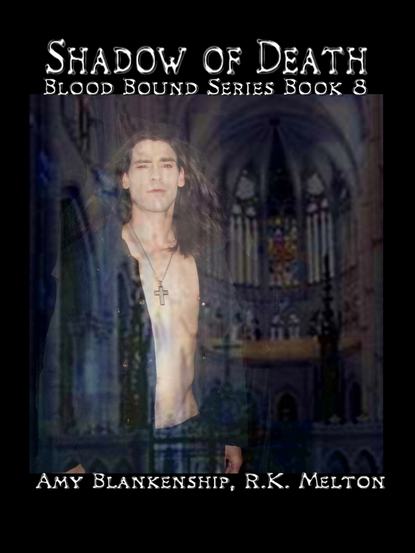Великий шелковый трансфер «фотонов Аполлона». Из цикла «Волшебная сила искусства»
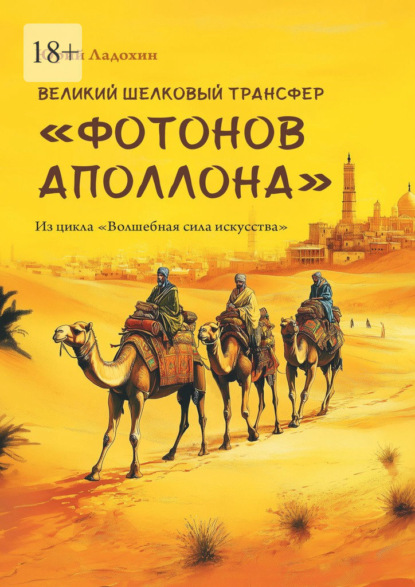
- -
- 100%
- +
Вторым наиболее значимым признали объект, расположенный на территории ближайшей к Китаю страны: «В 1999 году в список ЮНЕСКО были внесены „Горные железные дороги Индии“. Этот объект Всемирного наследия включает три железные дороги: дорогу Дарджилинг в Гималаях; дорогу Нилгири в штате Тамил-Наду и дорогу Калка – Шимла. Самая известная из этих трех – Гималайская железная дорога Дарджилинг была построена самой первой. Она и поныне является выдающимся образцом пассажирской железной дороги, проложенной в горах. Открытая в 1881 году дорога отличается смелыми инженерными решениями, применёнными для обеспечения эффективного железнодорожного сообщения в чрезвычайно живописной горной местности» (Там же).
Для равновесия эксперты ЮНЕСКО не могли, пожалуй, не приветить еще одну горную дорогу, теперь уже в альпийском регионе: «Ещё одним примером горных железных дорог является „Ретийская железная дорога в Альпах“. Номинация была представлена Италией и Швейцарией и включена в список Всемирного наследия в 2008 году. Она объединяет две железнодорожные линии, пересекающие перевалы швейцарских Альп, завершение строительства которых относится к 1904 г. По железной дороге Альбулы, на всей ее 67-километровой протяженности встречается большое количество конструкционных сооружений, включая 42 туннеля и крытых галереи, 144 виадука и моста. Линия Бернины (61 км) насчитывает 13 туннелей и галерей, 52 виадука и моста» (Там же).
И лишь затем очередь дошла до Южной Америки и объекта, являющегося главным персонажем нашей книги: «Уникальным объектом Всемирного наследия являются „Дороги инков в Андах“, номинированные в 2014 году несколькими южноамериканскими странами (Аргентина, Боливия, Чили, Перу, Эквадор, Колумбия). Этот сложный объект представляет систему торговых и военных дорог – путей сообщения инков, распространявшихся некогда на 30000 км. Она сооружалась инками в течение нескольких столетий и достигла своего расцвета к XV в.» (Там же).
И вот чем, по мнению специалистов авторитетной организации, замечателен ВШП: «Не менее уникальным и протяженным является ещё один объект Всемирного наследия, представляющий исторические пути. Это «Великий шёлковый путь: сеть дорог в Чаньань – Тянь-Шаньском коридоре». Он является совместной номинацией Китая, Кыргызстана и Казахстана, включенной в список наследия ЮНЕСКО в 2014 году. Объект представляет собой 5000-километровую часть обширной системы ВШП, простирающуюся от Чанъаня и Лояна – главных столиц Китая при династиях Хань и Тан, до района Жетысу (Семиречье) в Центральной Азии. Эта система сформировалась между II в. до н.э. и 1 в. н.э. и использовалась до XVI в., соединяя множество цивилизаций и обеспечивая активный взаимообмен в торговле, религиозных верованиях, научных знаниях, технических новшествах, культурной деятельности и искусствах. Система включает 33 компонента объекта (22 из которых – в Китае, 8 – в Казахстане и 3 – в Кыргызстане)» (Там же).
1.2. Улица с односторонним движением. Экономика Шелкового пути
Есть в Москве несколько улиц с односторонним движением: Туристская, улица Свободы, Планерная, Химкинский бульвар, Сходненская, Новопоселковая и др.
Любые аналогии хромают и поэтому не всегда уместны. Но здесь, на наш взгляд, параллели вполне возможны. Никто, пожалуй, не называл напрямую Великий шелковый путь улицей с односторонним движением, но, как писал в трактате «Свобода и прогресс» в 1732 году английский писатель и политик Юстас Баджелл «Факты – ужасно упрямая вещь».
Итак, «главными товарами на Великом шелковом пути были шелковые ткани и шелк-сырец. Они были наиболее удобны для транспортировки на дальние расстояния, поскольку шелк легок и очень ценен – в Европе его продавали дороже золота. Китай, родина шелководства, сохранял монополию на изделия из шелка примерно до 5—6 вв. н.э., но и после этого оставался одним из центров производства и экспорта шелка наряду со Средней Азией. В средние века Китай также экспортировал фарфор и чай. Страны Ближнего Востока и Центральной Азии специализировались на изготовлении шерстяных и хлопчатобумажных тканей, которые шли по Шелковому пути на восток, в Китай» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути», 09.01.2018).
Хорошо разбирающейся в финансах (в разные периоды жизни он был председателем Казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани) писатель М. Е. Салтыков-Щедрин в цикле очерков «Мелочи жизни» (1886—1887 гг.) с тревогой задается вполне бухгалтерским вопросом: «Со страхом спрашиваешь себя: куда мы, наконец, идем? какой получится в результате баланс?».
Думается, в свое время европейцы с не меньшей озабоченностью сверяли свой торговый баланс по результатам сделок на Шелковом пути. И на то были свои причины: «Западная Европа в торговле с Востоком всегда имела пассивный торговый баланс: покупая дорогие восточные товары, европейцы не могли предложить в обмен равного по качеству товара и были вынуждены платить золотом и серебром. С античных времен до конца своего функционирования Великий шелковый путь действовал как канал „перекачивания“ драгоценных металлов из Европы на Восток. Поскольку эта утечка полноценных денег ухудшала денежную систему, европейские правители пытались вводить ограничения на потребление восточных товаров и на вывоз на восток золота и серебра. Однако эти административные меры имели низкий эффект» (Там же).
И такой сценарий, выигрышный для развития восточных народов и, прежде всего, Китая, был связан «не только с развитием ремесленного производства и появлением новых технологий, но и с благоприятными политическими условиями. В самом начале зарождения Великого шелкового пути, на рубеже прошлого и нынешнего тысячелетий в Китае правила династия Хань, просуществовавшая около 400 лет и создавшая политически стабильные и благоприятные условия для крупных долговременных экономических изменений. В этот исторический период было значительно усовершенствовано сельскохозяйственное производство, строились дамбы, выплавлялись изделия из железа и меди, производилась лакированная посуда, развивалось производство шелка, который стал вывозиться в Среднюю Азию и в Римскую империю. Рост объемов производимой продукции и увеличение ее разнообразия, в том числе за счет использования новых технологий, обусловил рост потребности в международном обмене» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).
Добиться конкурентоспособности своих товаров в сравнении с восточными Западной Европе удалось только после промышленной революции (XVIII в.), когда изобретение паровой машины, паровоза и строительство железных дорог сделали возможным переход от мануфактуры к фабрике, а многие товары стали в разы дешевле и доступнее благодаря снижению их себестоимости в результате массового производства.
А теперь – крутой поворот, пусть и непродолжительный по времени. «Торговый баланс», «деньги», «конкурентоспособность» – не суховато ли получается? – ведь у нас книга про «фотоны Аполлона», т.е. про что-то изысканное, эмоциональное, сердечное. Вот где, например, у Земли СЕРДЦЕ? Вопрос нечаемый, но нашёлся человек, который на него ответил. Это английский географ Хэлфорд Маккиндер (1861 – 1947), который утверждал, что ход мировой истории определялся в прошлом, и наше время он по-прежнему продолжает определяться главным образом теми геополитическими процессами, которые имеют место в государствах Хартленда – «Сердца Земли», то есть Евразии.
Но сердце не может биться ритмично и безостановочно, если его не снабжают надежные, без закупорок и бляшек, коронарные артерии. В нашем случае (если рассматривать экономическую основу цивилизации) – это отлаженные, взаимовыгодные для всех участников, торговые пути.
До Великого шелкового пути их было много. Два первых из них с названиями, от которых у очаровательной половины человечества учащается ритм сердца – в предвкушении рандеву с чем-то изысканно-красивым.
Начнем с Великого нефритового торгового пути, который сложился еще в неолите: «Нефрит – полудрагоценный камень высокой прочности. Он использовался для изготовления оружия, орудий труда, а также украшений. В древности его добывали в районе озера Байкал (Саянские горы) и Восточном Туркестане (в оазисе Хотан Синьцзянь-Уйгурского автономного района современного Китая). В Древнем Китае из нефрита изготавливали государственные регалии и обрядовые предметы для религиозных церемоний, а также бытовые украшения. За нефрит китайцы платили шелком. Также из Прибайкалья нефритовый торговый путь шел на запад» (из статьи В. Гумилёва, Т. Юдина, А. Постникова «Торговые пути древней Евразии» // журнал «Гуманитарные научные исследования», №11, 2016 г.).
За ним – Янтарный путь: «На западной окраине Восточноевропейской равнины уже в III – II тысячелетии до н.э. янтарь и изделия из него стали важнейшим объектом международной торговли. Янтарные украшения и сам янтарь находят в больших количествах (счет идет на десятки тысяч) на огромном пространстве от погребений Зауралья до Ближнего Востока, Греции, Италии, Англии. Янтарные украшения встречаются даже в гробницах египетских фараонов. Янтарный торговый путь незримыми нитями связывал население регионов Европы, Азии и Африки» (Там же).
Третий важнейший торговый путь Древнего мира – Оловянный: «В России в эпоху позднего бронзового века, связанную, прежде всего с образованием и развитием Евразийской металлургической провинции, оловянная руда из месторождений на территории современного Казахстана, Алтая и Средней Азии доставлялась на запад (Приднепровье и Придонье) и северо-запад (Приуралье и Среднее Поволжье)» (Там же).
Великий шелковый путь превзошел предшественников и конкурентов не только разнообразием и объемами перемещаемых товаров, но и продуманной логистикой, сочетаемой с гибкостью принятия бизнес-решений: «Великий шелковый путь был караванным путем, по которому шли верблюды, и в силу их способности перемещаться по пустыням, выдерживать перепады температур, предчувствовать песчаные бури, находить источники пресной воды, а также перевозить значительную массу груза (предельная „грузоподъемность“ каждого верблюда составляет около 400 кг) в те древние времена и в тех конкретных, ландшафтных условиях верблюды были незаменимым транспортным средством. Особенно тщательно продумывалась и траектория движения каравана (маршрут), которая менялась под воздействием определенных обстоятельств» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).
Караван-баша, нацеливаясь на максимальную «барханную EBITDA» {прибыль до уплаты налогов} своей экспедиции, вместе с тем, должен был поневоле учитывать и другие сопутствующие факторы: «Не всегда маршрут формировался в направлении движения по наиболее благоприятной с точки зрения погодно-климатических и ландшафтных условий местности. Зачастую караван был вынужден идти по более сложной местности из-за угрозы набегов кочевников, грабителей, создававших риски для груза и торговцев. Именно поэтому определение угроз и быстрое реагирование на них, даже с учетом принятия непростых логистических решений, являлось важным условием жизнеспособности Великого шелкового пути, а использование значительных по площади контролируемых территорий представляло несомненное преимущество при формировании маршрута доставки товаров» (Там же).
«Деньги любят тишину» – как утверждал один из самых богатых людей за всю историю человечества Джон Рокфеллер, чье состояние в 1917 году оценивалось в 1 млрд долларов, что составляло 2,5% от ВВП США. Но и прибыльная торговля на Шелковом пути настоятельно требовала пусть не полной «политической безмятежности», то хотя бы относительной стабильности и твердой руки правителей: «Именно поэтому наибольший расцвет данный торговый путь получил в эпоху существования Римской империи (на рубеже прошлого и нынешнего тысячелетий), во времена китайской империи Тан (когда китайцы поставили под свой контроль почти всю Среднюю Азию, до Самарканда и Бухары), во времена Монгольской империи (XIII в.) и в эпоху Тимуридов (XIV—XV вв.). Огромные территории, находившиеся под контролем сильных властителей, формировали вполне определенные (в том числе и в результате подкупа) стабильные условия для перемещения товаров и развития торговли, что значительно снижало сопутствующие риски» (Там же).
Систематическое заключение немалых по объему торговых сделок между купцами разных стран требовало «использования общепризнанных денежных знаков. Не каждая из стран, активно участвовавших в трансевразийской торговле, могла выпускать золотые и серебряные монеты, которые только и ценились тогда во всех странах Старого Света. Поэтому купцы по всей Евразии активно использовали полноценные деньги немногих „сильных“ стран. Так, в раннее Средневековье по всему Великому шелковому пути, до Китая включительно, при расчетах пользовались золотыми византийскими и серебряными сасанидскими и арабскими монетами» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути», 09.01.2018).
И всё равно, наличных для расчетов постоянно не хватало.
Поэтому приходилось использовать бартерные сделки (товар на товар), оплачивая деньгами лишь разницу в стоимости партий.
Бартер не всегда был удобен, поэтому в ход шли и вполне себе новаторские финансовые ноу-хау: «Поскольку перевозить на далекое расстояние крупные суммы наличных денег было опасно, купцы Шелкового пути начали использовать чеки („чек“ в переводе с персидского – „документ, расписка“). Отправляясь на Восток, купец сдавал свои наличные деньги кому-либо из авторитетных менял в обмен на расписку. Эту расписку купец мог предъявить в тех городах Шелкового пути, где работали доверенные люди этого менялы-банкира, и получить вновь наличные деньги за вычетом платы за услуги. Система чеков на предъявителя могла работать, только если менялы из отдаленных городов Шелкового пути лично доверяли друг другу как членам одного религиозного сообщества. Поэтому чеки начали использоваться лишь примерно с 10 в., когда торговля на всем Шелковом пути стала контролироваться мусульманами и евреями» (Там же).
Шелковый путь активно влиял и на урбанистические процессы. В обстановке неизменности условий для бизнеса на пути перемещения караванов развивались и населенные пункты. «Огромные расстояния торговых маршрутов потребовали организации особых перевалочных пунктов – караван-сараев. Они являлись одновременно гостиницами и складскими помещениями. Здесь можно было не только остановиться на отдых, но и продать или купить товар, узнать цены и последние новости. Торговые пути, благоустроенные, с множеством караван-сараев, устроенных через определенные расстояния, колодцами, охранными пунктами в определенной мере служат показателем степени развития общества и государства как в социально-политическом, так и в экономическом отношении» (Там же).

Шелковый путь – не скоростной хайвей. Но он вполне мог потягаться с широкими автострадами XX—XXI веков в создании условий для зарождения новых больших городов: «Великий шелковый путь стал мощным стимулом развития городской цивилизации. Вдоль торговых путей расцветали древние и возникали новые города, выраставшие из торговых факторий, караван-сараев, ханских ставок. Перевалочные пункты на пути движения караванов становились не только местами отдыха торговцев, но крупными торговыми городами, ставшими центрами развития цивилизации. К таким городам можно отнести Самарканд (получивший развитие в эпоху Тамерлана), Каракорум в Центральной Монголии и многие другие» (Там же).
Считается, что именно с легкой руки работников винодельческой компании мадам Клико появилось широко известное выражение о риске и вознаграждении тем, кто пренебрегает возможными опасностями: «Самая знаменитая в мире вдова (после Черной вдовы) унаследовала от мужа винное дело и так основательно в него вникла, что смогла усовершенствовать процесс изготовления игристого. У новой технологии, правда, выявился побочный эффект. Бутылки в погребе иногда взрывались и могли сильно поранить осколками. Так и появилось выражение „Кто не рискует, тот не пьет шампанского“» (из статьи Остапа Петрова «Откуда взялось выражение „Кто не рискует, тот не пьет шампанского“», 14.05.2022).
В нашем случае, французский оборот речи преобразовался бы, пожалуй, в следущий наказ коммерсантам пустыни: «Кто не пошел с караваном, тот не пьет зеленый чай в Самарканде».
Фраза, казалось бы, ироничная, но кому-кому, а торговцам шелком и фарфором иногда было совсем не до шуток: «Несмотря на все меры защиты жизни и имущества купцов, караванная торговля по маршрутам Шелкового пути всегда была связана с высоким риском. Путь от Восточного Средиземноморья до Китая и обратно занимал обычно несколько лет. Многие погибали в дороге от болезней, непривычного климата, нападений разбойников или произвола правителей. Караваны шли через пустыни, ориентируясь на скелеты людей и верблюдов, повсюду лежащие вдоль маршрутов Шелкового пути. Когда купец умирал в чужом краю, его имущество обычно захватывал местный правитель, если только родственники или компаньоны покойного не успевали быстро заявить о своих правах на наследство» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути», 09.01.2018).
Что же взамен? – «Платой смельчакам была очень высокая прибыль. Средневековая арабская поговорка гласила, что купец едет из Аравии в Китай с тысячей дирхемов, а возвращается с тысячей динаров (динар равнялся примерно 20 дирхемам). Опасаясь за свою жизнь, однако, купцы редко проходили Великий шелковый путь из конца в конец (как Марко Поло); чаще они меняли свой товар в каком-то из промежуточных торговых городов» (Там же).
В одиночку даже самым храбрым было не пробиться на вершину коммерческого Олимпа, поэтому образовывались сообщества: «Сами купцы стремились для минимизации опасностей заниматься коммерцией не в одиночку, а конфессионально-этническими группами. Чтобы защищаться от грабителей, купцы отправлялись в опасный путь от города до города крупными караванами, состоящими из сотен и тысяч вооруженных людей. Известно, например, что при Тимуре, когда караванная торговля уже клонилась к упадку, в Самарканд раз в год приходил караван из Китая в 800 вьючных животных.
Меры самозащиты купцов, однако, могли защитить их лишь от мелких разбойников, но не от произвола правителей и не от нападений кочевых племен. Однако и государства, и кочевники объективно были заинтересованы в сохранении торговых коммуникаций. Правители земель получали доходы от таможенных пошлин, взимаемых в городах вдоль караванных путей» (Там же).
Помогали и охлаждающие пыл лиходеев правовые акты: «Чтобы не потерять эти доходы, правители стран Азии принимали строгие законы, охранявшие купцов. Так, в империи Тимура та провинция, на территории которой ограбили купца, была обязана компенсировать ему потери в двойном размере и еще заплатить штраф самому Тимуру в пятикратном размере» (Там же).
1.3. Обмен знаниями за ужином с шурпой и пловом. Трансфер технологий на Шелковом пути
В караван-сараях за совместными ужинами коммерсантов из разных стран с шурпой и пловом обсуждались, думается, не только торговые сделки, но и шел активный обмен знаниями и технологиями: «В качестве примера можно привести получившее широкое распространение производство шелка, который изначально изготавливали только в Китае, а затем стали изготавливать в восточном Туркменистане, Иране и Греции. Так же обстояло и с бумагой, которую сначала европейцы покупали, а с XIII века стали изготавливать сами. Китайцы, в свою очередь, благодаря Великому шелковому пути освоили такие сельскохозяйственные культуры, как фасоль, лук, огурцы, морковь и пр. Таким образом, в ходе караванной торговли Запад заимствовал промышленные новшества, а Восток – сельскохозяйственные» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).
В нынешнем веке стартап-студии, которые создают и поддерживают инженерные команды, работающие над технологиями завтрашнего дня, – уже не редкость. Естественно, в эпоху Средневековья такого еще не было, но зачатки кое-где появлялись. Некоторые инновационные изделия, значимые для всей человеческой цивилизации, «возникли в результате своего рода „коллективного творчества“ разных народов Шелкового пути. Так, порох открыли в Китае в 9 в. В 14 в. было изобретено оружие, стреляющее при помощи пороха, – пушки. Место и время их изобретения точно неизвестны – специалисты называют и Китай, и арабские страны, и Западную Европу. Информация о новом виде оружия быстро прошла по Шелковому пути, и уже в 15 в., до эпохи Великих географических открытий, артиллерию применяли во всех странах Евразии, от Европы до Китая» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути», 09.01.2018).
Впрочем, «кулибины пустыни» могли творить и без иноземных помощников. Чего стоит, например, сооружение среди раскаленных песков колодцев под названием «сардоба»: «Уникальные инженерные сооружения располагались через каждые 12—15 километров пути и могли напоить караван из 150—200 верблюдов. Вода накапливалась в этих колодцах не благодаря наличию подземных источников воды, а при помощи оригинальной конструкции, способной получать воду из атмосферного воздуха» (из статьи Ольги Фроловой «Великий шёлковый путь: почему в колодцах посреди пустыни всегда была вода», 09.01.2018).
Это кажется невероятным, но «древние инженеры использовали вихревой эффект при постройке колодцев. Сама конструкция снаружи напоминала небольшой шатер, выполненный из камня, и имела несколько отверстий. Более половины колодца было погружено в землю, а чтобы добраться до воды, приходилось спускаться вниз по лестнице. Благодаря специальной конструкции крыши и боковым отверстиям, через колодец постоянно циркулировал пустынный воздух, объемы которого, по оценкам специалистов, достигали нескольких тысяч кубометров в сутки. Даже в раскаленном воздухе пустыни содержатся водяные пары. На этом знании и основана идея гениального сооружения. Попадая внутрь колодца, где, по воспоминаниям путешественников-арабов, всегда было прохладно, горячий воздух охлаждался и отдавал находившуюся в нем воду в виде капель» (Там же).

Кто же эти изобретатели-самородки, решившие одну из ключевых проблем пустыни – колоссальный недостаток питьевой воды? – «К сожалению, точных свидетельств о том, кто были эти древние строители, не сохранилось. Но исследователи полагают, что это были китайские инженеры. Ведь Великий шелковый путь играл важнейшую роль в экономике Китая, а руководство страны прилагало немало усилий для его процветания» (Там же).
Сам перечень передаваемых друг другу технологий амбассадорами из Азии и Европы настолько обширен, что диву даешься. Вот те, что, например, циркулировали с Востока на Запад: «Технологии разведения тутового шелкопряда и шелкоткачества; технологии изготовления бумаги; технологии изготовления и применения пороха; технологии изготовления фарфора; культура выращивания и употребления чая; технология изготовления лаковых изделий; технологии добычи и использования природных красителей; технологии изготовления хлопчатобумажных тканей; технологии производства парфюмерных изделий; технологии обработки древесины, кож, металлов, ковроделие, гончарное дело и др.; приемы выращивания и использования породистых лошадей и др.» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).
Список техничеких новаций, шедший в обратном направлении, возможно, менее внушителен, но тоже впечатляет: «С Запада на Восток: виноградарство и виноделие; овощеводство и садоводство; технологии варки стекла и изготовления стеклянных изделий; технологии изготовления шерстяных, хлопчатобумажных и льняных тканей; технологии изготовления гобеленов; технологии производства и обработки металлов; технологии изготовления колесных экипажей; технологии изготовления оружия и военного снаряжения и др.» (Там же).
Практически непрекращающийся поток технических новинок и инновационных идей с азиатских просторов в европейские города был обусловлен высочайшим для времен Средневековья уровнем технологического развития Китая: «Едва ли не половина важнейших изобретений и открытий, на которых зиждется сегодня наша жизнь, пришла из Китая. Не придумай древние китайские ученые таких мореходных и навигационных приборов и устройств, как румпель, компас и многоярусные мачты, не было бы великих географических открытий. Колумб не поплыл бы в Америку, и европейцы не основали бы колониальных империй» («Взаимовлияние китайской и западной культур», 04.01.2025, https://vuzlit.com/557121/vzaimovliyanie_kitayskoy_zapadnoy_kultur).